ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
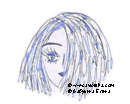


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
Антон и
Антонина были парой будто на заказ.
Будто кто-то хорошо подумал, прежде чем
свести их вместе. Даже имена схожие
подобрал, чтоб не сомневались, встретясь.
Ростом оба высокие, и Антон, как и
положено мужчине, чуть-чуть, так на
полголовы, выше Антонины. И стать у обоих
легкая, хоть уже дочь выдали замуж, и
сын, младший их, в армию ушел. За сорок
им наверняка перевалило.
Тоня и
стройна, но, как и положено женщине,
округла, гладка, что руки, что ноги, что
талия — высокая, по-девичьи, и гибкая.
И живот, как у девчонки,— плоский, словно
и не рожала.
Антон, когда сидит он
после смены на ступеньках своего крыльца,
прислонясь спиной к косяку двери, и рука
вместе с сигаретой легко покоится на
высоком колене, вообще похож на какого-то
киногероя, не нашего, западного:
американского, а скорей норвежского,—
он светлой масти. А может, вовсе на
самого-самого русского, древнерусского
князя, княжича, закаленного и подсушенного
до звонкости военными набегами и охотой.
Редко теперь встретишь у мужика за сорок
такое худощавое, аж щеки впали, и ясное
лицо. Ясное, наверное, из-за светлых
глаз, то ли серых, то ли голубых, и светлых
же, теперь уж сероватых, волос. И нос-то
у него прям и ровен, и шея высока, открытая
расстегнутым воротом ковбойки.
Картинно
сидит Антон на своем крылечке, можно и
заподозрить, что он обдумывает свои
позы, если б не беспечное выражение его
лица. Легкое такое, скорей мечтательное,
чем задумчивое. Сразу поймешь: ничем не
озабочен этот человек, никакие такие
думы его не терзают. Сидит, покуривает,
отдыхает. Бездумно следит за всем, что
происходит вокруг. Как, например, пчелы
и разные мухи-осы гудят в белых цветах
его бесполезной яблони в палисаднике
перед окнами дома. Бесполезная она
потому, что дикая, того сорта, что родит
массу красных, как капельки крови,
яблочек размером чуть крупней горошины,—
птичью радость, одним словом.
Зато и
хороша эта яблоня весной! Нарядней всех
в поселке, своей обширной круглой кроной
напоминая вздутый ветром бело-розовый
парашют. Да и зимой, когда кругом белый
да черно-серый цвет, радует она глаз
блестящими темно-красными каплями своих
яблочек, особенно если ясное небо даст
ей такого густого синего фону, что стоит
она как праздник для всякого прохожего.
Конечно, до поры, пока ее не общипали
птицы. До ползимы пируют здесь птицы,
и, кто знает, может, про себя, по-птичьи,
называют эту яблоню, свою кормилицу,
антоновкой.
Когда благоразумные
приятели Антона дают ему советы: что,
мол, у тебя эта фефела зря землю сосет,
замени ее культурным сортом,— он только
щурит в улыбке свои узковатые глаза:
—
А мне эта нравится... Вишь, она птиц
приваживает...
— На кой тебе сдались
птицы?!
— А занятно,— отвечает Антон,—
мечтательно созерцая свою яблоню.
И
приятели только головами умными качают:
что с него возьмешь, с Антона Моржова?
Мужик он хороший, свойский, и выпить
совсем даже не дурак, а все ж на иной
лад, чем они: пользы своей как следует
не понимает.
Казалось, хозяйка дома
должна была бы пересилить мечтательность
супруга своим трезвым, как обычно бывает
у женщин, подходом к делу, и его приятели
иной раз и приговаривали:
— Тоня твоя
куда смотрит?
Но Антон даже не отвечал
на эти подначки. Он знал: его Тоня в этом
вопросе смотрит туда же, куда и он, в ту
же сторону. Ей и яблоня, и птицы тоже
нравились, и больше того: нравилось, что
все это нравится Антону.
Да, в общем-то
и про нее можно было сказать, что она
пользы своей не понимает. Бывало, сдаст
на лето веранду под дачу городским
пенсионерам, мужу и жене, положив за все
три месяца тридцатку, глядишь, приехали
к деду с бабой дочка с внучкой, да от
другой дочери внук. Кто месяц прогостит,
кто и все лето. Тоня еще комнату им:
занимайте, на веранде тесно всем-то вам
вместе... Станут рассчитываться в конце
лета — протягивает дед Тоне полсотенную,
а она не берет: как сговаривались, скажет.
— Ну, ведь комнату прибавили нам...
—
Ну и что? Нам она все равно не нужна была.
Так бы простояла. А нам с вами веселей.
Особенно с Витюш-кой...— И она любовно
трепала по голове черноглазого смышленого
Витьку, почти пятиклассника, который
помогал ей управляться в критические
моменты с Антоном, потому что имел на
него какое-то необъяснимое влияние.
Может, правда, объяснимое: может, Витька
напоминал Антону Алешу, сына, служившего
в армии. И тот был черноглазый и чернобровый
— в матушку удался.
Но это в таких —
как бы посторонних, внешних — делах
Тоня не глядела хозяйкой,— все же весь
дом на ней держался. И дом, и огород. Все
у нее в руках кипело, и ее нельзя было
увидеть на крылечке рядом с Антоном.
Челноком снует она после работы из кухни
на огород, с огорода в сараюшки, где
живут куры и поросенок и скучает на цепи
возле будки пес Грозный. Всех надо
накормить, обиходить.
А в ягодное
время успевала еще и в лес сбегать, благо
он сразу за их огородом начинался —
сосновый бор, полный черники, земляники,
грибов. Звала с собой постояльцев:
«Сбегаем по-быстрому за черничкой !»
По-быстрому — это она умела! Лишь
обведет черничный кустик руками, а
пальцы ее успеют поймать каждую ягодку:
и кустик пуст, и в бидоне у нее прибавится
пригоршня ягод. Притом в сборе ее — ни
травинки, ни соринки. Беда с ней ходить
городским: у них чуть на донышке, а у
Тони уж с полбидона.
Тоня — ткачиха,
вот в чем секрет ее ловкости. Пальцы у
нее чуткие, можно сказать — зрячие,
приноровившиеся подхватывать концы
оборванных нитей среди тесноты натянутых
струн основы и в мгновение ока связывать
их. Глаза ее и руки в точном согласии,
наверное, так у художников. К тому же
она — лучшая или одна из лучших на своей
фабрике «Красный труд».
У нее и мать
на той же фабрике ткачихой была. И Антон
тут. Электриком.
Надо сказать, что и
весь-то поселок Красный труд живет
фабрикой еще с дореволюционных пор.
Тогда, конечно, поселок не так назывался,
а просто по фамилии фабриканта, известного
на весь этот приклязьминский текстильный
край.
Фабриканта не стало, а ткацкий
труд, само собой, остался, только стал
он революционным, красным,— так рассудили
рабочие-организаторы, переименовывая
свою фабрику, согласно новому характеру
труда, в «Красный труд». Ну и поселок
стал называться по фабрике, а для удобства
и краткости — Краструд. На слух не очень
красиво звучит, но тут уж ничего не
попишешь: как выговорилось, так оно и
будет. Даже на картах области поселок
значится именно так: Краструд.
Здание
фабрики было и в самом деле краснокирпичным,
того старого крепкого закала кирпича,
что и на вид звонок. И гляделись ее стены,
похожие на крепостные, прямо в темноватую
воду речки Клязьмы вместе с древними
коряжистыми ивами, свесившими седые
космы до самой воды, да с такими же
старыми тополями, росшими вдоль берега
и вокруг фабрики. В июне тополя пылили
белым и тонким текстильным пухом. На
фабрике ткали бязь.
Удобно, когда
работа при самой речке. Тоня рассказывала,
что ее мама, как и другие работницы,
прихватывала с собой на смену выстиранное
белье, чтоб в обед его выполоскать. А то
и обед не надо тратить, если случится
простой и ждут мастера, чтоб станок
отладил. Сейчас, ясное дело, такое
невозможно. Ткачиха обслуживает не
один, а до двадцати станков. Хоть и пяток,
все не оторвешься ни на минуту. Время
до обеда и от обеда пролетает как один
час. Вроде и не работала, только сил нет
и голова гудит, как ткацкий цех. А главное,
сердце замирает. Стала это замечать
Тоня последнее время. Видать, как ни
сноровиста, как ни быстра, а годы дают
себя знать: двадцать третий год в
ткачихах.
Конечно, можно б и потише
ей, не так рваться, как привыкла, как
рука брала и нога ходила; конечно, можно
б и не гнать сверх плана, давать норму,
и хорошо... Но отчего-то было ей зазорно
из передовых попасть в тихую середку.
Ведь не девочка, не пионерка, а вот возьми
ее... Не могла себе позволить.
Она
присматривалась к другому производству:
уж лучше вовсе уйти с фабрики. Во всей
своей славе. А какое тут у них другое
производство? Самый близкий — кирпичный
завод между их поселком и городом, так
что придется автобусом туда и обратно
добираться.
Съездила она, примерилась:
работа потяжелее — по весу, зато куда
спокойнее. Нет той гонки, как у них. А
чего — и поездит. Дети выросли, дома не
плачут. Дочка и вовсе в городе живет.
Конечно, будь у Тони работа, как у
Антона, ни за что не ушла бы с фабрики.
Слесарь-электрик по наладке оборудования
— не работа, красота. От тебя зависит
многое, и в то же время нет этого вечного
напряжения: не дай бог отключиться,
внимание ослабить, глаза отвести.
Электрик, если профилактику вовремя
да не ленясь проводит, сам себе хозяин.
И перекурит не раз, не два. Да что
перекурит: иную смену слесаря больше
просидят в служебке, чем наработают.
Так, видно, и складывались у них
привычки, у Тони и Антона: она и в доме
как юла, а он и тут себя не утруждает.
Ну, бывало — не без того — случались и
у него авралы и дома, и на работе. На
фабрике, как говорится, служебная
необходимость: авария ли произойдет в
электрохозяйстве, а то новое оборудование
прибудет или затеют проводку менять,
мало ли что...
А дома Антон по собственной
доброй воле их устраивал.
Домашние
авралы Антон, как правило, посвящал
своей любви к Тоне. Любил он ее. И если
случалось что в его жизни (а случалось
нередко), чем мог он, мягко говоря, обидеть
жену, так это все шло как бы мимо его
воли, но чисто из-за характера, можно
сказать, поэтического, нежного, а также
по причине особых обстоятельств жизни
текстильного поселка. Ну, еще, может,
из-за смен, разных с женой. Кажется,
ерунда, а все и это лыко в строку.
Допустим, уходит Тоня в утро, а Антону
идти — с обеда. Он еще надеется соснуть
после ухода жены, а пока смотрит, как
она собирается: стоя перед настенным
зеркалом, туго стягивает в узел на
затылке свои черные гладкие волосы.
Смуглые локти подняты выше головы, так
что вся фигура под ситцевым, ловко по
талии сшитым платьем напрягается,
вытягивается, и еще выше поднимаются
округлые, широко поставленные груди.
Большие карие глаза глядят вверх
исподлобья, и открывшаяся под радужкой
полоска чистых голубоватых белков
делает лицо ее празднично-ярким, свежим.
Еще и румянец играет на широковатых
скулах. И видит Антон, будто в первый
раз, как она хороша вся от макушки до
легких щиколоток. И охватывает его в
эти минуты некая слабость и жалость к
себе. Бывает, молча стерпит, только
крякнет. А бывает, и не выдержит, позовет,
как набалованный ребенок няньку: «Ну
куда ты гонишь?! Не подохнут там, если
на часок опоздаешь! Останься, а? То-о-онь!»
— возвысит он голос уже ей вдогонку.
Тоня даже не обернется.
Антон тогда
скажет себе, что уж нынешнего вечера не
упустит, никуда не пойдет, а дождется,
когда и Тоня станет ложиться. А то
возьмут, да и в кино... Он и не помнит,
когда они в кино-то были... Вместе... А
может, в луга им сходить, пройтись вдоль
Клязьмы, тряхнуть стариной.
И представит
себе Антон медовое тепло согретых жарким
днем лугов (то таволга-матушка пахнет
из сырых неглубоких ложков, а слабый
ветерок несет ее дух по округе, смешивая
с запахом горьковатого ивняка, черемухового
и смородинного листа приречных зарослей
и сотен трав и цветов еще не кошенного
луга). А вода в реке как стекло
дымчато-розовое, с сизыми тенями под
кручами; а небо исходит розовым светом,
и долго еще будет светло над лугами, над
Клязьмой, светло и спокойно...
Как
наяву все это увидит Антон и уснет снова,
будто посреди луга, в приятных своих
видениях. А проснется и вспомнит, что и
сегодня ему в смену с обеда... Значит,
прощай вечер с Тоней.
С досады и другое
вспомнит: просили его в один дом зайти,
посмотреть телевизор: что-то барахлит-полосит
и скачет. И сразу предстанет перед ним
та, что просила об этом и слова эти
сказала: «полосит и скачет». И он затихнет,
вспоминая чуть выпуклые желто-золотистые
глаза, густо обведенные черной тушью
по ихней нынешней моде, свежие розовые
щеки, крепкие, будто вырезанные губы с
глубокой ложбинкой, идущей от носа по
приподнятой верхней... Вспомнит и всю
фигуру, уютно-полненькую, даже ямочки
над лопатками в вырезе цветастого
платья... Знал, что у нее мальчику шестой
год, а так ни за что не дашь больше
восемнадцати-девятнадцати...
Хорошо,
что не из Тониного цеха, подумается ему
мельком...
Из всех электриков именно
Антона предпочитали позвать в дом, если
у кого возникала нужда поправить
проводку, провести свет в свою баню или
сарай, починить домашние машины: швейные,
стиральные. Даже в телевизорах и
приемниках он понимал. Не всякую радио-
или телевизионную поломку мог устранить
Антон, но видел, что случилось, что
требуется машине и на что мастерам из
ателье стоит показать пальцем.
Слыл
на поселке Антон мастером добрым, золотые
руки, а главное, не жадным, не обдиралой.
За мелкий ремонт вообще ничего не брал.
Наверное, имела значение и внешность
Антона, и мечтательный его характер,
отличающий от других мужиков,— это
привлекало к нему женщин. А ведь они и
есть главные распорядительницы домашними
машинами, даже если и замужем. А в их
текстильном поселке не во всякой семье
имелся мужик. Куда они девались, когда
войны давно нет, сказать трудно. Может,
просто девчат избыток. Кроме собственного
подростка каждый год прибывают новобранки
от восемнадцати и старше из ПТУ ближнего
к поселку города и из дальних мест, даже
с Украины. Правда, и увольнялись. Еще
побольше, чем прибывало. Кто из-за работы:
нелегко к нему привыкнуть, к ткацкому
производству. А кто из-за женихов: нет
их тут. Если и есть у кого собственный
муж или жених, так гляди в оба: как раз
и уведут. Останется одна хозяйка, а то
и с детьми, мужские руки все равно нужны,
особенно по электричеству. Иная утюг
боится починить: вдруг, говорит, ударит
током. Вот и просят Антона. К нему и
обратиться приятно. Он ведь и смотрит-то
как: будто комплименты говорит, удивляясь
и восхищаясь той, на которую смотрит,—
и так светло, возвышенно, не как-нибудь
пошло. Такой уж он был, даже птицам
сочувствовал. А тут человек. Женщина
молодая, как вот эта, к которой ему идти.
Кругом одна, еще и ребенок при ней, когда
сама-то как дите.
У таких, как она, нет
еще солидного хозяйства, и живет в
общежитии. Хорошо, ей с ребенком комнату
выделили. Но утюги, плитки электрические
и этот, телевизор,— это у всех имеется.
А каждая вещь требует когда-никогда
ремонта.
Идет Антон по цеху, кто-нибудь
да тронет его за рукав. Обернется, увидит,
как и в этот раз, просящий взгляд, увидит,
как беззвучно в грохоте станков
шевельнутся губы и пот росой над верхней,
по-детски пушистой. Прочитает по их
движению: «Дядя Антон» или просто —
«Антон». Нагнется, приблизит ухо к ее
губам, и донесется до него слабая тень
голоса, обескровленного шумом: «Может,
зайдешь... Утюг... Телевизор...» Ну, и в
таком духе. Как тут откажешь.
Антон
кивнет, мол, приду, и для убедительности
уверения коснется легко обнаженного
плеча или руки просительницы. Климат в
ткацких цехах, как в тропиках: жарко,
влажно — специальные разбрызгиватели
стоят, потому что в сухом воздухе нить
рвется, вот и одеваются ткачихи полегче,
особенно молодые: халатик без рукавов
с глубоко открытой шеей — вот их спецовка.
Коснется отечески, но пальцы невольно
уловят влажную нежность кожи, распаренной
в духоте цеха, упругость молодой плоти
под ней. И потом, когда он уже сделает
все: починит, наладит, прибьет по пути
еще что, нужное хозяйке в тесной ее
комнатке, ну, там полку для посуды или
книг, вешалку, и, умывшись, сядет за стол,
за причитающееся ему угощение, памятливые
его пальцы затоскуют и разбудят тоску
в самом сердце. Тоску и жалость.
В
этом-то все и дело: жалостлив Антон.
Другой мужик приласкает при случае,
если не даст ему по рукам хозяйка, с него
как с гуся вода: было — не было. И печали
нет. Антон же всякий раз будто влюбляется.
А может, в самом деле, без будто. Он
находил предлог зайти и еще раз:
«Подоконник тебе надо бы укрепить...
Постой, я доску подходящую достану —
вовсе заменю... Постой, да вот и петли на
двери совсем истерлись... Я тебе новые
принесу...»
А сам думал: как же ей одной
с мальцом тяжело жить... Очень ее жалел.
Потом ходил и без предлогов. Она сама
его звала. И правильно делала: вряд ли
в ее жизни встретится еще один такой же
ласковый мужик, как Антон Моржов.
И
мечтала уж молодая, разнеженная Антоном,
втайне мечтала, что вот кончится ее
вдовья жизнь: не сможет Антон без нее.
Уйдет от своей старой жены. Чего ему
там? Дети выросли... Поставят они свой
дом, Антон на все руки мастер, и заживут...
Но если ее мечты доходили (через верных
подруг) до ровесниц Антонины, те обрушивали
на мечтательницу ушаты ледяной воды:
— Господи! А то ты первая! Ты бывала
ли когда на усадьбе у Моржовых? Нет? А
сходи-ка, девка, полюбуйся какой у них
с Тоней дом! Три комнаты да кухня, и
веранда, и сени, как веранда! А знаешь,
что было? Изба деревенская! Сени, зала
да чулан за печкой. Поняла?
Та, ясное
дело, не понимала! При чем их с Антоном
любовь?
— А при том,— объясняли ей,—
что каждая пристройка — это Антоново
покаяние! Как согрешит он перед Тоней,
как вот с тобой, так и кается. Она, может,
который раз и не знала б про его дела,
но берется мужик за пилу да топор, не
пьет, не гуляет, а, как в запое, после
каждой смены и все выходные надрывается
на своем дворе, так это для нее верней
верного: опять была у Антона любовь...
Девчонка и верила и не верила... Ну,
пусть! Со всеми так, а с ней по-другому
будет!
Однако проходило время, и Антон
пропадал для нее.
Любовь его обычно
кончалась жестоким запоем. В общем-то
и начиналась она почти непременно с
бутылки — «благодарности» за ремонт,
за помощь. Да и продолжалась под угощение,
он же сам его и припасал к ужину. Но все
шло в меру, пока длилось увлечение. А
потом... Кто знает, может, он водкой и
глушил, топил его, чтоб совсем не
потеряться. Или тоска на него наваливалась,
когда чувствовал, что уходит из его
сердца жалость к чужой, заброшенной
жене... Или что-то в Тоне ему померещилось...
Вдруг да она ему показалась чужой
заброшенной женой... Кто его знает...
Человека и попроще трудно до конца
разгадать, Антон же был куда не прост.
Тоня понимала его по-своему: он
«впивался» в водку, считала она, и водка
перебарывала в нем любовь. Не только
любовь: все забывал Антон, делался как
безумный. Деньги пропивал до копейки,
занимал где мог. Ему не отказывали:
мастер! Если что, так и отработает когда.
Прогуливал работу — терпели: мастер!
Проспится...
Ничего не оставалось от
его нежной мечтательности. Светлые
глаза становились мутно-красными, сам
бледнел до желтизны. Задирался, приставал
к прохожим. Вот только странно: он никогда
не шатался. Какая-то сила держала прямо
его спину, он и ноги твердо ставил. Только
шея и руки обмякали, и потому голова
болталась, как у новорожденного, а руки
повисали, будто тряпичные, словно из
двух составов была теперь слеплена его
фигура: из твердого, закаменелого и
совсем бескостного, вялого. Такого его
издали определяли: «Вон опять Мор-жов
руки свесил»,— говорили о нем. «Гуляет»,—
одобряли уважительно мужики.
В такие
тяжелые минуты он слушался только жену.
Если бушевал, прибегали за Тоней. Ни
друзья, ни начальство — лишь она усмиряла
Антона. Брала его под руку, и он стихал.
Но руку свою сразу же вырывал из ее и
вялой плетью опускал ей на плечи.
Бормотал:
— Эт ты, Тонь... Ну, ланн...
Ага, Тонь... Ты за мной... Ага. Они все...
М-м-м... Они — с-сволочи... А ты... Ты...
Тонь... Ты — человек... Ага... Ты — птичка
м-моя... Эй! Пойдем в луга, а? Ланн, Тонь?
Давно не гулял... в ллугах... Пойдем, ага!
— Пойдем и в луга,— тихо соглашалась
Тоня, поддерживая его за спину, чувствовала
под рукой не живую плоть, а словно бы
окостенелую или замороженную до
твердости. Доска доской, а не спина.
Видно, очень уж ему не хотелось походить
на пьяного, вот и каменела его спина. И
если он падал, так сразу, как сраженный
наповал. А коли шел, так шел. Тоня вела
его с разговорами-уговорами. В таком-то
виде чаще всего их и видели вместе,
парой.
— Устал я,— вдруг говорил Антон
ломким, не своим, каким-то капризным
голосом.
— Вот сейчас придем и
отдохнешь,— отвечала Тоня.— Ляжешь, я
тебя укрою...
— И сказку...— мотал
головой Антон.
— И сказку,— обещала
Тоня.
Дома завалив мужа на диван, как
столб негнущийся, разув его, заботливо
укрыв и подоткнув с боков, она, бывало,
направлялась к двери, но Антон окликал
ее:
— А сказку? Обещала...
И она,
вздохнув, присаживалась рядом.
— Ну,
какую же тебе... Ну вот.:. Хочешь, про
Ивана-дурака? Как он с ярмарки шел?
—
Хочу... Про Ивана... Ага...
— Вот, значит,—
начинала нехотя Тоня,— отгулял Иван-дурак
на ярмарке, обнов накупил, оделся-принарядился:
и пиджак взял, и сапоги валяные, теплые,
и полушубок овчинный, и шапку мехову, и
рукавицы-шубенки. Ярмарка зимняя была,
на Николу зимнего, понял? — как маленькому,
поясняла Тоня.— И вот идет Иван домой
и матери узел пряников несет сладких и
полушалок. Видишь, и мать не забыл... Ну,
и заходит он в лес. Значит, через лес его
дорога шла. Дело уж к вечеру холодно,
морозит. А Ивану не холодно в обновках.
Идет да похваляется во весь голос: «Ай,
шапка на мне нова! Ай, валенки! Ай, пинжак!
И полушубок из овчин! И матушке полушалок
несу да пряники!»
Только вдруг со всех
сторон голоса слышит: тонкие, да мерзлые,
да скрипучие:
— А нам, Иван, холодно!
— А нам, Иван голодно!
— А нас мороз
забижат!
Остановился дурак, во все
стороны глядит, озирается:
— Это кто?
Кто голосом говорит человечьим?
—
Да! — вдруг звонко и трезво встревал в
рассказ Антон.— Да! Кто с Иваном говорит?
А? — И приподнимался на локте.
— А ты
слушай, все узнаешь,— похлопывая его
по плечу, как ребенка, обещала Тоня. И
продолжала:
— Это я, сосновый пень! —
слышит Иван, а голос совсем рядом! Глянул:
правда, у дороги сосновый пень, на нем
белая шапка, снег, значит, шапкой.
—
Это я, пень дубовый,— слышит подальше.
— Это я, березовый...
—А! — говорит
Иван.— А чего же вам холодно да голодно?
Вон на вас каки шапки — пуховы!
— То
шапки снежные — холодней холодного! —
говорит ему сосновый пень.
— А я, вишь,
без валенок,— говорит дубовый.
— А
на мне полушубка нет! — кричит березовый.
И давай Иван-дурак с себя все скидавать
да пеньки обряжать: сосновому — шапку
нову...
— И я хочу шапку! — капризничает
Антон.
— Купим мы тебе, Антоша, шапку,—
обещает Тоня.— Ты давай слушай да
отдыхай. — Значит, дубовому валенки
поставил...
— И мне валенки! — требует
Антон,.
— И тебе к зиме справим,—
отмахивается она нетерпеливо, видно, и
сама увлекшись рассказом, ей хочется
до конца довести.— А березовому —
полушубок накинул...
— И мне полушубок!
Полушубок мне надо! Слышишь? — блажит
Антон.
— Слышу я, слышу! Будет тебе
полушубок! Ну, уймись! А то не стану
сказку говорить!
— Нет, говори! Я
больше не буду! — обещает Антон.
—
Ну, так вот... Шел Иван да обряжал все
пеньки: кого в пиджак, кого в матушкин
полушалок. Прибежал домой едва жив:
босый, в одном исподнем. Прибежал да
матушке и хвастает: — Теперь все пеньки
в лесу довольны — в тепле и пряники
едят!
— И мне пряников,— бормотал
Антон, затихая. Под сказку и засыпал.
Тоня выходила из спальни, принималась
за свои вечные дела. Раздумывала...
Наестся ли когда ее Антоша своими
пряниками... У других мужики тоже пьют,
да ведь не гуляют... У иных по бабам рыщут,
да ведь не так пьют... Ее же родимый везде
успел...
Таким-то вот путем шел Антон
к домашним своим авралам, когда почти
в одиночку за лето успевал то, что не
всякая плотницкая бригада осилит. Потом
трудовым омывал свою совесть. Пилой да
топором, молотком да рубанком укреплял
самим же расшатанные семейные устои.
Эх, плотницкая работа! Да есть ли на
свете для настоящего мужика дело чище
и здоровее? Радостней и красивей?
Антон
любил и электричество, приборы разные
и станки — помозговать над ними,
догадаться, в чем их капризы, каков
норов. Любил, когда мертвые железки под
его руками оживали, наливались теплом,
полнились звуком, начинали подрагивать,
двигаться. Но при этой работе руками не
было вольного размаха, свободы, всему
телу. Дыхание стискивалось в грудной
клетке, чаще всего сжатой опущенными к
работе руками, а сердце еле шевелилось,
совсем ему делать нечего... Да и в помещении
все время, без солнца, без воздуха
вольного.
А тут... Весь день на воле: и
солнышком обогреет, и ветерком охолодит.
Бывает, и дождичком сбрызнет. Но дождь
разве что не закипает на разгоряченной
спине и плечах, паром занимается
работающий человек. Вольная работа, но
и без точности в ней нельзя. Просто так,
вразмах, ее не сделаешь. И голове работы
никак не меньше, чем рукам. Это только
со стороны поглядеть — плотник тюк да
тюк топором. На деле каждый тюк на свой
лад. И недотюк плох, а перетюк и того
хуже. Особенно если материала нехватка,
когда каждая дощечка, слеженка, тюлечка
в дело идет. Каждый здоровый кусок из
рассыпанной для перестройки части дома
на вес золота. А то и дороже. Попробуй
нынче подкупи леса или там столярки...
Антон где мог подкупал, конечно, и
нового. По соседним деревням мотал: не
продаст ли кто старый дом или хоть сарай
на слом, а то и новый лес попадется.
Припасли его хозяева на ремонт загодя,
когда могли, да вдруг в город подались
— случай вышел. Вот и продают...
Много
было надобности у Антона еще до начала
строительства. За этими-то предварительными
приготовлениями и приходил в себя.
Отряхивался, ощипывался, глаза шире
открывались.
Потом начиналась расшивка,
рассыпка стен дома или сеней, потом надо
было котлован рыть под фундамент
пристройки. Рыл он его поглубже,
рассчитывая на подпол.
На земляных
работах сходил с него первый пот,
выпаривалась алкогольная отрава. Так
что к самому-то плотницкому делу
подбирался он уже хорошо размявшись.
К тому времени все было у него припасено
и налажено для работы: верстак и точильный
круг тут же во дворе; пакля для
проконопачивания и вся столярка укрыты
в сарае, как и разная железная мелочь и
гвозди — каждый размер в своем ящичке,
чтоб уж ни за чем не отвлекаться, не
рыскать за тем-сем по дворам соседским
да магазинам.
И работал же Антон! Будто
Богу молился. Да не вымаливал чего, а
благодарил радостно: за то, что молод и
силен; за то, что глаз острый, а рука в
точку бьет; за то, что чувствует он, как,
что ни день, очищается его кровь в работе,
звончей бежит по жилочкам, и все легче
и ловчее топор, и спокойней сердце...
Каждый день: до смены — с первым
светом, после смены — дотемна, в
воскресенье чуть ли не 20 часов подряд
— Антон на своей стройке. Обнаженный
по пояс, он темнел от загара, а глаза и
волосы высветлялись вовсе. Худел так,
что видно было, как ребрышко каждое
играет в работе, а плечи и руки набрякали
силой. Сосредоточенный, сноровистый,
быстрый. Где его кошачья расслабленность,
с какой сидит он, покуривая, на своем
крыльце? Куда деваются безумие и детская
капризность? Вот он, настоящий Антон
Моржов, сам себе хозяин, мужик, своими
руками обустраивающий свое семейство.
Тоня жила в эти месяцы затаившись:
как бы не спугнуть Антонову страсть к
работе. И боялась немножко за него — не
сорвался бы, не заболел бы. Помогать не
напрашивалась, под руку не лезла. Внешне
держала себя так, будто ничего особенного
не происходит, самое это обычное для ее
мужа дело — ладить дом для семьи.
Только
старалась кормить посытнее. Но в это
время Антон, и так не бог весть какой
едок, еще меньше ел от азарта и усталости.
А вот что любил он в эту пору, так в
горячей баньке посидеть, с веничком
побаловаться, а потом — в Клязьму. Благо
— она через дорогу. Проулком между
огородами, и вот уж береговая круча —
ныряй на здоровье.
Тоня старалась
почаще баню топить.
Счастливей, чем
в пору первого Антонова аврала, она не
была и, наверное, больше не будет. Все
тут сошлось: гордость мужем, счастье
возвратившейся его любви, да и за себя
радовалась, перетерпела, перестояла
грозу и семью сохранила. Правда, одна
бы, может, и не выдержала: матушка помогла.
В тот первый после женитьбы раз пошел
Антон частить к их соседке, разведенке.
Дом ее наискось от двора Моржовых, через
дорогу. Началось тоже с какой-то помощи
по дому.
Тоня тогда собралась сразу
уйти от Антона. Прожили б с дочкой — ей
тогда третий год шел, да с мамой. Мама-то
и остановила. Сама она одна намучилась:
мужа ее, Тониного отца, и двух старших
сынов в войну потеряла. Тоня и не помнила
отца своего.
«Уйти, дочь, большого ума
не надо. Ты погоди-ка. Глядишь, побегает
да вернется. Ты — жена ему, не как эта —
встречная... Антон — мужик слабый, вот
и все. Помоги ему. Я вижу, как он к тебе...
Поговори с ним в добрую минуту».
Каждое
слово матери отзывалось в Тоне целыми
картинами... Будто и сама все знала,
только до матушкиных слов пряталось
знаемое где-то в памяти, а мама как свету
пролила...
Ей ли не знать Антона!
Слабый... Он не слабый, а добрый. Каждую
живую душу готов пожалеть: птицу ли,
кошку ли бездомную, пса ли, калеку.
Сколько перебывало их на дворе... Кому,
как не ей, знать его ласковость... Подруги
завидовали, когда ненароком встречали
их с Антоном, возвращавшихся из лугов,
и щеки и губы Тони пылали, как те гвоздики,
что примяли они вместе с травой на крутом
бережку... Антоновы же глаза были, как
талая вода по весне, когда бежит она из
чистых луговых снегов по зеленоватому
с голубизной ледяному ложу первых
ручьев...
И решилась Тоня. Осталась
при муже. И минуту выбрала — поговорить.
Да куда ей: ругаться, лаяться, на своем
поставить она не умела. Начала было:
«Антоша, что ты меня позоришь перед
всеми... Разве я тебе не жена...» И — все.
Горло перехватило, голос замер, повернулась
и ушла.
Но в тот день он после работы
пришел домой. «Ну,— думала она,— понял...»
Однако ночью он тихо-тихо встал,
отворил окно и спрыгнул в палисадник.
Дверью, что ли, не хотел скрипеть, крючок
скидывать... А через дорогу бежал уж не
таясь...
Как тогда в Тоне сердце насовсем
не остановилось... От стыда, от позора
жгучего...
Вот что пережила она в тот
первый раз... Но пережила... Вернулся
Антон к ней.
Тогда и взялся впервые
за стройку: перестроил сени во вторую
комнату.
И так он любил и миловал свою
Антонину, словно век были они в невольной
разлуке. В ту пору и зародился у них
Алешка — награда ей за терпение.
Наташа,
девочка, почему-то не была ей так радостна,
как сынок. И не потому, что неказистой
уродилась ни в мать, ни в отца, не
беленькая, не черненькая, а так —
серенькая, не в наружности дело; но росла
она как-то сама по себе, не ласковая, не
привязчивая. Она и замуж-то вышла вроде
без любви, вроде так: все выходят, вот и
я. И парня взяла, шут его знает, какого
— без царя в голове. Да еще и хвастуном
оказался: я — то, я — се; я, если б захотел,
космонавтом бы стал! Летчиком-испытателем!
Господи, там посмотреть-то не на что:
44-й размер, 1-й рост. Космонавт... Молоток,
если подымет, так тут же на ногу уронит...
Да не на свою... Вот деньги свадебные на
себя одного потратил... Этот небось
пеньки не станет обряжать... Жалко
Наташку... Но что поделать — судьба...
А
сын Алеша... Уж в роддоме его няньки да
акушерки красавчиком звали... Бровки
темненькие, реснички — прямыми стрелками,
глаза открытые, карие, ротишко, как
ягодка. Вся материнская краса в нем
повторилась, только в мужском, мужественном
обличье.
Парнем стал — загляденье,
девушкам горе. Все девчонки в классе
были влюблены в Алешу. Только не в отца
сын пошел и по этой части: сдержанный,
скромный. Его товарищи в десятом классе
(Тоня знает от девчат в цехе) уже по
женскому общежитию шастали. Алешку
никогда там не видывали.
Может,
отцовский пример вызывал в нем отвращенье.
Бывает же так. Но отца Алешка любил,
правда, снисходительно, как старший
младшего, как сама Тоня, видимо: чего,
мол, с него спрашивать... Жалел.
С
трезвым любил он с отцом и мастерить
чего, плотничать, в приборах разбираться.
Бывали у отца с сыном и рыбалки с ночевками
в лугах, у костра... Все как и должно быть
у отца с сыном.
Но с матерью — больше
должного: у них будто одна душа была на
двоих.
Если отец дома не ночевал,
Алешка чего-нибудь да придумает, чтоб
мать развлечь, порадовать: «Мам, девчонки
в классе говорили, в продмаг кофточки
какие-то забросили... Зайди, может,
подойдет... Мам, кино хорошее привезли.
Я и тебе билет взял...»
И пойдут вдвоем.
Наташка больше с подругами, бывало,
пропадала, чем он с друзьями.
Пойдут
вечером в кино, разговаривают, Алеша к
матери наклонится, рассказывает ей
что-нибудь, смеется. И Тоня, словно его
девчонка, прыскает от смеха, веселая...
Будто у ней и горя нет.
— Ишь идут, как
молодые,— пошутят встречные знакомые.—
А не берут тебя, Тоня, годы. Глянь-ка на
нее!
Тоня с Алешкой только улыбаются
в ответ, довольны друг другом. Алеша
гордился материнской молодостью: ни у
кого из ребят не было такой матушки.
Понимали они с матерью друг друга со
взгляда одного. Что у матери на уме,
глядишь, сын уже делает. Сам догадался.
Бывало, как-нибудь вечерком приведут
с товарищем, как барана за рога, разбитый
донельзя мотоцикл.
— Батя,— скажет
улыбнувшись и, как всегда, будто смущаясь
своей просьбы,— может, разберешься?
Больше некому у нас...
— Да ты что, сын!
Я эту технику не знаю,— отзовется отец
с крылечка, а сам так и вопьется глазами
в разбитую железяку.— Да-а,— протянет,—
хорошо его уходили... Ты сам, что ли,
Сергей? — спросит Алешино-го товарища.
— Нет, это Димка... Ладно, сам жив...
Даже не поломался...
— Счастье его...
Нет, Алешка... Я тебе такую лошадь покупать
не стану... Хотя... Интересно...— а сам уж
на корточках сидит перед машиной.
Алеша
только глянет в сторону сеней, где в
дверном проеме, словно в раме, стоит
Тоня, наблюдая этот театр. Встретится
с ее взглядом, улыбнется глазами, и мать,
не сказав ни слова, успокоенно удалится
по своим делам. Считай, на месяц — это
уж как дело пойдет, может, и дольше,—
есть у бати игрушки. И литературу нужную
раздобудет, и список нужных деталей
представит хозяевам, и вот Антон — уже
спец по мотоциклам марки «ИЖ».
Но на
второй машине (известное дело, найдутся
и еще заказчики) вдруг остынет. Забросит
все на полпути. Хозяин замучится бегать
к Антону с бутылкой — подогревать. И
наподогревает до нового запоя. Бывало
и так. И Тоня с Алешкой делают вывод: не
принимать крупные заказы больше одного.
Батю можно было держать только интересом.
Так вот у них вышло: чем мог бы стать
для Тони Антон — опорой, другом душевным
— стал Алеша. И чем больше он рос, тем
яснее видела она — так...
Так-то так...
Да получалось у Моржовых чем дальше,
тем больше, что не муж и жена плечом к
плечу, висок к виску смотрели вместе,
как мужает и хорошеет их сынок, а мать
с сыном сторожко и чутко пасли мужа и
его отца, как ребенка, за которым нужен
глаз да глаз и терпенье Христово.
Все
труднее становилось Тоне после очередной
мужниной истории откликаться на его
ласку. Все больше требовалось времени,
чтоб опомнилось в ней женское, женино
и снова увидела б она в Антоне мужчину,
того, кем восхищалась... Когда-то... Сто
лет назад.
Думалось ей в тяжелые минуты
с поздним раскаянием: не послушайся она
когда-то матушку свою, не ломать бы ей
себя потом всю жизнь, не рассказывать
сказки пьяному. Не глушить в себе женский
стыд за его похождения... Но тут же и
замирало в ней все, когда доходила до
мысли: не было б тогда у них Алешеньки...
Но был у них Алешка, был! Вот, значит,
и спасибо матушке, вот, значит, и сама
она молодец...
И Антон понимал, что в
Алешке сейчас живет Тонина к нему
милость, что отцовская его высота для
нее теперь важней любой другой его
доблести, даже плотницкой.
Были у них
минуты, когда все становилось в семье
на свои места. Выйдет иной раз Антон
помочь жене и сыну с поливом на огороде
и, увидев Алешу, подносящего воду от
колонки во дворе, оставит работу, чтоб
полюбоваться сыном. Не забудет и Тоню
подтолкнуть: «Глянь-ка на сына...»
Она
распрямлялась над грядкой с капустной
рассадой, и, стоя рядом, смотрели они,
как приближается к ним Алеша с полными
ведрами, глядя вниз, чтоб о грядки не
споткнуться, а фигура, будто в раме
натянутых тяжестью рук. И чисто и
прекрасно юношеское тело, еще не
взбугренное, а как бы только размеченное
плитами мышц под тонкой кожей. Крепкий
выравнивается парень. Вода в ведрах не
всколыхнется: толчки шагов гасит
пружинящая сила мускулов.
Сын вскидывал
на родителей глаза, и они сразу же
отводили свои, чтоб не смутить его
рассматриванием, обращали лица друг к
другу. И наступала минута, когда Тоня и
Антон снова были вместе, заодно и одним
счастьем счастливы. И годы исчезали, и
обиды. Взрослый сын возвращал им юность.
За эти минуты Тоня и платила жизнью. Да
и Антону душу переворачивало, когда
словно бы его чистота и молодость, и
само ликование молодости проносилось
вдруг перед ним на короткое мгновение
Тониного взгляда: ее глаза не успевали
погасить радостное и нежное смущение,
с которым она обращала взгляд от сына
к мужу.
И Алеша довольно и тоже смущенно
улыбался, отворачивался, увидев, как
отец берет в ладони голову матери,
заглядывая близко ей в глаза, и восклицает
с непонятным для Алеши восторгом: «А-аа?
Тонь, а?!» А мама смеется и упирается в
грудь отца локтями, так как руки ее
перемазаны в мокрой земле.
И пролетала
минута... На какое-то время окрашивала
их жизнь доверием друг к другу, соединяла,
грела...
Последнее время, перед уходом
Алешиным на службу да и после его отъезда
— а взяли его во флот, куда ж еще такого
молодца! — спокойно стало у Моржовых.
Антон даже на Алешиных проводах держался:
«Не-е! Мне теперь нельзя! — объяснял он
гостям уже захмелев — Сын у меня —
крас-но-фло-тец! Я должен ему пример
подавать!»
Тоня прятала улыбку: ах,
ты, господи! Пример! Алешка этого вина
и к губам не подносил...
Но и правда,
время шло уже и без Алеши, а Антон
держался.
Тоня чувствовала, что в ней
вроде стал ослабевать, распускаться
помалу узел, туго стянутый где-то в
середке груди, под ложечкой. Этот узел
словно бы не позволял ей расслабиться,
забыть, что вот-вот кончится ее мирное
время. Когда он в ней завязался, она и
не помнила; похоже, всегда жила с этой
скрученной, стиснутой пружиной...
А
тут вдруг будто дышать стало свободнее...
Да и то: неужели не хватит Антону? Свое-то,
наверное, с лихвой выпил... Да и усадьба,
даже усмехалась она про себя, отстроена
и расширена — дальше некуда... Разве
каменные хоромы ставить...
Может, еще
и постояльцы усыпили ее бдительность.
Второе лето жили у них и пришлись по
душе Тоне. Антону — само собой. Он уважал
людей образованных, культурных. Любил
поговорить с дедом, в прошлом — ученым
агрономом.
Вечером все собирались на
веранде за столом как одна семья. Самовар
сипит. Ягоды в фаянсовой миске, молоко
в кринке, хлебушек, колбаска, огурчики
только что с грядки, еще с матовым налетом
между пупырышками.
Как хорошо, думала
Тоня, когда большая семья... Примеривалась,
что и у них такая же будет, когда женится
Алеша и народит им внуков. За столом
кроме деда и его жены сидели еще их дочь,
детский врач, с полуторагодовалой
дочуркой Олюшкой, и Витька, пацаненок
лет девяти, внук дедов от второй дочери.
Как хорошо, думала Тоня, когда детки,
когда их много... Когда все вместе... Вон
Витька — звонком звенит, рассказывает,
как он сегодня язя заудил, здорового!
Во!! Да сорвался язь, ушел!
Доверилась
Тоня спокойной, ладной жизни. На внуков
постояльцевых насмотрелась. Разнежилась.
Одним словом, забеременела. Точно как
после первого Антонова загула. Стыдно
сказать: на сорок-то третьем году. Жизнь
прожила — этих абортов не знала. А тут
пришлось. При взрослых детях казалось
ей неловко с животом ходить. И Антон не
возражал.
После Октябрьской ушла она
в больницу. Мужу оставила доверенность
на зарплату. Спокойно пошла. Не думала,
что задержится дольше трех дней. А после
операции вдруг затемпературила, оказалось
— простуда. К тому времени она уже на
кирпичном работала, с непривычки часто
простужалась. Так и в этот раз.
Не
выписывают Тоню из больницы. Тут все и
рухнуло. Слаб мужик. Остался один в дому
при всех деньгах и пошел гореть синим
пламенем.
В воскресенье Тоня ждала
мужа, а пришла подруга по прежней работе
на ткацкой фабрике, сменщица. Она и
рассказала в подробностях и с жаром,
как позорится Антон. Пьет. И с каждым
днем тяжелее. Вчера в лежку валялся
возле фабрики. Догадались его мужики в
ближний дом перенести к приятелю Антонову
же. А он там очухался и пошел все громить.
Столько всего побил, это ужас! Сервант
с хрусталем опрокинул и растоптал, трюмо
разнес, убить всех грозил, пока его
мужики не связали. Ну, вызвали со станции
милицию, они его и увезли в город.
Наверное, в вытрезвитель.
— Ну, а что
было делать, Тоня? — заключила подруга,
видя, как меняется на глазах лицо
Антонины.— Страшно... Мало чего в дурную
голову ему придет... У вас деньги-то есть?
— спросила, думая, что Тоня переживает
за разбитое Антоном, понятно, платить
придется...
— Есть,— кивнула Тоня.—
Копили для Алеши. Как он из армии придет...
Одеть надо бы. Вырастет ведь. Да и учиться
он хотел... А может, женится сразу...—
сказала и застыла взглядом.
А под
глазами зримо наливались тенями,
углублялись впадины, да и все лицо
темнело.
— Ну, чего уж ты так, Тонь! —
позвала подруга.— Али впервой?.. Тебя
нет, вот он и расходился. Кто же его без
тебя угомонит. Не переживай! Рассчитаетесь!
Антон пускай покалымит... Долго ль ему...
Кабы он деньги брал за работу, вы б как
куркули жили... Вот пускай свой прынцип
на время отложит.
Тоня была терпеливая
женщина. И не случись в ее жизни такого
долгого перерыва — спокойного времени
— не доверься она надежде, легко перенесла
бы эту весть об Антоне...
Она потому
замолчала и не отозвалась больше на
слова подруги, что почувствовала, как
сердце ее залила нестерпимая тягучая
боль.
Тоня умела терпеть и нестерпимое.
Однако тут было что-то такое, чего она
еще не знала. Она испугалась и удивилась,
прислушиваясь к своему нутру, к сердцу.
И от удивления перед этой болью широко
открыла глаза. Подруга, увидев этот
незрячий, обращенный в себя взгляд,
тихонько вскрикнув, кинулась за сестрой,
за врачом, за кем-нибудь, кто помог бы,
спас бы... Но в воскресенье на всю больницу
один дежурный врач.
Пришла сестра,
поняла, что и правда, с больной плохо, и
побежала искать дежурного, бросив
подруге: «Не трогать ее, не давать ни
вставать, ни ворочаться!»
Этот приказ
слышала, конечно, и Тоня. И он помог ей.
Поняла, что худо дело, что вот сейчас и
придет конец всему. А ведь нельзя ей...
Никак нельзя... Ведь у нее Алеша... Кто
станет беречь его там, в армии? Там море.
Океан. Мировой океан. Валы до неба. Мало
ли что... Если не беречь его матери. Если
вместо нее, вместо ее сердца, будет
пустое место... Раз — и оступится сын...
В пустое-то место....
Тоня крепко закрыла
глаза, чтобы там, внутри нее, в темноте
кромешной, затухла боль, как огонь без
воздуха. Задохнулась сама в себе. Потому
и закрыла глаза покрепче, но, однако,
без натуги, помня слова сестры...
«Нельзя... Нельзя...— уговаривала она
сердце.— Нельзя нам. Потерпим. Сейчас
будет легче. Будет, будет! Не впервой...»
А подруга тихонько тряслась, обхватив
себя руками, не смея ни встать, ни отвести
глаз от Тониного темного лица. Ей
казалось, что Тоня умирает или уже умерла
— глаза-то закрыла...
Откуда ей было
знать, что это Тоня боль свою убивает.
Что нисколько не переживает она больше
за Антона, его буйство и позор, напрочь
забыв рассказ о нем. Вообще о нем.
Закрытые плотно Тонины глаза видели
сейчас совсем другое.
Как будто весна,
май, и их яблоня вся в цвету. Цветет она,
заливается бело-розовым, гудит шмелями
и пчелами. Они по грудь и по толстенькое
брюшко зарываются в пенные цветы,
выбираются оттуда, помогая себе
крылышками, все в пыльце, тяжелые от
взятка, и так их много, что кажется, сами
цветы — живые, шевелятся...
А под
яблоней видит Тоня своего Алешу. Он в
морской форме, и так ему идет синий
воротник с белыми полосками по краю! Он
облокотился о штакетник и смотрит,
улыбаясь, на окна их дома. Он вернулся.
Он на побывку пришел, а может, уж и
насовсем.
1982 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





