ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна

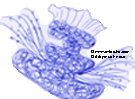
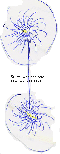
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Вигдорова Фрида 1965
ОТ АВТОРА
Никто не любит, чтобы его поучали. Я тоже не люблю. И сразу хочу сказать: эта маленькая книжка — не лекция, не поучение. Это — разговор. Как он возник?
В 1933 году я стала учительницей, преподавала в начальной школе. Я учила детей русскому языку и арифметике, но мои ученики спрашивали меня обо всем на свете, и я старалась в меру своего опыта и знаний отвечать им.
Потом я стала преподавать в старших классах. И очень часто урок литературы превращался в разговор, который равно волновал и класс и меня.
Разговор продолжался и рос за пределами школы — ко мне стали приходить письма читателей. В своих письмах подростки говорили не только о том, что они думают о моей статье или книжке — они спрашивали о том, что их волновало, а иногда и мучило. Отвечать было не всегда легко: ведь нет одного общего совета для всех, и никто не может научить, как надо поступать во всех случаях жизни. Человеческий путь сложен, характеры и судьбы людей различны. И, видимо, каждый сам должен задуматься над своей жизнью, над своим местом в ней.
Ведь именно в юношеские годы определяется, чем будет силен человек, чем станет дорог и нужен обществу, какие черты он должен воспитывать в себе, чтобы прожить жизнь достойно и честно, чтобы быть сильным в любом испытании, которое жизнь поставит на его пути.
Читая письма, я еще и еще раз понимала и другое: не только старший может разбудить мысль младшего. Нет, разговоры с детьми, которых я учила и для которых писала книжки, заставили и меня о многом задуматься.
Общаясь друг с другом в книге и в жизни, люди — молодые и старые — помогают друг другу многое понять.
В книжке «Минуты тишины» все истории подлинные. Только в некоторых случаях я меняла фамилии.
И если эти невыдуманные истории заставят вас задуматься или добавят хоть что-нибудь к тому, о чем вы уже думали сами, я буду считать, что моя цель достигнута.
Ф. Вигдорова
ЗАЧЕМ ПАЛКА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ?
«Дорогая редакция, я хочу написать вам про случай в нашем дворе. У нас есть девочка Зоя. Мы с ней вместе готовим уроки, ходим в кино. Ребята меня за это дразнят. А Левка сказал: «Ты девчатник». Я ему ответил: «Какой же ты пионер?» А он говорит: «Я тебе как дам, ты отлетишь!» Я так решил: пусть я девчатник, а с Зоей все равно дружить буду. Он всех ребят во дворе подговорил, и они меня дразнят. Как мне быть теперь?
Валера Михалев».
Дорогой Валера!
Редакция «Пионерской правды» дала мне твое письмо и попросила на него ответить. Я прочитала письмо и подумала: что же отвечать? Ты и сам все понимаешь. И, по-моему, каждый человек должен дружить с тем, кто ему по душе. И я всегда очень удивляюсь, когда слышу, как ребятам говорят:
— Ты с Колей не дружи. Ты лучше подружись с Юрой: он хороший мальчик.
Может, Юра и правда очень хороший мальчик. Но ведь когда дружишь с человеком и любишь его, начинаешь видеть в нем то, чего другие не замечают. Как будто и ничем не лучше других, а вот мил тебе этот человек.
А уж насчет того, с кем лучше дружить — с мальчиком или девочкой и вообще можно ли дружить мальчику с девочкой, — такой вопрос мне попросту непонятен. Когда я была маленькая, мы все дружили между собой — девочки и мальчики. Конечно, и среди нас всегда находился такой, что кричал про жениха и невесту, но мы на это внимания не обращали.
Ты пишешь: «Пусть я девчатник, а с Зоей все равно дружить буду».
А как же иначе? Чего бы ты стоил, если бы отказался сейчас от дружбы с Зоей? Ведь это было бы и трусостью и предательством. Хороши бы мы были, если бы отворачивались от своих друзей, лишь бы нам жилось спокойнее. Нет, если сейчас, в школьные годы, не научиться дорожить дружбой, беречь ее и отстаивать, потом уж трудно будет стать верным, надежным другом. Ты поступил правильно! Дружи с теми, кто тебе по душе, и не обращай внимания на тех, кто тебя дразнит.
Видишь, я сказала только то, что ты понимал и прежде. Но хочется мне написать письмо другому человеку: Леве, который обозвал тебя девчатником.
Итак, Лева, ты считаешь, что с девочкой дружить стыдно. Что ж, не хочешь — не дружи! Осуждать тебя за это нельзя, можно только пожалеть.
Если человек слеп и не видит ничего вокруг, если человек глух и не слышит человеческого голоса — его можно горько пожалеть. Но если человек нарочно завязал себе глаза, или заткнул уши, или решил: я не буду ходить двумя ногами, как все, я буду всю жизнь прыгать на одной ножке, или вдруг пришла ему в голову странная мысль: жить, скажем, только в городе и никогда ни на час не выйти за пределы его улиц, не видеть поля, леса, речки, — что можно сказать о таком человеке? Пожалуй, его тоже жалко. Но ты уж извини, жалеют его... за глупость, за недомыслие. Скажут: вот чудак, сам себя обокрал! И забудут о нем.
«Разве девочки могут быть как мальчики?» — пишут в редакцию «Пионерской правды» Шура С. и Хосан В.
А зачем им быть «как мальчики»? К чему всем быть одинаковыми? Иногда дружат люди похожие, а чаще — непохожие характерами, потому что им интереснее друг с другом. И незачем девочкам стараться быть «как мальчики». Каждый должен быть самим собой.
В 1944 году я ездила на Украину, в село Покровское, где в годы фашистской оккупации возникла подпольная пионерская организация. Там я познакомилась с членами подпольного отряда. Девочки, как и мальчики, работали бесстрашно, мужественно. Они прятали оружие, спасали девушек от фашистской неволи, разбрасывали листовки и делали все это ничуть не хуже, чем их товарищи — мальчики.
Девочек было пять, мальчиков семеро. Они никогда не ссорились, постоянно помогали друг другу и потому так великолепно делали свое трудное, опасное дело.
А что было бы, если б они рассуждали, как Алик Ю., который пишет в «Пионерскую правду»:
«Дорогая редакция, я пришел к заключению, что Валерке Михалеву лучше бросить дружить с Зоей, а подружиться с ребятами. Да с девочкой и не найдешь такого разговора, как с мальчишкой. С мальчишкой и про голубей поговоришь, и погоняешь их, и про коньки, и лыжи, да и вообще».
Девочек-голубятниц я и правда не встречала. Но неужто только и свету в окошке, что голуби? И мальчишки не все голубями увлекаются, и есть еще тысячи интереснейших занятий. А что до коньков и лыж, то среди моих учеников были девочки, которые куда лучше мальчиков бегали на коньках, катались на велосипеде и плавали.
Бегать на коньках, ходить на лыжах можно научиться: все это дело наживное. Мне кажется, не менее важно, чтобы человек много знал, чтобы он понимал книгу и любил ее. Тогда найдется о чем поговорить, поспорить, подумать. И, честное слово, уметь думать не менее интересно, чем гонять голубей!
Давно уже нет разговору о том, что есть специально девчоночьи занятия. Известно, что и солдат и моряк, например (уж какая профессия требует большего мужества!), должны уметь и пришить, и заштопать, и постирать, и сготовить.
«Валерка, присоединяйся к ребятам!» — так заканчивает свое письмо Алик Ю. Валерка бы и рад, но ведь ребята сами отвернулись от него. Ведь ты, Лева, не только сам дразнил его, но и остальных ребят во дворе подговорил не дружить с Валерой. И вот с этим-то и связано главное, о чем я хотела тебе написать.
Не хочешь дружить с девочками? Не дружи! Но почему все должны поступать, как ты? Откуда у тебя такая уверенность, что ты всех умнее и твои поступки самые правильные? Нет ничего хуже самодовольного человека, который уверен, что только его вкусы и взгляды достойны уважения и подражания.
На имя Валеры в «Пионерскую правду» пришло письмо ученицы третьего класса Нади Кузнецовой. Она пишет:
«Раз пошли мы из школы домой — я и мальчик из нашего класса Коля Батурин. А девочки из нашего класса собрались гурьбой и напали на нас с Колей и начали кричать: «Жених и невеста!» Так и кричали до самого дома. На другой день эти же девочки — Оля и Наташа подговорили Веру, Таню, Галю и других девочек. И опять напали на нас с Колей. И били нас портфелями. А Оля взяла по дороге большущую березовую палку и гнала нас с Колей до дома. Дома я заплакала от боли и обиды».
Вот к чему приводит тупая уверенность, будто только ты один прав. Когда человек уверен, что только он один понимает, что хорошо, а что плохо, как надо и чего не надо, — это непременно кончается тем, что он силой заставляет другого поступать так, как ему кажется вернее. И ведь, смотри, как подло, бесчестно поступали эти девочки: напали целой толпой на двоих. То, что сделали эти девочки, очень похоже на то, что сделал ты. Они только пошли чуть дальше: не помогло слово — схватили палку. А зачем палка между людьми?
Разве мешало Оле то, что Коля и Надя шли вместе? Что плохого в Надиной и Колиной дружбе? Почему надо их дразнить и силой заставлять раздружиться?
Вот и тебе зачем-то нужно, чтобы Валера и Зоя не дружили. А зачем? Нет, тут только одно можно сказать: не хочешь дружить с девочками, это твое дело. Другим не мешай. А Валере я хочу повторить то, что написал в своем письме Миша Жуков из Архангельской области: «Дорогой Валера! В дружбе с девочкой нет ничего плохого! Дружи на здоровье!»
«ЛЕГКОГО НЕ ЖДУ…»
Однажды я написала для газеты статью, которая кончалась такими словами: «Если бы я преподавала в вузе педагогику, я на первой же лекции сказала бы студентам так: «Пока не поздно, берите свои документы и уходите из педагогического вуза. Потому что учительская работа не знает ни выходных дней, ни отпусков. Она поистине одна из труднейших, что существуют на свете, она требует всей жизни без остатка».
Вскоре редакционная почта принесла мне письмо:
«Я послала документы в педвуз, но прочитала вашу статью и забрала их. Зачем всю жизнь мучиться? Лучше я буду журналистом: работы мало, а денег много».
Я не ответила тогда на это письмо. Я решила: его написал человек пошлый, разве можно ему объяснить, что всякая работа, если делать ее хорошо, требует душевных сил? Но в газету приходили новые и новые письма. И я увидела, что мысль, будто есть легкие профессии, присуща многим.
...Пятилетний мальчик погибал от болезни сердца. Он был обречен, спасти его могла только операция. Но риск, сопряженный с операцией, был так велик, что ни один врач за нее не брался, никто не хотел, чтобы мальчик умер у него под ножом.
Один доктор вызвался сделать эту операцию. Ему говорили: опасно. Не надо. Зачем вам рисковать?
А он рискнул. Мальчик жив, и есть надежда, что будет здоров. А если бы неудача? Как держать ответ перед матерью ребенка? Как самому жить, постоянно встречая укор в глазах окружающих? Так не лучше ли отступить, предоставить все случаю?
Медицинский институт — очень интересный институт. Но хорошенько подумайте, прежде чем подавать туда заявление.
Судя по письмам, приходящим в редакцию газет, иным школьникам кажется, что профессия юриста — легкая профессия. Так ли это?
У меня есть знакомая. Зовут ее Светлана Михайловна. Она адвокат, и, как все адвокаты, она старается выручить невиноватого, облегчить участь виновного.
Иногда дело ясно с первых же слов. Факты говорят: виновен. Обвиняемый признает: да, виновен. Но бывает, что на скамье подсудимых оказывается человек, который ни в чем не виноват. Он оклеветан. Или все улики случайно ополчились против него, кажется, нельзя не поверить: этот человек совершил преступление. Но судья, прокурор, защитник обязаны взвесить все заново и не один раз: все гораздо сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. Они сопоставляют показания подсудимого, свидетелей, они ищут, думают. Они знают, что не имеют права ошибиться. Ошибка может стоить человеку жизни. Или свободы. Судебный работник, как и сапер, не вправе ошибаться...
Но вот процесс окончен. Обвиняемый осужден и отбывает срок наказания. Светлана Михайловна переходит к новым делам, новым горьким судьбам. Но о тех, кто уехал, она не забывает. Она пишет своим прежним подзащитным, следит за их судьбой, шлет им книги, она рада любой возможности вновь и вновь хлопотать об осужденном. Обязана она это делать? Ничуть. Она вправе забыть о своем подзащитном, когда дело кончено. Но ей не нужно это право, она его отвергает! По доброй воле, потому что иначе не может, она взвалила на свои плечи огромную тяжесть, удесятерила свои заботы. Вы хотите пойти в юридический институт? Что ж, идите, это очень интересное дело. Но какое трудное, если делать его по-настоящему!
Все понимают, что труд шахтера — нелегкий труд. Но есть люди, которые думают, будто труд журналиста, к примеру, очень легок: человек много ездит, многое видит, а потом рассказывает о том, что увидел. Вот об этой работе, которая стала моей любимой работой, я тоже хотела бы сказать несколько слов.
Вы хотите стать журналистом? Превосходно! Если вы собираетесь всю жизнь писать так: «Вчера в Колонном зале состоялся бал выпускников средних школ. Бурными аплодисментами встретили собравшиеся выступление отличницы учебы такой-то...», вас, конечно, никакие особые огорчения не ждут. Но если вы хотите вступиться за невиноватого, или разоблачить подлеца, или просто помочь человеку — тогда легкого не ждите.
Вы вступитесь за человека, а вас спросят: «Да кто он вам, собственно?» Вы разоблачите подлеца, а вам вдогонку полетят анонимки, в которых вас обвинят в том, что, разоблачая, вы сводили счеты или получили взятку. Вы готовы к этому?
Есть журналисты, которые — если предложить им трудное задание, если надо выручить, спасти, вступиться — говорят: а почему я должен этим заниматься? Но они не журналисты. Настоящий журналист не только там, где радостно и легко. Он и там, где трудно, где горько, где безвыходно. И хорошо, если вашу статью напечатают. А если нет? А люди, за которых вы вступились, будут ждать и надеяться?
...Писатель Сергей Львов пристально следил за сложной судьбой одного человека. Этот человек (назовем его Н.) вернулся из тюрьмы. У него за плечами было преступление и наказание.
Вернувшись на волю, Н. не сразу нашел работу, не сразу добился доверия окружающих. Одним словом, это был путь очень трудный. Но Н. шел по нему и сумел перечеркнуть свое прошлое, стал хорошим работником, честным человеком.
Львов, узнав об этой судьбе, стал следить за ней не как сторонний зритель. Он стал другом Н., познакомился с его семьей. И Львов написал статью. Он рассказал об этой судьбе, справедливо считая, что она интересна и поучительна.
Вскоре после того как статья Львова была напечатана, Н. снова оступился. Нет, он не совершил преступления, не попал снова в тюрьму. Он просто запил.
Сколько горьких упреков пришлось выслушать Сергею Львову. Подвел, похвалил не того, кого следовало, ошибся: эх вы, доверчивая душа!..
Вы готовы к тому, что ваше доверие обманут? Вы готовы к риску, к горькому разочарованию, к несправедливому упреку?
...Журналистка Э. Малых ехала в кабине грузовика. Она спросила водителя, как его имя, отчество. Он ответил странно: «Анатолий... наверно, Иванович».
Оказалось, что во время войны, в сутолоке эвакуации, он, пятилетний мальчик, потерял родителей. Он ничего не помнит, кроме случайных, неясных подробностей. Одно он знает твердо: он из Ленинграда.
Двадцать лет кряду человек искал своих родителей и не мог найти. Равнодушные люди отвечали ему: нет. Не значится. Следов не найдено.
А журналистка взялась за дело, которого ей никто не поручал, за труднейшее, почти безнадежное дело и выиграла: помогла Анатолию найти отца, семью.
Я не хочу портить пересказом отличный очерк Малых. Он напечатан в журнале «Юность», отыщите его и прочитайте. И, прочитав, вы поймете: иссушающей тревоги, сил, затраченных на поиски, не оплатил полученный гонорар. Я уж не говорю о том, как велика была ответственность перед человеком, которого журналист обнадежил.
И еще: конечно, очень важно толково собрать материал, обдумать его, понять, что ты скажешь в своем очерке. Но это — полдела. Самое трудное впереди: ты садишься за стол и вдруг видишь: слова тебе не подчиняются. Ты положил события на бумагу, но, перечитывая написанное, убеждаешься в одной очень странной вещи: то, что в жизни было трудно, на страницах очерка вдруг оказалось легко. События побледнели, образы людей увяли. Как это случилось? Кто в этом виноват? Виноват ты, не сумевший найти тех единственных слов, которые выразили бы твою мысль, нарисовали бы читателю людей и события.
Трудное дело — журналистика...
Но есть ли на свете легкое дело?
Недавно я читала дневник человека, которого уже нет в живых. Его звали Михаил Шнейдер, он был литератором и умер вскоре после войны от туберкулеза. Он много болел, часто жил в санаториях и больницах. В его дневнике, полном живых и точных наблюдений, я нашла две записи, которые хочу привести здесь полностью.
В первой записи речь идет о туберкулезном санатории: «Здесь в било бьют разные санитарки. Бьют равнодушно, уныло, быстро кончают и после этого сразу скидывают на землю ударник.
Я заметил, что иногда кто-то бьет энергично, долго, в глубоком и едином ритме. И подкараулил. Молоденькая девушка взяла ударник в обе руки, стала под самое било и, держа ударник над головой, бьет долго, с захлебывающейся энергией, со сдерживаемой улыбкой. У нее косенькое лицо, монгольские скулки, ей семнадцать лет, и я уверен, что это серьезный и талантливый человек».
А вторая запись такая: «Сдавал заказное письмо, обклеенное марками, на которых пушкинский портрет. Сухая, немолодая и некрасивая женщина, погашая длинным штемпелем марки, осторожно выбирала, где стукнуть, чтобы не шлепать при этом лицо Пушкина. Целый день она делала это, и в семь часов вечера ее движения вежливы и нежны. Я никогда не забуду этого ее большого дела».
Я не хочу с помощью этих цитат выразить общеизвестную и от частого повторения ставшую плоской мысль, что всякое дело надо делать хорошо. Все мы знаем: есть вещи скучные. Но одно верно: в каждой работе почти неизбежна первая трудная будничная полоса. И тут надо призвать на помощь воображение. Хорошо, когда начинаешь понимать: за этой смутной, безрадостной полосой непременно возникнет новая — нелегкая, но серьезная, полная открытий, где возможен глубокий и единый ритм.
Выбрать работу, которая станет твоим жизненным делом, — нелегко. На земле разбросаны угольки призваний, говорит легенда. Каждый уголек может по-настоящему разгореться, только попав к своему хозяину. Если человек подберет не свой уголек, огонь будет едва мерцать, а то и совсем потухнет. С давних пор ходят люди по свету, и каждый ищет тот огонь, который ему предназначен. Иные счастливцы сразу его узнают, другие ищут всю жизнь и не находят; и много на свете людей, которые пытаются раздуть чужой огонь, и это не приносит им счастья. Только сам человек может угадать свое призвание. Никто со стороны за него решать не должен. Людям, которые спрашивают, кем быть, вернее всего ответить так: будь человеком. И знаю: легкой работы на свете нет.
Я навсегда запомнила слова одной ленинградки, пережившей блокаду. Она сказала: «Легкого не жду. Трудного не боюсь». «Легкого не жду» — то же самое вам скажут и врач, и судья, и санитарка в больнице, и няня в детском саду, и журналист, и почтовый работник — всякий, кто работает с людьми.
Есть на свете такое слово: долг. Мы говорим: долг совести, долг службы, врачебный долг, долг учительский. Но одного долга мало. Надо любить человека и любить свое дело.
ДВОЙКА ПО ИСТОРИИ
В январе пятьдесят второго года я получила письмо. Помню, как раскрыла конверт, как вынула грубый, потершийся на сгибе листок и прочла: «Здравствуйте, Марина Николаевна! Прочитал сейчас книгу «Мой класс». Называю Вас так, как в этой книге называют Вас Ваши ученики. Марина Николаевна, я заключенный. Зовут меня Борис Корниенко».
Это было длинное письмо. Его писал молодой человек, самостоятельная жизнь которого началась трагически: он совершил кражу и был заключен в тюрьму. В лагерях, где он отбывал срок наказания, ему попалась моя книга — повесть о молодой учительнице и ее учениках. Рассказ в ней ведется от первого лица, вот почему в те дни, вскоре после того как книга вышла в свет, я получала письма, которые неизменно начинались словами: «Здравствуйте, Марина Николаевна» — читатели называли меня именем моей героини.
Меня обычно спрашивали, как я писала свою книгу, где сейчас мои ученики, продолжаю ли я работать в школе. Но это письмо не походило на другие. Это было письмо-исповедь. Борис Корниенко ни о чем не спрашивал. Он рассказывал о себе. Рассказывал о детстве, о раннем сиротстве.
«Мне кажется, — писал он, — я походил на Вашего ученика Диму Кирсанова. Нет, я не был таким способным, я не так хорошо учился. Но я был так же самолюбив, так же застенчив, и у меня не было друзей. И потом, знаете, я очень некрасивый: рыжий и в веснушках. Я чувствовал себя одиноким. Но Ваш Дима — настойчив, у него сильный характер. А я уже в детстве был слабым человеком. Я хотел стать инженером, изобретателем. Но я пошел кривым путем, я хотел избежать трудного, я стремился к тому, что дается легко. Может быть, я и выправился бы и стал настоящим человеком, но тут началась война, эвакуация, скитания, погиб на фронте отец, и это меня окончательно подавило. Семнадцати лет я ушел в армию. Думаю, что она повлияла на меня хорошо, но привычка судить о людях плохо в свое оправдание, замкнутость и недоверчивость — все это оставалось во мне.
О своем преступлении скажу коротко, в двух словах: я увлекся радио и украл часть радиоаппаратуры.
Конечно, настоящий человек не так добивается осуществления своей мечты. Но я хотел достичь своего быстрее, легче, я пошел кривой дорогой, а она никогда не доводит до добра. Мне никто не пишет. Ни один человек. Года два назад я послал письмо в один московский институт, а после слов «кому» написал: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке». Но мне никто не ответил».
Я читала и думала о том, что отвечать Борису Корниенко мне будет трудно. Советовать всегда трудно. Советовать человеку в неволе — просто стыдно. Ведь я-то на свободе, и многое, если не все в моей жизни, зависит от меня. А он не свободен в своих поступках. Сесть за письмо мне помогло одно обстоятельство. Во всем, что написал Борис Корниенко, были и горечь и тоска. Но не было озлобления. Когда человек озлоблен, до него не достучишься. По тому, как Борис писал об окружающих его людях, я поняла, что он не оглох, не ослеп.
«Есть у нас в бригаде один человек, Михаил Голицын, парень не то что ограниченный, а просто неразвитый и малограмотный. Характер у него несамостоятельный, легкий, переменчивый и безобидный. Так вот этого Михаила, пользуясь его слабостью, сделали у нас бригадным посмешищем. Я к этому привык, а другой раз и сам посмеюсь, когда выходит остроумно. Мишку этого я не люблю, считаю, что человека из него не выйдет. У него самолюбия нет. Оскорбят его страшно, позорно, а он через полчаса уже все забыл. И вот нашелся человек, который встал на его защиту. Нет, не я. Владимир Чумаков. Он сказал ему: «Неужели ты не видишь, что над тобой издеваются?» А другим сказал: «Если еще раз увижу, что издеваетесь, будете иметь дело со мной». Вот какой человек этот Чумаков. В лагере все стремятся отбыть свой срок и сохранить свое здоровье. Неписаное правило говорит: добивайся этого любыми путями, но только не во вред товарищам по несчастью. Но не все этому правилу следуют. А Владимир выполняет его, как закон. И он никогда ни перед каким начальством шею не гнет, чем бы это ему ни грозило. Нет, и здесь есть у кого поучиться честности».
Вот это место из письма Бориса и помогло мне ответить ему.
Я написала, что понимаю: ему трудно, очень трудно. Но пока человек живет на земле, никакое его одиночество нельзя считать окончательным. И сегодня и завтра могут встретиться на нашем пути люди, которые станут нам близки и дороги. Ведь и в лагере он сумел найти людей, о которых рассказал с уважением и любовью, — всюду нас окружают люди, и это очень хорошо, что он научился их видеть: «Я гораздо старше Вас и поэтому имею право посоветовать, сказать Вам — не надо жить тем, что будет когда-нибудь потом. Вы пишете: годы уходят. Нет, не уходят. Я по Вашему письму вижу, что они оставляют глубокий след в Вашей душе. Что Вы научились видеть и думать. И как бы ни было трудно, живите не только мыслью о том, что с Вами станет, когда Вы отбудете срок, но и сегодняшним днем — этот сегодняшний день еще очень много может дать Вам: и друзей, и книги, и мысли, и умение, которое потом очень Вам пригодится».
Трудно разговаривать с человеком, которого никогда не видел. И я не знала, не была уверена, поймут ли меня, услышат ли.
Но Борис понял и услышал. Скоро пришло ответное письмо — он снова рассказывал о людях, которые его окружают. О прочитанных книгах. О своем детстве. И с чуть меньшей горечью и безнадежностью говорил о будущем. Он писал, что каждую свободную минуту посвящает занятиям: «Я не хочу забывать то, что проходил по математике, физике, химии. Может, и правда я когда-нибудь смогу наверстать упущенное? Не очень-то я в это верю. Но Вы правы: не надо помирать раньше смерти. Не сердитесь, я хочу попросить Вас — не пришлете ли Вы мне учебник английского языка?»
«Какая книга!!! — писал он мне, прочитав «Овод». — Какой человек! Каким мелким я кажусь себе в сравнении с ним. Но почему это, объясните, книга так плохо кончается, и Овод умирает, я плакал, когда читал. А прочитал — и не умирать, а жить хочу. И надежды больше, чем прежде».
Отвечать на письма становилось все труднее. Мой корреспондент спрашивал о тысяче вещей — он хотел знать, свободна ли человеческая воля? Сможет ли он наверстать потерянное? Как я думаю, кто выше — мужчина или женщина?
Я ответила, что у меня нет привычки делить людей на мужчин и женщин. Для меня есть глупые и умные люди, хорошие и дурные, честные и бесчестные, — и среди тех и других есть мужчины и женщины. Я — человек. И, как человек думающий, работающий, равен другому человеку — думающему и работающему, независимо от того, мужчина или женщина этот другой человек.
Эти слова вызвали целый поток новых вопросов. Как человек становится дурным или хорошим, честным или бесчестным? Отчего это зависит? Почему есть много книг о хороших людях и мало — о плохих?
«Можно ли выразить душу человека языком цифр? — спрашивал Борис. — Вот сейчас поясню свою мысль. Кончает подросток школу, уходит в самостоятельную жизнь. Какой он человек, хороший или плохой для общества, для нас с Вами? Это будет видно по его влиянию на жизнь, и миллионы таких подростков, входя в море жизни, вносят каждый по капельке своего влияния в него, изменяют это море.
Разве учителям не интересно знать, какова доля их влияния на сознание людей, а значит, и на жизнь? Разве учителю не интересно знать, что сталось впоследствии с каждым из двадцати учеников его класса? Не анкетные данные, которые можно толковать по-разному, а действительное отношение человека к жизни? Действительно ли со временем из каждых в среднем двадцати бывших учеников выходит все большее число людей честных и действительно ли они живут лучше и счастливее? Разве это учителю все равно? Разве ему не надо находить все новые доказательства в оправдание своей деятельности и в своих глазах, и в глазах других людей? А доказывать и проверять надо неопровержимым и бесстрастным языком цифр».
Иногда письмо Бориса начиналось словами: «Я в себя верю». Другое было полно горечи: «Что мне делать? У меня такая тревога, и тяжесть, и тоска на сердце. Сделайте так, чтобы мне было легче, я больше не могу, не верю в себя! Как мне быть? Помогите мне не сердечным советом, помогите мне понять жизнь. Я предпочел бы оказывать поддержку, чем самому в ней нуждаться. Но я в ней очень нуждаюсь».
Нередко в письмах Бориса звучала чужая, не свойственная ему мысль, но поневоле он возвращался к ней: «Здесь говорят, что быть честным глупо и ненужно. Сам я тоже никак не могу решить, есть ли заслуга в человеческой стойкости? Если нет заслуги, то, значит, не от человеческой воли, не от своеволия человека зависят его поступки. А раз так, значит, пропадает смысл таких слов, как «стойкость», «выдержал испытание». И значит, за свои преступления человек тоже не в ответе».
Отвечать на такие письма было труднее всего. Ведь самое худшее и непростительное, что мы можем сделать со своей жизнью, — это вообразить, будто наша воля не свободна и каждый шаг наш предопределен, и поэтому мы уже ни за что не отвечаем — ни за хорошее, ни за плохое.
Тут мне помог Чернышевский. Его книгу «Что делать?» Борис читал не для того, чтобы пересказывать в сочинениях сны Веры Павловны, не для отметки в журнале, на экзаменах. Читая, он утолял жажду и голод. Он не только читал, он думал над книгой, и она помогала ему понять жизнь: «Герои «Что делать?» никогда не прячутся за мысль, будто от них ничего не зависит. Они сами кузнецы своего счастья. Как трудно быть кузнецом своего счастья! — писал Борис. — Для этого надо быть очень умным и очень сильным. А что, если я начну читать «Диалектику природы» Энгельса и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина?»
Вот тут я твердо была уверена в справедливости своего совета: «Для Вас сейчас самое главное, самое насущное — программа средней школы. А Ленина и Энгельса Вам не одолеть, вы заплутаетесь в этих книгах, они Вам еще не по плечу».
Борис продолжал заниматься. Читать. Работать. Думать. И когда в пятьдесят третьем году была объявлена амнистия, он получил свободу. И, приехав в Москву, пришел ко мне. На пороге стоял высокий худой юноша. Он описал себя беспощадно правдиво: веснушчатый, некрасивый. Но глаза у него были умные, пытливые.
— Я еще не верю... не верю, что на свободе... Что дома, что буду учиться!
Через неделю Борис уже работал электротехником на маленьком пригородном заводе. А еще через десять дней сел за учебник.
— У меня впереди целое лето, я буду готовиться к экзаменам в десятый класс вечерней школы, — сказал он. — Как Вы думаете, выйдет из этого что-нибудь? Примут меня?
Иногда он звонил и просил разрешения прийти. Он бывал разный — как в своих письмах: то уверенный в успехе («Решил очень трудную задачу по физике!»), то печальный, поникший («Нет, сегодня я понял: ничего не получится!»)
...Пришел август, наступили дни экзаменов. Борис написал толковое сочинение по литературе. Справился с алгебраическими задачами, очень хорошо отвечал по физике. Но по истории он получил двойку. Ему попался билет, которого он совсем не знал. После экзамена по истории он пришел к нам. Лицо его было бледно, губы крепко сжаты. Но он старался держать себя в руках.
— Что ж, — сказал он, — попробую в будущем году... Не все сразу, правда?
А завтрашний день принес неожиданную весть: Бориса приняли в десятый класс.
Учителя в этой школе были умными людьми. Они знали: есть случаи, когда строго формальный подход будет несправедлив и бесчеловечен. И если юноша с такой судьбой стремится в школу, к книге — надо помочь ему. Бориса приняли с условием, что в конце первого семестра он сдаст курс истории за девятый класс.
Он работал. И учился.
Он работал и учился со страстью. Он жил нелегкой, но счастливой жизнью. «Я боялся, что меня попрекнут прошлым. Ведь все знают, что у меня за спиной. Нет, никогда никто ни словом не обмолвился!»
Если бы стали попрекать, он оставил бы школу. Но никто не коснулся прошлого. И все дружно помогали ему.
— У тебя был большой перерыв. Хочешь, помогу тебе по математике? — говорил кто-нибудь из учеников.
— Я вижу, у вас большой интерес к радио. Зайдите ко мне, дам вам интересную книгу, — сказал преподаватель физики.
— Успел приготовить уроки? А то отпущу пораньше, — часто говорил мастер в цехе.
...Борис кончил десятый класс вечерней школы рабочей молодежи. Через год он держал экзамен в институт. Тот самый, куда он написал когда-то письмо: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке».
Он поступил на заочное отделение и закончил радиофакультет. Теперь он инженер. Он женат, и у него есть дочка Наташа.
...Если бы Борис, вернувшись на свободу, встретил равнодушие, отчуждение, его жизнь сложилась бы иначе — и кто знает, какие пути легли бы перед ним. Они могли привести его назад — через злобу и одиночество, — к преступлению. Если бы двойка по истории лишила его школы в тот первый, самый трудный год, может статься, он не сумел бы справиться с собой. Может быть, он надолго бы разлучился с ученьем, не вошел так скоро в товарищеский круг.
Да, были люди и в школе и на заводе, которые помогли Борису на первых порах. И это, конечно, облегчило ему первые шаги в новой жизни, породило ответную добрую волну, всколыхнуло все человеческое, что было в характере юноши.
Но я уверена: никто не смог бы ему помочь, если бы он сам не задумался над своей жизнью, не постарался бы понять ее. Самуил Яковлевич Маршак сказал мне однажды: «Если человек сызмальства не поймет, что есть нечто более драгоценное, нежели золотые часы, он непременно украдет их. Непременно. Страшный удар в легкие не так страшен, если у тебя легкие полны воздухом. И он может быть смертельным, если легкие пустые. Жизнь без высокой мысли — это улица без фонарей. На ней возможен всякий разбой».
«Помогите мне понять жизнь», — писал Борис когда-то. Но нельзя ни думать, ни понять за другого. Каждый должен сам задуматься над своей жизнью, над тем, что низко, что высоко, что подло, а что по-человечески.
Способность думать над своими поступками, думать над своей жизнью — вот достояние, которое оберегло Бориса от злобы, от одиночества в лагере и от крутых поворотов в новой жизни...
МИНУТЫ ТИШИНЫ
В Ереване на улице Налбандяна живет мальчик. У него есть тетрадь, на обложке которой написано: «Собственноумные мысли».
Тетрадь оправдывает свое название. Там можно найти немало собственных умных мыслей («Друг — это все», «Главное в человеке — это справедливость»), но есть и такая запись: «Но время, но опыт — единственные права, чтоб дружбу признать истинною. Что значит иметь друга — это я знаю; что значит ошибиться в человеке — и это я знаю, это кусок мяса, отодранный от своего сердца, горячий и кровавый».
Я сказала:
— Но ведь это не твоя мысль? Это слова Герцена.
— Но я тоже так думаю! — был ответ. — Разве Герцен неправду говорит? Он говорит в точности, как я думаю, вот я и записал.
Я не знаю, как нашел двенадцатилетний мальчик эти слова — прочитал ли переписку молодого Герцена с его невестой Натальей Александровной Захарьиной или вычитал их где-нибудь в чужой тетрадке. Но он недавно поссорился с другом, и эти слова поразили его своей верностью, своей правдой, он ощутил их, как свои, и поэтому переписал в тетрадку наравне со своими собственными мыслями.
Да, у мысли, выраженной точно и верно, есть то свойство, что она становится твоей. Тебе кажется — только мгновения недоставало, чтобы ты сказал то же самое, слово в слово. И чужая мысль становится твоей опорой. Проходит время — она крепнет, растет вглубь, и настанет минута — она из девиза превратится в поступок, станет действием.
Работая над повестью о Зое и Шуре Космодемьянских, я встречалась с матерью Зои и Шуры, с их учителями, с товарищами Зои по партизанскому отряду, с фронтовыми друзьями Шуры. Они рассказали очень много о семье Космодемьянских. Без этих драгоценных рассказов не было бы книги. Но все время не хватало чего-то очень важного. Что это было — взгляд изнутри? Письмо? Дневник? Да, хотя бы нескольких слов от первого лица: «Мне кажется... Я думаю... Я хочу...»
Школьные сочинения? Да, они сохранились, но они предполагали читателя, обсуждение, отметку. Не хватало Зои наедине с собой. И тогда на помощь пришла Зоина записная книжка — она сохранилась в архиве Петра Александровича Лидова, военного корреспондента «Правды», впервые написавшего о Зое Космодемьянской.
Это была маленькая книжка в коричневой клеенчатой обложке. В ней то карандашом, то чернилами торопливым почерком или четко, старательно, были записаны названия книг, которые читала Зоя. Крестиком или птичкой она отмечала уже прочитанное, и меж заглавиями статей и книг вдруг появлялась строчка стихов, короткая выписка из Толстого, Горького, Чехова. И сквозь чужие строки, чужие мысли все отчетливее и отчетливее вырисовывался облик сначала девочки, потом подростка и молодой девушки.
Эта записная книжка была чистым зеркалом. Оно отражало все, о чем думала, чем была взволнована и задета Зоя.
«Рана от кинжала излечима, от языка — никогда». Эта запись подтверждала рассказы о девочке, которая тяжелейшую операцию вынесла без стона, без единой жалобы, а от резкого слова могла сжаться и надолго уйти в себя.
А вот другая запись: «Хорошо о Сереже: «Ему было девять лет, он был ребенок, но душу свою он знал, она была ему дорога, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу». Эта запись яснее всяких пространных излияний выдает душу застенчивую, скрытную и любящую.
Но автора одной записи я не знала. Это было всего несколько слов: «Найти волшебный ключ. Пройти через жизнь в шитом звездами плаще». Кто это сказал? Не Блок ли?
Несколько лет спустя я прочла письма Розы Люксембург. В тонкой брошюрке, изданной году в двадцатом, были собраны письма, которые Роза Люксембург писала из тюрьмы жене Карла Либкнехта. Эти письма поразили меня. Добрые, жизнелюбивые, написанные из тюрьмы, они могли служить опорой и утешением человеку, который был на свободе. Узница была сильнее, свободнее той, которая жила на воле.
«...и в скрипе сырого песка, под медленными, тяжелыми шагами часового, — писала она, — тоже поется маленькая прекрасная песня о жизни, если только уметь правильно слушать. В такие минуты я думаю о Вас, я бы так хотела поделиться с Вами этим волшебным ключом, чтобы Вы всегда и во всяких положениях находили красоту и радость жизни. Я не думаю кормить Вас аскетизмом, надуманными радостями. И предоставляю Вам все настоящие чувственные радости. Я хотела бы только передать Вам мою неисчерпаемую внутреннюю радостность, чтобы я была спокойна, что Вы проходите сквозь жизнь в шитом звездами плаще».
Так вот откуда они, эти слова — «найти волшебный ключ. Пройти сквозь жизнь в шитом звездами плаще». Среди мыслей, чувств, надежд, которые лепили растущую душу Зои, была и эта мысль, это стремление. Зерно жизнелюбивой мысли дало росток, стало девизом, и девиз этот был оправдан короткой, но чистой и мужественной жизнью.
Много хороших книг на свете, книг-учителей, книг, которые приобщают мысль, переворачивают ум и сердце. Надо ли снова и снова вспоминать о Рахметове, которого полюбил юноша Димитров, и об Оводе, который вел за собой молодого Николая Островского. Но мне кажется, иной раз строчка, слово из письма или дневника действуют еще сильнее, еще глубже. Отчего? Ведь письмо — не книга, не повесть. Страничка, иногда несколько слов. В чем секрет иных писем, написанных подчас небрежно и наспех?
Однажды писательница Александра Яковлевна Бруштейн сказала мне:
— Почему актеры и режиссеры детских театров так любят, когда в зрительном зале аплодируют, кричат или смеются? Почему считается, будто аплодисменты и смех — признак интереса и волнения? Я больше всего люблю в зрительном зале тишину. Тишина означает: зритель думает. Он взволнован. И вот это раздумье, это волнение и есть признак того, что пьеса хорошая.
...Наверно, никого нельзя научить быть счастливым. И никому нельзя сказать: «Вот программа твоей жизни. Следуй ей, и все будет хорошо». Нет, этому не научишь. Но научить мыслить можно. Умение думать рождается и от встречи с чужой мыслью, с чужим раздумьем, сомнением, с тревогой другого человека.
Когда-то Герцен писал: «Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям, и которых больше нет...
Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают другое лето, его зной, его теплые ночи и то что оно ушло на веки веков; по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим...»
Каково бы ни было чувство, вызвавшее переписку — дружба, любовь, гнев, — в письмах оно выражается без румян, без прикрас, в письмах бывает закреплено и помечено — пусть наскоро — самое глубокое и заветное, что не всегда и скажется даже в разговоре один на один.
Да, письма сближают нас с писавшим, с помощью писем прошлое становится живым и близким. И живыми становятся для нас те, кто их писал. Лучший пример тому — письма самого Герцена. Эти письма — будущей ли жене Наталье Александровне Захарьиной, Огареву ли, детям — являют собой исповедь, где любовь, гнев, страдание предстают перед читателем в совершенной искренности.
Любой из вас, приводя пример дружбы великих людей, непременно назовет Герцена и Огарева, но чаще всего оказывается, что знаете вы только о клятве на Воробьевых горах. А читали ли вы переписку Герцена и Огарева? Я спрашиваю об этом потому, что нигде они не встают так во весь рост, как в этих письмах.
Не знаю, есть ли металлы, которые не плавятся ни при какой температуре, но были, есть и всегда будут люди, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не изменят себе, не перестанут быть самими собой.
В 1852 году умерла жена Герцена Наталья Александровна. Умерла, оставив троих детей — Сашу, Тату и Олю. Старшему — Саше, было двенадцать лет, младшей — Оле, два года. Перед смертью, предчувствуя, что скоро уйдет из жизни, Наталья Александровна не раз говорила, что хотела бы доверить воспитание детей Наталье Алексеевне Тучковой. Жена Герцена любила ее, называла ее «моя Консуэло» («консуэло» — по-итальянски «утешение») и верила, что только Наталья Алексеевна сумеет заменить мать осиротевшим детям.
Через несколько лет после смерти Натальи Александровны в Англию, где жил тогда Герцен с детьми, приехал Огарев с женой Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой.
И тут произошли события, которых никто предвидеть не мог: Наталья Алексеевна полюбила Герцена и вскоре стала его женой.
Огарев был горячо привязан к Наталье Алексеевне, и все происшедшее было для него тяжким ударом. Казалось бы, между Огаревым и Герценом должна возникнуть непроходимая пропасть, неодолимое препятствие. Но, читая их письма той поры, понимаешь: всегда, в любых обстоятельствах оставаться людьми — во власти самих людей.
Надежды, которые возлагала покойная Наталья Александровна на свою молодую подругу, не оправдались. Наталья Алексеевна искренне хотела посвятить себя воспитанию детей, но она не сумела их полюбить, а без любви нет разумения, нет понимания. Она не смогла заменить им мать, она была мачехой — несправедливой, подозрительной, сварливой.
Когда отношения Герцена и Натальи Алексеевны зашли в тупик («Какое глубокое и плоское несчастье!» — восклицает Герцен в письме Огареву), когда семья была разрушена, разобщена, когда и дети Герцена и сам Герцен были отравлены ядом постоянных ссор с Натальей Алексеевной, ее подозрениями и упреками, Огарев говорил в одном из своих писем Герцену: «Ты иногда мне намекал, что ты внес в мою жизнь горечь. Это неправда! Я, я в твою жизнь внес новую горечь. Я виноват».
Письма Огарева к Наталье Алексеевне, письма, в которых он напоминает ей об их общей ответственности за детей Герцена, об их долге перед памятью умершей Натальи Александровны Герцен, — это письма, в которых воплощены честь и высота человеческой души.
Могут сказать: зачем же приводить примеры из семейной жизни, из семейной неурядицы, когда и без того известно, что Герцен и Огарев рыцари без страха и упрека, испытанные борцы, замечательные революционеры? Это верно. Но ведь верно и то, что иной раз оставаться человеком легче в крупном, чем в мелком, повседневном. И другое: нельзя, я думаю, область дружеских или семейных отношений низводить до степени неважных, несущественных.
Ведь когда вы читаете о жизни великих людей, вы хотите знать обо всем: не только о великих свершениях, но и о духовной, внутренней жизни, о поисках, находках, ошибках. Об ошибках — не для того, чтобы злорадно сказать: э, да и они, как все! — а для того, чтобы понять, как человек становится Человеком, как он духовно крепнет, как он остается самим собой в крупном и в повседневном, в горе и в счастье, в минуты «грозно-торжественные» и в ежедневной суете.
Никакие уроки морали, никакие самые высокие наставления не скажут нам того, что найдем мы в простых и глубоко человечных письмах Ивана Петровича Павлова. Многие из вас наизусть помнят его предсмертное письмо. Вы немало знаете о Павлове-ученом, о его прямоте, принципиальности, требовательности к себе и другим. Но как важно, как интересно увидеть, насколько он всегда и во всем остается самим собой. И если в юности учатся думать, то редкая книга дает лучший толчок мысли, чем эти письма. Главная мелодия в них: «Я плох, но я хочу быть лучше». И еще: жажда доверия, равенства в любви. Жажда совершенной правды, всегда, во всем.
«Дорогая Сара, — пишет Иван Петрович, — может, тебе очень не по сердцу вечные мои промахи и следующие за ними раскаяния, просьба о прощении. Может, скажешь: «Уж если не можешь обойтись без спотыка, по крайней мере не канючил бы». Когда же это кончится? Я плох и хочу быть лучше — и вижу к этому теперь средство, случай в нашей любви...
Вчера с Сережей был на рубинштейновском концерте. И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки?.. Я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказывали мне: «Нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своей помощью — правда». И почувствовал я к этой правде любовь страшную — и вдруг сделался силен, как будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни».
И чуть позже в другом письме: «Людям естественно сбиваться, на то и люди. Лишь бы поднялись, воротились на истинный путь. А я верю в это. Что там жизнь ни делала со мной, а я все-таки всей душой за правду, за разум, за труд, за любовь».
И опять, и снова: «Мы опять один человек, твоя радость — моя радость, твое горе — мое горе. Опять между нами светло, хорошо. Ведь так, мое утешение? Это ведь верно? Мы всегда будем говорить правду друг другу? Мы оба искренне признали над собой одного судью — правду!..
Мне не передать в письме то, что чувствуется, думается об этом предмете. Мне не передать тебе, как велика надо мной сила правды и как бесконечно законно каждое твое справедливое желание, требование, чувство... перед каким-либо посягательством с моей стороны. Мне не сказать тебе, как беспокойно начинает биться сердце при одной мысли, что мелочные столкновения могут иметь место в нашей общей жизни».
За всю историю рода человеческого много было сказано слов любви. Как будто уже не осталось несказанных, таких, которые бы заново задели душу — и, однако, это неверно, потому что у простого, от сердца идущего слова есть свое волшебство, своя власть — и старое, знакомое, оно звучит, как открытие, как сказанное впервые. И письма, в которых Павлов говорит, что надо беречь любовь, беречь от мелочей, от второстепенного, от того, что Герцен называет «плоским несчастьем», написаны с такой взволнованностью, которая никого не оставит равнодушным — она непременно заденет за живое, непременно всколыхнет мысль.
Как-то Сара Васильевна написала Ивану Петровичу с упреком:
«Ты забыл... что у меня есть своя воля и что я никогда не соглашусь подчиниться руководителям».
Эти слова повергают его в смятение. Для него нет мелочей в любви, он знает, уверен, что подозрительность, недоверие, невысказанный упрек подточат любовь, уничтожат ее, поэтому ответ исполнен тревоги и предостережения: «Как могла ты написать это? Выходило, как будто я уничтожаю твою волю. Я давал программу твоего поведения? Я передавал мои впечатления, мои думы, мой опыт. Но приведи хоть слово с намеком на желаемое подчинение. Разве не всюду подразумевалось: вот как я думаю, а ты сделаешь, как решит твоя мысль? Скажи, как же можно было высказаться моему участию в твоем деле? Чтобы я руководил? Ничего не может быть несвойственнее моей душе. Может быть, это ее даже порок. Всегда только сказать свое мнение, но никогда не брать на себя ответственность за чужую мысль, чужую волю — вот я...
Ты поймешь теперь, Сара, что три страницы того письма твоего действительно выбрасывали из моей души все сознательное содержание моей любви к тебе. Она жила, как чувство без слов, без лица. Мне ничего не мечталось ни о твоей деятельности, ни о нашей будущей жизни, потому что все эти мечты мои твое письмо или заподозрило или отняло у них всякую почву. Эти мечты разогнаны из души — и смотри, как медленно возвращаются на твои последующие письма.
Сара, обрати внимание на эту мою черту: мы ведь должны приноравливаться друг к другу... Пойми как следует эту мою исповедь. Этим свежим случаем я сам напуган. Наша любовь мне так дорога. А она подверглась опасности. Странно! Я ведь вовсе не злился на тебя эти дни, но как-то глубоко чувствовал, что между нами порвались связи, что мы негодны, не сойдемся для общей жизни.
Довольно. Уже очень поздно! Завтра поутру напишу еще. Целую тебя, моя такая неосторожная, невоздержанная, но моя хорошая, дорогая Сара!»
Эти письма не похожи на сухие листья, перезимовавшие под снегом, — это чудом уцелевшая свежая листва, по ней не просто догадываешься о ветвистом дереве, а будто видишь его воочию — могучее, тенистое. Встреча с письмами Павлова — есть встреча с живым Павловым, с его мыслью, тревогой, раздумьем — прекрасная, драгоценная встреча. И когда читаешь личные письма замечательных людей, они, конечно же, не вызывают желания искать в них мелкое, второстепенное. Честное, прямое слово, искреннее чувство, которыми полны эти письма, сделают для нас прошлое — живым, писавшего — понятным и близким.
Минуты тишины, проведенные за чтением дневников и писем, часы раздумья — им нет цены. Лучшие люди прошлого становятся близкими и понятными нам и живым своим примером учат думать, чувствовать, жить.
ЧТО ТАКОЕ МУЖЕСТВО?
Это было в Магнитогорске. Я только-только начинала свою учительскую работу. Мне достался третий класс, и каждый из сорока ребят, сидевших за партами, казался мне загадкой. Что скрывается в этих детях, доверенных мне?
В любом из них мне чудился будущий Ломоносов, Амундсен, Седов, замечательный ученый, путешественник, герой.
Им было по десять-одиннадцать лет. С тех пор прошло более четверти века. Первые мои ученики уже стали взрослыми, их разбросало по свету, между нами легли пространство, время, война. Но я до сих пор помню их лица, их голоса, кто где сидел и — почерк. Да, как ни странно, подумав о ком-нибудь из них, я вспоминаю листок тетради и круглые, красивые буквы Шуры Зюлина и удлиненные, с энергичным нажимом — Коли Леканта. Я помню сидевшего в правом дальнем углу Толю Горюнова и его почерк, такой же ясный и отчетливый, как он сам.
Очень занимал меня один из мальчиков — Коля Ветлугин. Это был человек бесшабашный, и сладить с ним было нелегко. Он не ходил — бегал, не говорил — кричал, не смеялся — хохотал во все горло. Его чуть было не исключили из школы потому, что однажды он без всякой надобности — просто так, от нечего делать —прошелся по карнизу третьего этажа. В другой раз он до крови подрался с шестиклассником, парнем вдвое больше его, — тот сжульничал во время игры. Он никого не боялся — ни меня, ни директора, ни своего отчима, угрюмого, молчаливого, с тяжелой рукой. Коле часто от него доставалось, но мальчик от этого не становился ни тише, ни послушнее.
Однажды Коля Ветлугин пошел в буран на поиски соседского малыша. Было темно, хлестал снег, хлестал беспощадно, слепил, лишал дыхания. Вернувшаяся с работы соседка хватилась четырехлетнего сына, забежала к Ветлугиным спросить, не у них ли он. И снова побежала искать.
Коля кинулся следом — в темень, ветер и снег. Он отморозил ноги, они покрылись пузырями; с неделю после этого он не мог шагу ступить. Но малыша нашел. Я была при том, как доктор протирал Коле спиртом обмороженные ноги. Это было больно, но Коля только покрепче закусил губу.
Учился он превосходно, со страстью. В том, как он учился, было то самое «чересчур», которое отличало все его поступки. Но тут оно меня не огорчало. Если я на уроке арифметики показывала ребятам какой-нибудь новый способ устного счета, скажем, как множить на одиннадцать, он потом умножал разные числа на одиннадцать весь день напролет и приходил в восторг: получается!
В первые же недели занятий он прочел учебники по естествознанию и по истории от корки до корки. Если надо была на уроке грамматики придумать два-три предложения, где встречалось бы отрицание «не» с глаголом, он придумывал целый рассказ. И в каждом предложении было «не» с глаголом...
Я любила этого мальчишку. Все в нем было распахнуто, открыто настежь. Подкупала его независимость, его бесшабашная храбрость, его постоянная готовность помочь.
И вот однажды, провожая меня после школы домой, он на прощание сунул мне сложенный пакетиком листок бумаги. Я развернула пакетик и прочла слова, написанные крупным, размашистым Колиным почерком: «Пожалуйста, отсадите меня от Вальки. Не говорите ей ничего, только меня отсадите».
Вот и все, что было написано на тетрадном листке в клеточку. И хотя это было много лет назад, я помню и этот смятый листок, и каждую букву этой размашистой строчки.
Валя была тихая светловолосая девочка. Милое личико, большие синие глаза. Валя с Колей сидели на одной парте с начала года, и я любила на них поглядывать. В Вале было много тишины и покоя. Она и думала тихо, медленно. И у доски, бывало, прежде чем ответить, помолчит. А потом поднимет на тебя свои синие глазищи, вздохнет и неторопливо скажет:
— Приставки из, воз, низ, раз, без, чрез, через перед глухими согласными меняют «з» на «с». Беспризорник, но безбрежный...
Они с Колей дружили. Часто вместе делали уроки — Коля приходил к Вале. Валина семья жила в просторной, светлой комнате, а Ветлугины ютились в землянке — тогда Магнитогорск еще только строился и с жильем было трудно.
Если мы отправлялись на экскурсию, Коля и Валя шли в паре. Если играли в лапту или какую-нибудь другую игру, они были в одной партии. Когда мы после уроков оставались делать стенную газету (Валя очень хорошо переписывала заметки), Коля тоже оставался, хотя не умел ни рисовать, ни писать красиво. Одним словом, они дружили. Мы все привыкли видеть их вместе. И вдруг — «отсадите меня от Вальки»! Не такой человек был Коля, чтобы приставать к нему с вопросами. Но все-таки на следующий день я спросила:
— Вы с Валей поссорились?
— Нет, — ответил он, глядя в сторону.
— Ты на нее обиделся?
— Нет.
— Может быть, она на тебя обиделась?
— Нет.
— Тогда скажи ей сам, что не хочешь с ней сидеть.
Он посмотрел на меня. Никогда я не видела его лицо таким. Страх — вот чувство, которого он, казалось, попросту не знал. А теперь на меня глядели глаза, полные отчаянного страха. Я ни о чем больше не стала его спрашивать и через несколько дней пересадила Валю на первую парту. Ей очень не хотелось покидать свое место. Она с надеждой посмотрела на Колю: может, он вступится? Но он молчал, подперев щеки ладонями и пристально глядя в учебник.
Вскоре после этого, выйдя из школы, я увидела Валю. Она поджидала меня: молча взяла у меня из рук сверток с тетрадями и пошла рядом. Так обычно делали ребята, если им надо было поговорить со мной с глазу на глаз.
— Это Коля хотел, чтоб нас рассадили? — спросила Валя через несколько шагов.
Что мне было ответить? Я поняла, что ответить правду не могу, и сказала малодушно:
— Почему ты так думаешь?
— Нас ребята дразнили. Ну, там «жених и невеста»... Я говорю: «Приходи ко мне на рожденье». А он говорит: «Не приду». И не стал к нам ходить. И уроки больше вместе не делаем. А всё ребята! Дразнили больно. Он и забоялся.
— Ну что ты! Разве Коля кого-нибудь боится?
— А тут забоялся, — упрямо повторила Валя.
...Она была права. Давний этот случай потому оставил такой глубокий след в моей памяти, что я впервые тогда задумалась о многих важных вещах.
Что такое храбрость? Что такое мужество? Душевная независимость? Прямота? Почему все эти вопросы возникли у меня тогда, по такому пустяковому поводу? Подумаешь, какая беда: одиннадцатилетний мальчишка стесняется сидеть с девочкой! Ребята пристают, дразнят — тут застесняешься!
Нет, повод не пустяковый. Коля, который действительно ничего не боялся — ни высоты, ни темноты, ни боли, ни отцовского ремня, — боялся ребят. Боялся не побоев, не боли — боялся слова. И еще он боялся Вали. Он не посмел ей признаться в своем страхе, он предпочел, чтобы ответственность за его отступничество взял на себя кто-то другой, скажем, учительница. Отступничество? Опять слово, которое не идет к делу. Какое же тут отступничество? Мальчику всего одиннадцать лет... Будь я тогда поумнее, знай я жизнь лучше, я сказала бы Коле примерно так:
«Ты отказываешься от дружбы с Валей? Чего же ты тогда стоишь? Ведь это трусость, предательство. Хороши мы будем, если станем бросать своих друзей, лишь бы нам жилось спокойнее! Нет, если ты сейчас, в школьные годы, не научишься дорожить дружбой, беречь ее и отстаивать, потом уж трудно будет стать верным, надежным товарищем».
А может быть, и не надо было произносить длинных речей. Может быть, как-то иначе следовало довести до сознания мальчика эту мысль. Но надо, непременно надо было, чтобы он понял: смелость не только в том, чтобы пройтись по карнизу третьего этажа. И даже не только в том, чтобы кинуться в метель на поиски ребенка...
Несколько лет спустя, когда я уже преподавала в старших классах, я была на комсомольском собрании, которое надолго мне запомнилось.
Принимали в комсомол одного юношу. Встала восьмиклассница Соня Рублева и сказала:
— Я против. Он бьет малышей, издевается над ними. Я много раз говорила ему, чтобы перестал, а он не слушается. Что же он за человек, если бьет беззащитных?
— А ты что за человек, если ябедничаешь? — крикнул кто-то.
Что тут началось! О юноше, подавшем заявление, попросту забыли. Пламя спора перекидывалось из угла в угол, оно бушевало, захватив весь класс. Кричали все, и я уже не пыталась восстановить порядок.
— Почему она ябеда? Почему, я тебя спрашиваю? Если бы она сказала не при всех, вот тогда она была бы ябеда!
— Если видишь подлость и молчишь — это трусость!
— Я хочу сказать... Вот, по-твоему, Соня ябеда. Ладно, давай вообразим такой случай. Ты ведь собираешься стать писателем, у тебя должно быть воображение. Вообрази: ты уже кончил литинститут и работаешь в какой-нибудь редакции. И вот там выдвигают на какой-нибудь высокий пост человека, о котором ты знаешь, что он карьерист, подхалим. Неужели ты будешь сидеть и молчать? Нет, ты ответь! А если ты смолчишь, ты будешь трус, так и знай! А Соня — смелый человек.
В классе раздался смех, и мальчик, защищавший Соню, видимо, тотчас понял, почему все смеются.
— Да, смелый человек, и неважно, что она мышей боится, и плевать я хотел, что она увидела мышь и вскочила на парту. Все равно она смелая! Вот мое слово, и ты меня не переубедишь!
Смелость... Мужество... Какие ясные, твердые, какие отличные слова! И неужто можно спорить о том, что они означают?
Видимо, можно.
Я знала человека, замечательную писательницу — ее звали Тамара Григорьевна Габбе. Она сказала мне однажды:
— В жизни много испытаний. Их не перечислишь. Но вот три, они встречаются часто. Первое — испытание нуждой. Второе — благополучием, славой. А третье испытание — страхом. И не только тем страхом, который узнает человек на войне, а страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни...
Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? Не выдумка ли он? Нет, не выдумка. Страх многолик, иногда он поражает бесстрашных.
«Удивительное дело, — писал поэт-декабрист Рылеев, — мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости».
С тех пор как написаны эти слова, прошло больше ста лет. Но есть живучие болезни души.
...Человек прошел войну как герой. Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шел ей навстречу. И вот война кончилась, человек вернулся домой. К своей семье, к своей мирной работе. Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все силы, не жалея здоровья. Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он был убежден, как в своей собственной, он не вступился. Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. Он не страшился смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости.
...Мальчишка разбил стекло.
— Кто это сделал? — спрашивает учитель.
Мальчишка молчит. Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок. Но он боится сказать: «Стекло разбил я».
Чего он боится? Ведь летя с горы, он может свернуть себе шею. Переплывая реку, может утонуть. Слова «это сделал я» не грозят ему смертью. Почему же он боится их произнести?
...Среди множества писем, приходящих ежедневно в редакцию газеты или журнала, опытный журналист тотчас приметит одно-два, чем-то не похожих на все остальные. Иногда такие письма написаны печатными буквами. Иногда — почерком, явно измененным: буквы идут вкривь и вкось, видно, что человек очень старался писать не так, как обычно. Эти письма — анонимные. Без подписи. Тот, кто их пишет, не хочет быть узнанным. Иногда это письма клеветнические, грязные, в них есть злоба, но нет правды. Но иногда анонимные письма, письма без подписи, взывают о помощи. Они написаны людьми, которые боятся. Эти люди хотят восстановить справедливость, защитить честного человека, наказать подлеца, но они боятся сделать это вслух, прямо, открыто. Они хотят остаться даже не в тени, а в безвестности.
«В нашем техникуме, — говорилось в одном письме, — нельзя произнести ни слова правды. Что бы директор ни заявил, мы должны покорно слушать и молчать. На днях Толя Клименко, наш однокурсник, сказал директору, что выпускной курс надо бы освободить от работы на подсобном хозяйстве, а директор за это лишил его стипендии. Толин отец погиб на фронте, мать умерла, ему никто не помогает, без стипендии ему не кончить техникума. Дорогая редакция, помоги нам».
Корреспондент так и не узнал, кто написал это письмо. Он разговаривал с тридцатью студентами — однокурсниками Клименко. Каждый из них горячо возмущался поступком директора, каждый из них мог быть автором этого письма. Но ни у одного из тридцати не хватило духу высказать свое мнение директору.
«А почему именно я?»
«А что мне, больше всех надо?» — так отвечали Колины однокурсники.
Никто не хотел ссориться с директором. Это хлопотно. Схватишь выговор, а то и сам лишишься стипендии.
— Одному как-то страшно, — сказал Сергей Н.
Но их было тридцать! И, судя по всему, письмо это они писали все вместе. И все, как один, были не согласны с директором. И все, как один, промолчали. Они честные ребята и хорошие товарищи, они искренне хотели восстановить справедливость. Но они хотели, чтобы за них это сделал кто-то другой.
А вот еще одно письмо.
«Дорогая редакция!
Безобразно прошли выборы комсомольского секретаря в Н-ском экономическом институте. Мы, комсомольцы, хотели оставить Наташу Филиппову, которая была нам всем по душе своей общительностью и чуткостью по отношению к студентам. Но ее невзлюбило начальство наше. В список членов бюро ее не включили. Мы дополнительно выдвинули ее кандидатуру и единогласно проголосовали за включение ее в список.
Все кандидатуры обсуждались спокойно. Когда дело дошло до Наташи, против нее стали выступать директор института и секретарь райкома комсомола.
Секретарь райкома сказал нам, что райком Наташу не утвердит, даже если мы ее и выберем. Почему? Неизвестно. Никаких фактов, порочащих Наташу, он не привел.
Директор пошел на шантаж и угрозу. Он заявил, что если мы за Наташу, значит, мы против партии. Комсомольцу Гусеву, который выступил в защиту Наташи, директор так и сказал: «Ответь одним словом: да или нет? Ты за решения партии или против?»
Обращаясь к собранию, директор сказал: «Я буду смотреть, кто голосует «за», и запомню».
После шантажа и угроз директора Наташа попросила самоотвод. Голосование проводилось так: «Кто за самоотвод?» Поднялось десятка два рук, а на собрании было несколько сот человек. «Кто против?» (Директор внимательно и грозно смотрит в зал.) Никто не поднял руку. «Кто воздержался?» Опять никого. Так самоотвод приняли «единогласно».
Мы считаем выборы недействительными и хотели бы провести новые. Помогите нам в этом.
Откровенно скажем, что назвать свои фамилии мы боимся. Если ничего не изменится и директор узнает, придется лететь из института, из общежития или со стипендии. А факты можете проверить. Группа студентов».
Письмо рисовало тяжелую картину. Налицо было нарушение всех принципов советской и комсомольской демократии. Корреспондент «Комсомольской правды» выехал в Н. Он пришел в экономический институт и попросил объявить о его приезде по институтскому радио. Корреспондент пришел еще и еще раз. Он ждал напрасно. Никто из написавших письмо не заговорил с ним.
Студенты этого института, как и студенты того техникума, где учился Толя Клименко, хотели, чтобы все было по правде, по справедливости. Но и они предпочли, чтобы справедливости добивался за них кто-то другой, ну, хотя бы корреспондент «Комсомольской правды».
Но как может корреспондент, даже самый горячий, умный и опытный, один сделать то, чего не смогла сделать целая комсомольская организация? Ведь это комсомольцы института, а не корреспондент, знали и любили Наташу. Ведь это комсомольцы института, а не корреспондент, видели ее в работе и знали, что она достойна быть секретарем комитета. Их убежденностью, их верой не мог обладать человек, который приехал из Москвы и впервые видел и Наташу, и директора...
Всякий понимает, что нельзя сказать другому: «Поешь за меня» или «Подыши за меня». Но многие с легкостью говорят: «Подумай за меня». А это так же невозможно, как дышать за другого. И если мы верим в свою правоту, мы должны добиваться правды, не перекладывая свою ношу на чужие плечи. Корреспондент «Комсомольской правды» или другой газеты может и должен помогать людям восстанавливать справедливость, но рука об руку с теми, кто дал сигнал бедствия.
Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды:
— Бывало страшно, очень страшно.
Он говорил правду: ему бывало страшно. Но он умел преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.
В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.
Я скажу правду, а меня за это исключат из школы... Скажу правду — снимут с работы... Уж лучше промолчу.
Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». Но хат, которые были бы с краю, нет.
Читали ли вы книгу Гейма «Крестоносцы»? Прочитайте — это хорошая книга. И среди других людей там идет речь об одном рабочем, по имени Тони. Он не принимал участия в забастовке, но, когда увидел, что полицейский замахнулся на женщину, он кинулся к ней на помощь, и его ранили. «Чего ради ты ввязался в драку?» — спросили его. И он ответил перед смертью: «Я думаю так: когда это случается где-нибудь, значит, случилось и со мной. И я не жалею о том, что сделал: когда ты видишь сорную траву, ты ее вырываешь с корнем. Иначе она заглушит все поле».
Ну, а «Мать» Горького вы все читали. Помните слова Андрея Находки? «Я не должен прощать ничего вредного, хотя бы мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколет она меня, — а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать».
Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. В ответе за все плохое и за все хорошее. И не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты — на войне, во время какой-нибудь катастрофы. Нет, не только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей испытывается человеческое мужество. Оно испытывается постоянно, в самых обычных житейских делах.
В комнате заводского общежития жили пять человек, все молодые рабочие. Жили душа в душу, хоть и знали друг друга не очень давно. Если кому приходила посылка, делили ее между всеми. Чемоданы никогда не запирались: все верили друг другу, и никому в голову не могло прийти хорониться от товарища. Комната называлась «голубятней», так как помещалась она на самом верхнем этаже, а один из ее жителей — Николай Лобанов — был страстным голубятником.
Однажды в «голубятню» пришел комендант с просьбой. Весь этаж ремонтируется. Так вот, не согласятся ли ребята приютить на время двух новичков — Валентина Безуглова и Сергея Коваленко?
— Потеснитесь, а?
Ребята согласились. Новые обитатели «голубятни» не нарушили заведенного порядка жизни. Но скоро стало ясно, что их связывают между собой совсем другие отношения, нежели те, к которым привыкли на «голубятне».
Разные есть на свете дружбы. Есть тихие дружбы, без ссор и обид, а есть друзья, которые постоянно ссорятся, но жить друг без друга не могут. У дружбы словно бы нет никаких законов. Но один закон у нее все-таки есть: дружба не знает начальников и подчиненных. А тут один говорил, а другой покорно слушал. Один властно приказывал, другой безропотно повиновался. Валентин был начальником, хозяином, Сергей — подчиненным. Валентин был сам по себе, а Сергей — только его тенью.
И вот однажды у одного из обитателей «голубятни», Вадима, пропала вся получка. Он положил ее, как всегда, к себе в тумбочку, а на другой день, вернувшись с работы, нашел ящик пустым.
— Конечно, вы подумаете на нас, мы здесь новички, — сказал Безуглов. — Но мы знаем вора. Это ваш Лобанов.
— Никогда не поверю, — сказал Вадим.
— Да вот Сергей сам видел, — спокойно возразил Безуглов. — Сережка, чего молчишь?
И Сергей подтвердил: да, он вошел в комнату, когда Николай Лобанов закрывал ящик тумбочки и рассовывал деньги по карманам.
Лобанов всегда нуждался в деньгах: половину своей получки он отсылал матери и сестрам в деревню. А на оставшиеся деньги питался, платил за общежитие и... покупал голубей. Голуби были его страстью. Они жили рядом, на чердаке, и Николай отдавал им все свободное время. Перед получкой он занимал то у одного, то у другого, потом раздавал долги и опять оставался ни с чем. Но поверить, что он украл, никто не мог.
— Я сам видел, — повторил Сергей, — своими глазами видел: стоит и деньги по карманам рассовывает. Еще пятерку уронил, я ему и поднял. Не понял, что к чему.
В эту минуту открылась дверь, и вошел Лобанов.
— Колька, — сказал Вадим, — нужны были тебе деньги, ну сказал бы. Разве тебе кто когда отказывал?
— Ты про что? — недоуменно спросил Лобанов.
— А про денежки, которые ты свистнул! — сказал Безуглов.
Лобанов кинулся к нему и сшиб с ног. Завязалась драка. Лобанова и Безуглова едва разняли. Через несколько дней, ни слова не сказав товарищам, Лобанов взял на заводе расчет и уехал. В тот же день с утра, еще до его отъезда, пропали деньги у Алексея, другого жителя «голубятни». Все было против Лобанова, все улики налицо: раз молча уехал, значит, виноват. Не был бы виноват — поговорил бы, объяснил, а тут исчез как вор. И опять прихватил с собой чужое.
— Нет, — сказал Вадим, — тут что-то не так. Не могу я найти покоя. Что-то мы сделали не по-людски.
И он написал в деревню, где жили Лобановы. Просил Николая вернуться: «Приезжай, поговорим. Ведь товарищи, сколько вместе жили. Не верю я, что ты взял. Приезжай».
Николай не вернулся. Вместо него приехала Тоня, его сестра. Она вошла в комнату под вечер, отворила дверь и с порога спросила:
— Где Коля?
Оказалось, Николай домой не приезжал.
Три дня обитатели «голубятни» метались в поисках Лобанова. Тоня все время твердила: «Он руки на себя наложил». И только Безуглов был спокоен и усмехался: «Да бросьте вы... Объявится».
И правда: на четвертый день парень, которому Николай перед отъездом подарил своих голубей, встретил Лобанова на другом заводе.
— Он там слесарем работает. Говорит, и там не останется, подастся на целину. А сюда не вернется ни за что. Говорит: раз они могли на меня такое подумать, они мне больше не товарищи.
— Скажите, какой лорд! — насмешливо произнес Безуглов. — Это каждый так может — сначала чужим поживиться, а потом разыгрывать честного. Вот ворюга!..
И тут Сергей Коваленко, сидевший до этого на койке, встал. Он был очень бледен, и руки у него дрожали. Он налил себе стакан воды, залпом выпил и сказал, обращаясь к Безуглову:
— Врешь! Это ты ворюга, а не Колька. Ребята, это Безуглов взял деньги у Вадима. И у Лешки. Я знаю. Но Валька сказал, что покажет на меня, если я проговорюсь. Сказал: всем докажу, что украл ты, и жизни тебе не будет ни на заводе, ни в городе. И научу кого надо, — темную тебе устроят. Ну, вот... Вот и все... Это уж не первый раз я показывал, как он велит... Но больше не стану.
Сергей Коваленко боялся Валентина Безуглова. Одолеть этот страх ему было очень трудно. Он не знал, поверят ли ему. Он не привык говорить правду. И все-таки он одолел свой страх и сказал то, что требовала его совесть. Как он пришел к этому? Встревожило его исчезновение Лобанова? Испугался он за жизнь человека? Смутили его Тонины слезы, Тонин страх за брата? Стала невмоготу унизительная зависимость от Безуглова? Кто знает! Но только такая минута пришла, и он сказал подлецу: «Ты подлец и клеветник!» И он сказал о невинном человеке: «Он не виновен!»
А это не всегда легко — говорить то, что велит твоя совесть.
Есть преступления, которые в уголовном кодексе не значатся. За равнодушие к чужой судьбе не судят. Если один человек отвернулся от другого в беде, за это тоже не судят. За то, что не сказал прямого слова, ответил криводушно, уклончиво, оберегая свою жизнь или свой покой. Да, за это не судят. Напротив, кара приходит иногда за прямое, правдивое слово. Но люди на это слово идут.
В фильме «Впереди — крутой поворот» рассказано: глубокой ночью машина сбила женщину. Это произошло в ноль часов семнадцать минут — так показывают остановившиеся часы на руке женщины. Шофер был очень усталый и не заметил, как это случилось.
Милиция ищет виноватого и не находит. Ничего не знающий о своей вине шофер Сергей собирается с женой и сыном в отпуск. И вдруг ему приходит в голову, что в тот день после двенадцати ночи только он один проезжал по шоссе. Именно в это время женщина вышла из-за крутого поворота, и, конечно, это он, он и никто другой, сбил ее. Сергею ничто не грозит: никто не знает о его вине. У него жена, маленький сын. Неужели пойти и признаться?
— Не пущу! — кричит жена. — Не пущу! Подумай о нас с Васей!
Но Сергей идет и признается. Ему грозит тюрьма, он знает это, боится этого — и все-таки идет. Почему? Потому, что в человеке есть нечто сильнее страха.
В жизни я встретилась с историей, которая почти во всем совпадала с этой. Только главным действующим лицом был не молодой, полный сил и здоровья человек. Льву Ивановичу Кореванову было пятьдесят лет, когда на глухой дороге под Свердловском его машина наехала на пьяного. Лил дождь, темень была непроглядная, а пьяный лежал на дороге, и заметить его было трудно. Когда Лев Иванович вылез из машины и подошел к пострадавшему, тот был уже мертв.
Никто не мог уличить Кореванова. Глухая дорога и темень — вот и все свидетели. Даже след шин тотчас смыло дождем. Но Кореванов не торговался со своей совестью, не играл с ней в прятки, не говорил себе: все равно ему ничем не поможешь, он сам виноват, от него пахнет вином. Нет, Лев Иванович положил погибшего в машину и прямиком поехал в милицию... У Кореванова было пятеро детей, и на ноги встал только старший, остальные еще учились в школе.
— Мне часто говорят, что поступил по-глупому, — сказал мне Кореванов, когда я встретилась с ним некоторое время спустя. — Не знаю. Знаю только, что с тем камнем на совести я жить бы не мог. Детей, конечно, жалко. Но они со мной были согласны. Нет, они меня не осудили; хоть им сейчас и не сладко приходится. Мне еще говорят: трудно, мол, с такой совестью. Конечно, трудно. Так я легкого и не жду.
Легкого не ждет... Такой человек не оставит друга в беде и не побоится сказать слово в пользу справедливости. У него есть совесть, а совесть — это компас, который показывает, как следует поступать на нелегких поворотах жизненной дороги. Легкой жизни у такого человека не будет... Что правда, то правда!..
У писателя Льва Кассиля есть книжка «Великое противостояние». Великое противостояние — это тот час, когда Марс и Земля стоят друг против друга. Час этот наступает раз в пятнадцать лет. И многим людям кажется, что когда-нибудь наступит и в их жизни такое великое противостояние. И тогда-то состоится проверка всех их душевных и физических сил. Между тем великие противостояния часто встречаются в человеческой жизни. Только мы не всегда умеем это понять, не всегда замечаем эту минуту, не узнаем ее в лицо…
Во второй класс одной из сельских школ Одесской области пришел мальчик Трофим. Восемь лет — всю свою жизнь — он кочевал с цыганским табором, а теперь, когда цыгане перешли на оседлую жизнь, Трофима отдали в школу. Никто не хотел сидеть за партой с незнакомым мальчишкой. Его дразнили, всем казалось смешным, что он плохо говорит по-русски. И тогда девочка Лариса сказала ему: «Садись со мной». Теперь стали дразнить Трофима и Ларису, как дразнили когда-то моих учеников Колю и Валю. Их дразнили, а Лариса и Трофим не обращали на это внимания. Трофим приходил к Ларисе, они вместе делали уроки, играли.
Было это испытанием? Было. Так почему же маленькая, на вид робкая девочка оказалась душевно сильнее, тверже, чем мой Коля Ветлугин, который ничего на свете не боялся?
Что же такое мужество? Может быть, прав тот, кто говорит, будто есть два мужества — боевое и гражданское? С этим вопросом обратилась как-то к своим ученикам ленинградская учительница Наталья Григорьевна Долинина. И услышала в ответ:
— Гражданское мужество это отсутствие расчетливости, — сказал один.
— Не согласен. Напротив, это высшая расчетливость. Легче жить с чистой совестью, — сказал другой.
— Гражданское мужество — это когда умеешь поставить интересы людей выше своих, преодолеть в себе страх во имя справедливости, — сказал третий.
— Почему мы говорим о гражданском мужестве? — раздался тут еще один голос. — Мужество бывает одно. Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе обезьяну всегда — в бою, на улице, на собрании. Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. Оно в любых условиях одно. Если кто храбр в минуту опасности на поле боя, но трусит в повседневной жизни, того я мужественным человеком не назову.
Да, это правда! Мужество неделимо. Иногда оно в том, чтобы защитить невинного человека. Иногда в том, чтобы разоблачить негодяя. Мужество и в безбоязненном прямом слове, в том, чтобы отстаивать правду. Мужество проявляется по-разному, но оно неделимо, разрубить его на части нельзя.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





