ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
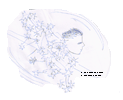


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Белякова Алла 1973
1
В марте что-то случилось с мужем Ксаны. Он только что вернулся из командировки в Бухару, и Ксана вдруг увидела, что муж словно помолодел — движения у него стали мягче, свободнее, с разгладившегося лица смотрели счастливые, виноватые глаза. Кожа его успела потемнеть на весеннем солнце, лишь спина и плечи оставались белыми, и лицо, загорелое и яркое, вдруг показалось Ксане чужим в мутном мартовском свете комнат. И голос у него был вызывающе громким, так некстати прозвучавшим в их притихшей квартире.
— Ну что ты? Как ты? — возбужденно расхаживая из комнаты в комнату, спрашивал он своим новым, счастливым голосом.
— Тише, мама только уснула. Она не спала всю ночь. Она так мучается, — с упреком сказала Ксана, но тут же коснулась руки мужа.
— Боже мой, прости, — испуганно сказал Марк и торопливо поцеловал у Ксаны руку. — Ей хуже?
— Да, — сказала Ксана, и горло ей сдавило рыдание.
— А меня не было здесь, — удрученно пробормотал Марк. — И ты измучилась, бедная моя...
— Да, я измучилась, — сказала Ксана. — Но ты приехал, и теперь мне будет легче. Если бы ты знал, что с ней стало за этот месяц...
Ксана устало вздохнула.
Потом она слушала плеск воды в ванной и жужжание электробритвы, видела разбросанные повсюду вещи мужа и чувствовала, что жизнь снова наполняет их квартиру.
Когда Марк вымылся и побрился с дороги, они сидели вдвоем в прокопченной кухне, и Марк варил себе кофе, а Ксана смотрела на него, болезненно кутаясь в платок. Она очень похудела и осунулась за последнее время. Ее белая кожа альбиноски стала совсем бледной и сливалась со светлым цветом волос, глаза были в темных кругах от недосыпания, узкие губы увяли и запеклись, как у больной, но она не обращала на свой вид внимания. Марк уже надел коричневую пижаму, чиненную и перечиненную Ксаной (они все никак не могли собраться купить новую), и разношенные домашние тапочки. Он всегда одевался так, приезжая из командировок, чтобы дать отдых после дороги своему располневшему телу. Лицо его, так любимое Ксаной, было в знакомых желтоватых подпалинах, глаза смотрели с привычным озабоченно-нежным, внимательным выражением, и все же Ксану снова больно поразила неуловимая перемена, произошедшая с мужем. Его переполняла непонятная радость бытия, не связанная с нею, но, главное, он пытался это скрыть от нее.
«Чему он радуется, когда мне так плохо? — думала Ксана, наблюдая за мужем. — Тем более что поездка его, кажется, не увенчалась успехом...»
Ксана знала, что муж ездил в Бухару от газеты по делу молодой учительницы, кем-то тяжело оскорбленной, опозоренной на весь город и едва не покончившей с собой из-за этого.
«Что это я? — подумала Ксана, упрекая себя. — Ну, отвлекся он, развеялся, увидел новых людей. Он ведь имеет на это право, он тоже устал, а здесь действительно тяжело...»
— Ну как ты? Что в Бухаре? — преодолевая себя и улыбнувшись мужу, спросила Ксана.
Глаза Марка засветились.
— Бухара — необыкновенный город, — сказал он. — Восьмое чудо света. Азия. Древний город с вековой пылью, узкие улочки, а над ними таблички: «Советская улица», «Улица Ленина», «Пушкинская улица». Мечети, торговые купола, башня смерти... И повсюду — гнезда аистов, даже на мечетях. Там совсем особая, другая жизнь... Ее трудно сразу понять.
Он говорил, и лицо его выражало непривычное возбуждение и радость.
— Здесь промозгло, сыро, а там я наглотался весны. Жара, цветет урюк, кричат аисты, а мимо мечетей и базара ходят замшевые ослики...
Все это — далекая азиатская Бухара, аисты, цветущий урюк и восхитившие его замшевые ослики — так не вязалось с теперешней жизнью Ксаны, что она снова почувствовала тревогу и боль.
— А как с делом этой учительницы? — спросила Ксана. — Увенчалось успехом?
Глаза Марка омрачились.
— К сожалению, пока нет, — сказал он. — Но я там встретился с замечательными людьми. Удивительное это дело, хороший человек, к которому не пристает никакая грязь. Я тебе расскажу подробно потом...
— Хорошо, Марк, ты мне расскажешь, — покорно согласилась Ксана.
Она привыкла, что, возвращаясь из поездок, Марк привозил с собой весь тот чужой, сложный мир, в котором ему предстояло разобраться, и часами мог говорить о встреченных им людях.
Но сегодня Ксана не могла слушать ни о чем. Ей хотелось, чтобы муж скорее вернулся к ней, к ее душевной боли и трудностям их жизни из-за болезни матери.
— А я вам подарки привез, — ласково сказал Марк и вышел из кухни. Он вернулся, держа в руках белую бухарскую шаль и расшитые золотыми нитками восточные домашние туфли.
— Шаль — это Марине Дмитриевне, я знаю, ей понравится, — сказал он. — А туфли — это тебе...
Ксана смотрела на струящуюся белым шелком в руках мужа ненужную уже шаль и вдруг заплакала.
— Не показывай маме, — сказала она. — Ей уже ничего больше не нужно...
2
Заболела Марина Дмитриевна полгода назад, осенью. С того теплого осеннего дня, когда она вернулась, слегка побледневшая, от врача, у которого была из-за болезни желудка, жизнь Ксаны сразу изменилась. Всю зиму Ксана почти не выходила из дома, и вся ее жизнь ограничивалась уколами (она сама научилась делать их матери), безнадежным запахом лекарств, замученными и кроткими глазами Марины Дмитриевны.
Она вызывала к матери врачей, варила особые бульоны (мясо должно было кипеть на плите шесть часов), терла редьку с медом, достала у знаменитого старика гомеопата, к которому невозможно было попасть, таинственный, пахнущий лесом коричневый настой, в силу которого она свято верила, и давала его пить матери. Но желудок Марины Дмитриевны уже не принимал ничего, отвергал пищу и питье.
Маленькое тело ее, перенесшее голод и «испанку» в восемнадцатом году, подсушенное новым голодом в эвакуации, получившее сокрушительный удар по нервной системе в сорок третьем, когда муж ее пропал без вести на фронте, давно уже истратило весь запас жизненных сил и не сопротивлялось болезни.
Врачи, выйдя из комнаты матери и разговаривая с Ксаной в пустой и холодной столовой, где столько раз до болезни сидела Марина Дмитриевна, веселая, с сияющими близорукими глазами, и разливала чай или читала газеты, и столовая тогда не казалась такой холодной и мрачной, наполненная ее оживленно-нервным присутствием, — эти врачи, на которых возлагалось столько надежд, лишь огорченно и сухо качали головами и, выписав очередное болеутоляющее, спешили уйти прочь от Ксаниных глаз, и она испытывала к ним несправедливое враждебное чувство.
Семья Ксаны жила в большой, давно не ремонтированной квартире у Сретенских ворот. Старинный дом, отделанный зеленым кафелем, смотрел темными итальянскими окнами в тихий переулок.
Здесь Ксана родилась и выросла, здесь еще до революции ее дед, известный московский профессор, принимал своих пациентов. Отсюда ее отец, тоже врач, ушел в сорок первом году на фронт, здесь была Ксанина студенческая свадьба, и теперь здесь жили Ксана с матерью и мужем.
Квартира была огромная, с высокими, темными от времени потолками и гигантскими непромытыми окнами. Здесь прошла жизнь трех поколений, и квартира была заставлена вещами, которые копились годами не из-за жадности к вещам, а потому, что семья Ксаны видела в них память об ушедших людях.
От деда и отца Ксаны остались книги. Они тесно стояли на полках, заполняли пыльные ящики, громоздящиеся вдоль длинного коридора, лежали на подоконниках вперемежку со старыми, пожелтевшими газетами и медицинскими журналами, которые Марина Дмитриевна не разрешала выбрасывать.
Книги были научные и художественные: рядом с полным собранием сочинений Толстого стояли тома медицинской энциклопедии в солидных зеленоватых переплетах; труды о резекции желудка и черепно-мозговых травмах и хирургические справочники соседствовали с Монтенем и Платоном, томики стихов Лермонтова и Блока перемежались прозой Чехова, Паустовского и Ильи Эренбурга.
От деда остались старинные дубовые часы-шкаф, стоящие в передней, с тускло блестевшим сквозь стекло неподвижным маятником. Часы эти остановились в тридцать шестом году, в день смерти деда, и неподвижно молчали все эти годы, словно хранили немую память о нем. Деду принадлежали кожаные кресла и докторская клеенчатая кушетка в столовой. Сколько москвичей-пациентов дожидались в этих креслах, пока дед — выхоленный и надменный, с беспощадными докторскими глазами — решал их судьбу, почти никогда не ошибаясь в диагнозах. Дедовскими были (потом он подарил их своей дочери Марине Дмитриевне) настольные золоченые часы в столовой, с фарфоровым циферблатом и пухлыми золотыми амурами, отбивающие время звенящими стеклянными молоточками. Сколько радости доставляли эти часы Ксане в детстве...
Марина Дмитриевна была учительницей французского языка в школе и после проверки домашних заданий заведовала в доме хозяйством и всей домашней утварью, находящейся в большой неуютной кухне, где зимою целыми днями горел газ и откуда часто раздавался звон разбиваемой посуды.
— Что мама разбила сегодня? — гадала Ксана.
— Ксаночка, — появлялась из кухни слегка смущенная Марина Дмитриевна, — я случайно разбила твою чашку. Ту синюю, с трещинкой, которую тебе подарил дед в тридцать пятом году, когда тебе было семь лет. Как она выскользнула у меня из рук, не понимаю. Ты не сердишься?
— Мама, ты у нас снайпер, — улыбалась Ксана. — Это восьмая в этом году...
— Не огорчайтесь, Марина Дмитриевна, — ласково говорил Марк. — И забудьте о ней. Чашку Ксане куплю я.
У Марины Дмитриевны было рано увядшее, оживленно-печальное лицо. Несмотря на печаль в глазах, она часто смеялась. Волосы она красила в красно-рыжий театральный цвет, на худых руках носила браслеты и была похожа не на учительницу, а на актрису.
Ни на минуту не оставалась она без дела, — все время двигалась по старой, захламленной квартире, неловкая и стремительная, до старости сохранившая легкие девические движения.
— Мама, куда ты спешишь? — спрашивала Ксана.
— Я спешу жить, — улыбалась Марина Дмитриевна.
По вечерам к ней приходили такие же одинокие, но не потерявшие вкуса к жизни подруги. Они раскладывали пасьянсы на старинном шатком столике, не переставая курили, пили чай с вареньем и тешили себя безобидными бытовыми радостями. «Представляешь, дорогая, в нарезанную капусту добавляются орехи и изюм. Дешево, насыщено витаминами, и получается удивительно вкусный салат. Не стыдно подать к любому столу». — «А торт я признаю только песочный, никакого крема, крем тяжел для желудка. Песочное тесто теперь есть в любой кулинарии, так что минимум возни». — «А ты, дорогая, читала последний роман Ремарка? «Тени в раю»? В журнале «Иностранная литература». В следующий раз я принесу...»
Потом они вспоминали. А вспоминать им было что. Две революции, три войны, голод, бомбежки, похоронные, болезни и смерти мужей...
— Мариша среди нас самая стойкая, самая мужественная, — с восхищением говорили они. — Ее не сломило.
Они были правы. Марине Дмитриевне жилось трудно, но знала об этом она одна. Похоронив перед войной отца, Ксаниного деда, и не дождавшись потом мужа с войны, она давно жила одиноко, и всю свою любовь и верность отдала дочери и зятю. Младший сын ее Лева (теперь Лев Львович) был известным ученым-биологом, женился на красивой женщине, которую не полюбили в семье, и считался «отрезанным ломтем». Он давно уже жил отдельно, в новой квартире, и в доме матери бывал редко.
Говорят, что когда муж и жена долго живут вместе, они становятся похожими друг на друга. Ксана и Марк прожили двадцать лет, и сейчас им было по сорок четыре года.
Они и правда были похожи — оба совестливые, нервные, впечатлительные, чуткие к своей и чужой душевной боли. У обоих легко портилось настроение из-за грубого слова, грубого чувства, обоих ранила несправедливость, ложь, и Ксане казалось иногда, что у них одна душа на двоих. Их дом был их крепостью. Но эта крепость щедро распахивалась для друзей. Здесь не теряли головы, если приходила беда, не ныли, если не хватало денег, с одинаковым удовольствием ели магазинные пельмени или сложнейшее блюдо из курицы, орехов и гранатового сока, которое готовила Марина Дмитриевна, с царской роскошью расходуя продукты. Но, главное, здесь все были добры и правдивы друг с другом.
«Человек может стать рабом обстоятельств, но никогда не должен становиться их лакеем», — часто цитировал Марк чью-то мысль, которая как бы определяла его жизненное кредо.
И все-таки центром их дома была Марина Дмитриевна.
— Если бы я знал только свою тещу, — говорил Марк друзьям, шутливо улыбаясь и ласково поднимая темные брови, — я бы, не глядя, тут же женился на Ксанке. Лучшей тещи не сыскать в мире...
Друзья весело соглашались с ним. А Марина Дмитриевна — маленькая, легкая, деликатная, всегда ровно-веселая, умеющая слушать и утешать, — благодарно улыбалась зятю, и карие близорукие глаза ее за стеклами очков сияли жаждой деятельности.
И вот теперь Марина Дмитриевна — неподвижная, странно подсохшая, с запавшими, уже далекими глазами — с каждым днем уходила от них все дальше и дальше, и этого никто не мог остановить.
3
Однажды ночью Марк звонил в Бухару. Он нетерпеливо ждал заказанного разговора, меряя квартиру нервными шагами.
Прошла уже неделя, как он вернулся, а он был весь еще там, в той прожитой вдали от Ксаны жизни, в тех событиях и разговорах, в чужих человеческих судьбах.
Ксана привыкла к этому. Марк обычно накрепко сходился с людьми, и после его возвращения из командировок к ним домой еще долго приходили благодарные письма, а на редакцию газеты обрушивались гнев и жалобы виноватых, недовольных его резкими статьями.
В полночь его соединили с Бухарой.
— Елена Андреевна, держитесь! Не смейте падать духом! — кричал он в трубку, и далекий голос что-то отвечал ему из-за тысячи километров. — Не смейте впадать в панику! Все будет хорошо! И не надейтесь, что я ваше дело брошу. Здесь дело не в вас. Не только в вас... И не мне спасибо, а вам, за то, что вы такая... Передайте привет Екатерине Андреевне и скажите, что я восхищен ею, ее преданностью вам, она молодец...
Он положил трубку и, словно не видя Ксану, мрачными глазами смотрел сквозь нее.
— Очень сложное дело, — объяснил он Ксане возбужденно и угрюмо. — Там две сестры, одна из них учительница. Директор школы, подлец и склочник, затравил молодую женщину. Он сам приставал к ней, домогался ее любви, а потом обвинил ее во всех смертных грехах и опозорил на весь город. Она абсолютно одинока. Ее травят, выгнали из школы, отняли у нее комнату. Теперь она живет у сестры Кати... Екатерины Андреевны, а у той муж — местный крупный работник, по замашкам абсолютный бай. Он грозится выгнать учительницу из дома, потому что она «позорит» его дом. Но Екатерина Андреевна заявила, что уйдет вместе с сестрой... В тех условиях на это нужна большая смелость. И теперь две женщины — против целого города. А как они держатся...
Ксана слушала Марка, сочувствуя незнакомым женщинам, но ее мучила усталость. Конечно, Марк обязан помочь им, он всегда волнуется за своих «подопечных».
Вчера Ксана опять не спала всю ночь. Она уже давно переселилась в комнату матери и ложилась спать рядом на клеенчатую докторскую кушетку. Всю ночь она держала мать за руку, просыпаясь от каждого движения больной, чтобы хоть через тепло утешающей руки передать матери дочернюю нежность. И, просыпаясь по утрам, мать благодарила ее слабой улыбкой.
Зная о безнадежности болезни матери, Ксана не отдала ее в больницу, и Марк согласился с нею.
— Тебе будет трудно, — сказал он Ксане.
— Я знаю, но все равно не могу, — ответила Ксана, и губы ее жалко дрогнули. — Пусть она... умрет дома. Рядом с нами.
— Я тебя понимаю, — ласково сказал Марк.
Он пытался помогать Ксане и ни в чем не отказывал ей. В любое время ездил в аптеку за лекарствами, ходил в гастроном за продуктами, сам жарил себе по утрам яичницу, сам стирал под краном нейлоновые рубашки, и Ксана была благодарна ему за это.
По приезде из Бухары он был так же внимателен к Ксане. Но у него шла своя привычная жизнь: он работал, встречался с друзьями, его беспокоила судьба двух далеких учительниц, судьба его статей, его радовали и печалили служебные удачи и неудачи.
И это против ее воли огорчало и обижало Ксану.
«Что ж, это ведь не его мать», — с горечью думала она. Но она знала, что не права. Его родители давно умерли, он нежно любил Марину Дмитриевну и относился к ней как к родной матери.
— Где Марк? — слабым голосом спрашивала Марина Дмитриевна, когда он задерживался в редакции. — Ему нельзя так много работать. Ты должна следить за его здоровьем. Передай ему, что я беспокоюсь...
— Хорошо, мамочка, — покорно соглашалась Ксана.
После работы Марк заходил в комнату Марины Дмитриевны, садился около ее постели, брал ее худую руку и с отчаянием смотрел в истончившееся лицо. И Ксана видела в его глазах слезы, которых он не умел скрыть. А Марина Дмитриевна слабо и утешающе гладила зятя по крепкой, желтоватой руке и устало отворачивалась. Он же, посидев около нее, неловко и виновато вставал, выходил из комнаты и возвращался к своему письменному столу. И через некоторое время Ксана видела его черно-курчавую голову, склоненную над очередной статьей.
Ксана чувствовала, что ликующая, непонятная ей радость, которую он привез из Бухары, покинула его. И все же он не стал прежним. Ксана замечала, что он часто напряженно задумывается, не отвечает на вопросы, думает о чем-то своем, словно что-то разделяет его с нею. Но они привыкли быть деликатными друг с другом, и Ксана ни о чем не спрашивала его.
«Наверное, не выходит у него из головы это дело с сестрами-учительницами, а он пообещал им помочь и мучается, — думала Ксана. — А мне ничего не говорит, потому что жалеет меня...»
Однако раньше свое плохое настроение Марк делил с нею, а теперь у него было другое плохое настроение, отдельное от Ксаны, которое он почему-то старался от нее скрыть.
4
Однажды Ксане позвонила ее подруга Тамара. Друзья часто звонили им, старались не оставлять их одних.
В трубке были слышны музыка и смех — чужая, забытая, недоступная для Ксаны жизнь.
— Ксана, это я, — виновато сказала Тамара. — Сегодня у Нельки день рождения, и мы празднуем. Здесь все наши. Нельке шестнадцать лет...
— Поздравь ее от меня, — печально сказала Ксана.
— Конечно, — сказала Тамара, — поздравлю. Представляешь, Ксанка, нашим детям уже по шестнадцать лет. А нам? Смекаешь? Ну что там у вас? Как мама?
— Как всегда, — устало вздохнула Ксана.
— Ксанка, знай, мы всегда с тобой, помни это, — бодро сказала Тамара.
Ксана представила себе лицо Тамары, оливково-смуглое, немного мужское (и профессия у нее мужская, она работает в институте электроники), и на минуту у Ксаны стало легче на душе.
Их Тамарка — бодрячка, Тамарка — умница, Тамарка — защитившая сложнейшую диссертацию, и среди всех своих трудных научных и житейских дел неунывающе воспитывающая дочку, — как хорошо, что такой друг есть у Ксаны...
— Если только что-нибудь нужно, скажи, я сейчас все брошу и прилечу к тебе. Обойдутся здесь без меня! — своей энергичной скороговоркой выпалила Тамара. — Скажи, что надо: купить лекарства, приехать, ну? Может быть, Мише приехать?
Михаил Комов, муж Тамары, был еще фронтовым, самым близким другом Марка.
— Сегодня ничего не нужно, Томочка, — угнетенно ответила Ксана. — Спасибо тебе.
— А что у Марка?
— У Марка все в порядке. То есть... не знаю, как тебе сказать... с ним что-то происходит. Он очень изменился... — Ксана в замешательстве замолчала.
— Происходит? — возмутилась Тамара. — Я бы на его месте давно загнулась. Я же знаю, как он относится к Марине Дмитриевне. А он ведь должен работать в таких условиях!..
— Да-да, ты права, — торопливо сказала Ксана и повесила трубку.
В том-то и было дело, что она даже близкой подруге ничего не могла объяснить.
Вечером Марк пришел домой позже обычного. Ксана сразу заметила, что от него пахнет вином и лицо у него чужое и угрюмое. Это был редчайший случай в их жизни — Марк совсем не пил. Он долго стоял в передней, отяжелевший, с пустым и мутным взглядом, и медленно распутывал кашне, глядя прямо перед собой.
— Да, выпил! — сказал он с ожесточенным вызовом, хотя Ксана ни о чем не спрашивала его.
— Тебе не надо оправдываться, Марк, — тихо произнесла Ксана. — Ты можешь делать все, что тебе хочется...
— Я не оправдываюсь, а объясняю, — сухо сказал Марк. — Мне сейчас тоже трудно, поверь...
— Наверное, мне труднее, — сказала Ксана звенящим голосом.
— Не будем считаться, — голос его звучал отчужденно. — Я все понимаю. Но сегодня я узнал, что история в Бухаре продолжается. И я пока не в силах помочь двум беззащитным женщинам. Хотя очень хочу. Не могу же я вызвать их в Москву...
Марк и Ксана сидели в столовой, и Ксана видела, какие у него хмуро-озабоченные глаза и огорченные губы.
«Боже мой, — с отчаянием думала Ксана. — У меня умирает мать, а его волнует судьба каких-то едва знакомых учительниц. И сегодня он даже напился из-за этого и пришел домой поздно, хотя я ждала его».
Но вслух она не сказала ничего.
Он поднялся и пошел в свою комнату, и даже спина его показалась ей враждебной и чужой.
В дверях он не обернулся.
Ночью Ксана лежала без сна и думала об их жизни. Конечно, она сама во всем виновата. Она очень измучилась и стала несдержанной. Слезы по любому поводу наворачиваются ей на глаза, и она даже перестала понимать своего Марка, не знает, из-за чего ему так плохо... Почему он так тревожится и так близко к сердцу принимает судьбу этих учительниц?
«Может быть, он в кого-то влюбился и разлюбил меня?» — вдруг со страхом подумала Ксана. Но тут же отвергла эту мысль. Марк может любить только ее одну, он доказал это всей их жизнью. Разве может он встретить женщину, которая бы так знала и понимала его?
Марк выглядит лучше нее. С возрастом он располнел, но легко носит свое широкое, отяжелевшее тело. Он тоже старился вместе с нею, но лицо его не изнашивалось так быстро, хотя и оно потеряло былую четкость мышц, оплыло и потемнело. Господи, сколько она знает о нем! В его лице ее всегда поражало несоответствие светлых, словно раненных жизнью глаз и массивного, тяжелого подбородка. Глаза его слишком по-женски мягки и откровенны, шея кажется такой беззащитной с затылка, плечи усыпаны некрасивыми веснушками, а пальцы женственно-полны и с короткими ногтями. Разве это рука мужчины-победителя? И только линия рта у него упрямая и даже жестокая. Она только сейчас разглядела это...
Но разве когда-нибудь сможет Марк изменить их дому? Всем традициям дома, к которым он так привык? Их молодости, счастливым и трудным годам, прожитым вместе, общим воспоминаниям? А их друзья... Тамара и Миша Комовы и другие. С ними рядом прошла вся жизнь. С Михаилом Марк дружит еще с фронта...
Когда Марина Дмитриевна была здорова, в их доме часто собирались друзья, и под низко висящим шелковым зеленым абажуром (от света этого абажура лица казались зеленовато-бледными, но абажур не меняли) звенела гитара, и тощий, маленький, так и не выросший со студенческих лет Сенька Грандисон — ныне нейрохирург — пел:
Не верьте погоде.
Когда затяжные дожди она льет,
Не верьте пехо-о-те,
Когда она бравые песни поет,
Не верьте, не верьте,
Когда по весне запоют соловьи,
У жизни со сме-е-ртью
Еще не закончены счеты свои-и...
И они вспоминали далекое время, когда были молодыми и учились в ИФЛИ и других институтах, откуда ушли на фронт.
А потом до хрипоты спорили о политике и искусстве, цитировали Ленина, читали наизусть Блока, рассуждали о Платонове и Булгакове, восхищались Буниным или Хемингуэем, изрекали пророчества о международных катаклизмах. Все это было перемешано эпохой и временем в их судьбах.
Как Марк будет смотреть им в глаза, если у него что-то с нею разладится? Ведь они всегда считались самой лучшей, самой счастливой парой. Друзья даже понять не смогут, если у них что-нибудь случится...
И Марина Дмитриевна всегда была с ними рядом, никому не мешая своим деликатным, неслышным присутствием: маленькая, аккуратная, легкая, так много утратившая и такая стойкая, мужественная и мудрая.
Разве может Марк изменить этой их жизни, памяти ее матери? Просто Ксана сама виновата, сама отдалилась от него, измученная болезнью Марины Дмитриевны. Сейчас вся их жизнь нарушена, перевернута с ног на голову, и им трудно обоим. Они должны снова понять друг друга, стать терпеливее и мягче.
Ксана прислушалась к дыханию матери.
Комната пропахла лекарствами, высокие потолки утонули в ночной полумгле, еле различимые затаились во тьме знакомые предметы. Шелестящее дыхание матери слышалось в сонной глубине комнаты. Слава богу, дышит, значит, жива... А за стеной спит Марк, ее муж и друг, его можно позвать в любую минуту.
«Нет, он любит меня, — успокоенно подумала Ксана. — Он не может меня разлюбить».
За окном долгая ночь. Бессонно горят фонари, и в их свете медленно сеется чистый, может быть, последний мартовский снег. Там, наверное, сильным весенним запахом наливается воздух, с мягким шорохом опадают истыканные капелью сугробы, оживают промороженные ветки на бульварах.
«Глотнуть бы этого весеннего воздуха, — думает Ксана. — Забыть хоть на минуту обо всем тяжелом. Снег... Весна... Как все это далеко от меня! Только бы мама не мучилась и пожила бы подольше...»
Глаза Ксаны утомлены темнотой, но сон не приходит.
«Уснуть бы, — думает Ксана. — Завтра опять такой трудный день».
Наконец она засыпает.
Но и во сне что-то тревожит ее, что-то неумолимо надвигается на нее, о чем она не хочет знать.
5
Мартовский сырой день таял за окнами. Ксана стояла в комнате у Марины Дмитриевны у помутневшего за зиму окна, смотрела на неряшливый по-весеннему город и, стиснув руки, думала: «Вот и март кончается... Неужели мама никогда не увидит этого?»
Сегодня маленький толстый врач в очках сказал, что надежд никаких и все дело дней — сколько выдержит сердце — и Ксана должна быть готова ко всему. Но разве можно приготовиться к этому?
Марины Дмитриевны не будет, а все останется, как прежде. И этот знакомый переулок с темными от мартовской сырости домами, и скромный, невырубленный сквер, где столько раз гуляла Марина Дмитриевна с маленькой Ксаной, и старинная, вся из аккуратных круглых булыжников мостовая, еще не залитая асфальтом, и белая церковь семнадцатого века с наивным куполом-луковкой... И эти прохожие, спешащие неизвестно куда, поднявшие воротники, чтобы спастись от промозглой, всюду проникающей весенней сырости.
«Хоть бы поскорее пришел Марк», — с тоской думала Ксана.
Марина Дмитриевна, или, вернее, то, что осталось от нее, — маленькое страшное тело, серое, обтаявшее лицо с заострившимся носом и словно приклеенными к голове жалкими волосами, — лежала на кровати, отвернувшись к стене.
— Марк пришел? — прошелестело с кровати.
— Нет, мамочка, — не оборачиваясь, ответила Ксана.
— Какое сегодня число? — повернув к свету свое изменившееся до неузнаваемости лицо, спросила больная.
— Тридцатое марта, мамочка.
— Да, — сказала больная и замолчала.
«Почему она спросила про число?» — подумала Ксана.
— Почему ты спросила про число, мама? — наклонилась она над матерью.
— Скоро день рождения Марка, — строго сказала больная. — Из-за меня не откладывайте. Пусть будет праздник, как раньше. Слышишь?
«Господи, она бредит, — подумала Ксана. — Она все перепутала... Какой день рождения сейчас? Его день рождения летом».
В глазах Марины Дмитриевны в последнее время часто бывала дымка бессмыслия, но сейчас они глядели разумно.
— Да, конечно, — торопливо сказала Ксана. — Все будет так, как ты захочешь...
В передней раздался звонок.
— Это Марк, — сказала Ксана с облегчением. — Я открою ему, а ты постарайся заснуть.
Она вышла в переднюю, открыла дверь и увидела жену своего брата — Таню.
Таня была в пушистой шубке, с сумочкой в руках, и волосы ее и мех шубки блестели от мокрого снега.
— Здравствуй, — сказала она. — Ну и погодка! Можно?
Таня и раньше приезжала, чтобы помочь Ксане с Мариной Дмитриевной, но делала она все неловко, не могла скрыть брезгливости, часто терялась и раздражалась, и Ксана отказалась от ее помощи.
— Господи, Таня! — удивленно и печально сказала Ксана. — Проходи.
Таня разделась и прошла в столовую.
Ксана и Таня не дружили. Брат Ксаны давно женился и получил квартиру, и с его отъездом отношения его с Ксаной тоже как-то сами собой охладились.
В доме брата всем заправляла властная и педантичная старуха теща с холодными, словно замороженными глазами и седыми, по-королевски взбитыми волосами. Она не сидела, а восседала, не ходила, а шествовала и важно и надменно вещала лишь о далеких годах своей юности, когда она жила совсем другой жизнью, о богатстве ее семьи, отнятом революцией.
Обе они — мать и дочь — были красивые, чопорные и истеричные. По любому поводу в доме, словно пожары, разгорались неожиданные скандалы. Старуха могла разгневаться из-за разбитой чашки, пятна на скатерти или запачканного паркета, и глаза ее тогда горели королевским гневом.
Ксана не любила бывать у брата. Она не знала, о чем говорить со старухой и Таней, в их присутствии чувствовала себя скованной, и ей было неловко и скучно.
Таня окончила консерваторию и играла на скрипке в одном из симфонических оркестров. Она была красива, но и красота ее не нравилась Ксане.
У Тани было бледное, страстное лицо, и глаза ее загорались одинаковой страстью из-за купленной в комиссионном новой кофточки, сольного концерта или болезни единственного сына Сережи.
До женитьбы брат был совсем другим человеком. Сейчас у него даже выражение глаз было чужим Ксане, таким же, как у Тани, чопорно-осуждающим и неискренним.
— Не одалживай денег другу, — говорил брат. — Вместе с деньгами ты рискуешь потерять и дружбу.
Ксана удивлялась. Раньше брат никогда не говорил так.
В доме брата много рассуждали о еде.
— Когда берете домработницу, — веско объявляла старуха, — не считайте, сколько она съедает кусков сахара. Надо жить широко...
Но домработницы не задерживались в их доме, обычно они уходили в слезах.
— Дорогие гости, не выкидывайте косточки от компота, — шутя, жеманно улыбалась гостям Таня. — Мы из них сварим компот на завтра...
Это была шутка, все ненатурально смеялись, а Ксана краснела, и кусок не лез ей в горло.
Подшучивали здесь и над ее любовью к мужу.
— Где твой святой Марк? — спрашивал Ксану брат. — Опять в командировке? И ты думаешь, что он там хранит в гостиничном номере тебе верность?
— Разъясни ей, — советовал он в другой раз Марку, — в Европе уже давно установлено, что измена укрепляет брак. Витаминизирует его. В Дании разработана целая теория...
— У нас в России тоже, — смеялась Таня. — Левак укрепляет брак.
Ксана стыдилась подобных разговоров. Бледные щеки ее вспыхивали. Марк тоже не поддерживал этих шуток.
— Смеемся мы с вас, — иронически поднимал брови брат. — Оба вы какие-то ископаемые...
Таня внешне придерживалась этих легких взглядов на брак, но глаза ее неусыпно следили за мужем.
Брат Ксаны был известным молодым ученым-биологом, о его работах писали статьи, но Ксане он был гораздо ближе и понятнее мальчишкой, с золотушными, в красных обводах, глазами (в детстве он страдал конъюнктивитом), или неловким студентом с застенчивым лицом и влажными от волнения ладонями. Тогда они были дружны и хорошо понимали друг друга.
Теперь — надменный, тонкоплечий, узкогубый, всегда уверенный в себе, с душой, словно застегнутой на все пуговицы, — он был непонятен ей.
Таня была «человеком искусства», всегда говорила об искусстве, ходила на концерты, но Ксана часто думала, что хотя они и прожили бок о бок многие годы, а Таня так и не сумела передать ей своей любви к музыке. Когда, готовясь к концертам, она играла дома на скрипке, музыка, возникающая под движением ее сильных бледных пальцев, не увлекала Ксану. Ей казалось, что музыка эта такая же фальшивая и холодная, как сама Таня.
— Не понимаю, почему она получила в консерватории диплом с отличием? — удивлялся Марк. Они с Ксаной часто думали одинаково.
И вот теперь Таня, взволнованная, сидела в столовой, покусывала губы и нервно сжимала в руках лакированную сумочку. Лицо ее было еще более бледным и страстным, чем всегда.
— Ксана, — сказала она, — я считаю своим долгом... Ты знаешь, что было с Марком в командировке?
— Нет, — сказала Ксана удивленно.
— У него там был роман. Он связался с бабой, — сказала Таня грубо, и ноздри ее носа жестко вздрогнули. — К нам оттуда приехал Лёвин сотрудник, один биолог. Он узнал все случайно. Марк ездил по делу этой учительницы — говорят, ужасная женщина, — и там влюбился...
— В учительницу? — быстро спросила Ксана.
— Нет. В ее сестру. А та — жена крупного местного работника. Познакомилась с Марком и бегала к нему в номер. Наш биолог жил в той же гостинице. Об этом говорил весь город. Представляешь — ситуация: приехал наказывать порок, а сам влип в историю. Одну сестру защищает, а другая к нему бегает в гостиницу...
Таня приехала, чтобы сообщить Ксане эту трагическую новость, но одета она была словно на праздник. Красивые волосы ее были тщательно уложены, глаза, удлиненные тушью, вдохновенно сияли.
Ксана должна была не поверить Тане, но поверила сразу. Весь этот март вспомнился ей — и ночной звонок Марка в Бухару, и то странное отчуждение, которое пролегло между ними после его приезда, и тревожное возбуждение, охватывающее его при любом упоминании о Бухаре.
Ее Марк влюбился — это было непостижимо, и то, что это случилось с ним в то время, когда у Ксаны умирала мать, особенно болезненно поразило Ксану.
— Ксанка, ты дура, — сказала Таня. В глазах ее на мгновение мелькнула злорадная жалость. — Ты прости меня, я бы тебе не стала говорить... но твою семью нужно спасать. Сестра этой учительницы собирается уходить от мужа. Она всем так заявила. А если увлекся такой человек, как Марк, — это стихия, пожар, землетрясение.
Она сочувственно смотрела на Ксану.
— Я приехала тебе помочь, — сказала она. — Все мужики одинаковы. Я думала, что твой Марк не такой... Надо решать, что́ мы будем делать?
Она ближе подвинулась к Ксане.
— Делать? — пробормотала Ксана. Она не поднимала глаз.
Таня обняла ее.
— Мы с тобой часто ссорились, вернее, не ссорились, но ты не понимала меня. Я всегда это чувствовала, молчи, молчи... Но сейчас я не дам тебя в обиду.
— Господи! — сказала Ксана, стыдясь.
Глаза Тани выражали почти счастье. Ей было жаль Ксану, но одновременно она испытывала удовольствие от Ксаниного горя. На щеках ее горели два розовых пятна. Она смотрела на сокрушенную, поверженную в прах Ксану.
— Ксанка, ты дура, — сказала Таня. — Тебе муж изменяет, а ты деликатничаешь. Это глупо. И вообще ты совсем перестала следить за собой. Что у тебя за вид?
— У меня умирает мать, — тихо сказала Ксана.
Таня примолкла.
— Бедная тетя Марина, — сказала она. — Если бы она знала про своего любимого зятя...
У Тани снова заблестели глаза.
— Нам нужно выработать план, — сказала она. — Все средства хороши. Он тебя пожалел? Да? Давай напишем на работу. Сейчас не очень-то охотно идут на персональные дела, но ведь этой историей он компрометирует газету. Этого ему не простят и могут пригрозить, что выгонят. А ты ведь знаешь отношение Марка к работе. Он не выдержит такого позора и ее бросит. Понимаешь?
— Таня, — сказала Ксана, поднимая на нее глаза, — я тебя прошу... Я тебе запрещаю.
Теплота ушла из глаз Тани.
— Что ж, — сказала она своим трезвым голосом, — я хотела тебе помочь. Как хочешь... Мое дело было предупредить.
— Нет, нет, прости меня, — растерянно сказала Ксана. — Я тебе очень благодарна, но я сама...
Таня встала.
— Смотри, потом не жалуйся, — мстительно сказала она, уже стоя в дверях. — Теперь наплачешься. Ты не умеешь за себя бороться, а эти провинциалки не так щепетильны, как ты...
Она уехала, простившись с таким ледяным видом, что Ксана поняла — последняя связь между ними порвалась. Таня не простит, что Ксана не стала жить по ее, Таниным, законам.
...Ксана хорошо помнила историю, произошедшую в доме брата. Три года назад выяснилось, что у брата есть любовница. Брат однажды привел ее в свой дом, когда Таня с сынишкой и матерью жили на юге. И брат, и смешливая, кругленькая черноволосая девушка, его аспирантка Лия, нисколько не смущались и вели себя спокойно и буднично. И все вокруг (в доме было много гостей, друзей брата) сделали вид, что ничего не случилось, и были приветливы с девушкой. Все, кроме Марка.
«Мне это противно», — сказал он с привычной для него резкостью.
Но девушка, казалось, не очень смущалась. Надев Танин фартук, она деловито варила на кухне кофе, весело смеялась, курила, рассказывала анекдоты.
Была она вовсе не такая красивая, как Таня, почти дурнушка, но чем-то понравилась Ксане. Живая теплота была в ней, а когда Ксана заметила в ее черных, добрых, по-собачьему круглых глазах боль, — это совсем примирило Ксану с девушкой. Лия нежно и с почтением смотрела на брата, и было понятно, почему он ею увлекся. Девушка была естественной и искренней, и с нею было легко.
Брат в этот вечер был ласково-оживлен, ясен и добр. Он не разговаривал в своей ненатуральной, иронической, все высмеивающей манере, принятой в доме Тани, и был понятен и близок Ксане. Глядя на брата и девушку, Ксана вдруг поняла: Таня делала Леву хуже, чем он был, а девушка вызывала в нем все лучшее.
Когда все ушли, у Ксаны, впервые за последние несколько лет, возник с братом откровенный разговор.
— Я не понимаю, Лева, — сказала Ксана. — Вот ты — честный, порядочный человек... В своей работе ты принципиален, как фанатик, ни при каких условиях не отступишься от своих принципов и не скажешь ни слова лжи. А обманывать свою жену можешь. Почему?
— Потому, что человечество выдумало в любви огромное количество догм, — серьезно ответил брат. — Например, догму о половой верности. Кто сказал, что в отношениях именно она — единственная истина? В жизни все сложнее...
— Я тебя не понимаю, — сказала Ксана. — Ты говоришь высокие слова, чтобы прикрыть обыкновенную житейскую нечестность. Существуют любовь и преданность. Раз ты их нарушаешь, значит, ты никого не любишь. И мне жалко и Таню, и эту твою разнесчастную Лию…
— Я люблю свою жену и никогда не брошу ее, — сухо ответил брат. — Я нарушаю только фальшивую догму.
— А я не признаю такой любви, — строго сказала Ксана.
Она помнила, как рыдала потом Таня, узнав о связи мужа с молодой аспиранткой.
— Мерзавка! Стерва! — кричала она, и яростные слезы текли по ее бледному лицу. — Я им устрою!
Ксане страшно было на нее смотреть, такая она была непривычно растрепанная, с больным от страдания, некрасивым лицом. Она курила сигарету за сигаретой, и тонкое лицо ее светилось ненавистью.
Потом она звонила по телефону подругам и возбужденно обсуждала свое несчастье. А потом отправилась в институт, где работал брат, говорила с директором, и черненькой аспирантке действительно пришлось уйти из института, а брат уехал в командировку на полгода. Таня все это «устроила» и торжествовала победу. О черненькой девушке больше никогда не вспоминали.
— У нас учат жен удерживать мужей с помощью государства, — брезгливо сказал тогда Марк Ксане. — Татьяна и не помышляет о достоинстве. Ей бы любым способом ухватить свое...
Таня очень долго потом была с Ксаной холодна. Она не могла простить Ксане, что та видела ее в таком виде.
...Ксана стояла в столовой у окна. За окном таял день, похожий на сумерки. Падал сырой снег и под ногами прохожих сразу превращался в грязное месиво.
Быстро и скучно темнело. Золоченые часы с фарфоровым циферблатом тонко и нежно, как в детстве, отбили стеклянными молоточками шесть часов. Пыльные золотые амуры равнодушно натягивали на луки стрелы. От звона молоточков у Ксаны сжалось сердце.
Где сейчас Марк? Что он делает? Раньше ей казалось, что она все знает о нем.
За окном огромный город уже зажег тысячи своих окон, за которыми идет сложная и разная человеческая жизнь. По мокрым мартовским улицам спешат прохожие, и где-то среди них бродит Марк. И тоже мучается. Она знает это. А она стоит в неосвещенной и словно замершей столовой, где отбивают время часы ее детства. Здесь прошла вся ее жизнь, здесь столько раз садились они все вместе за круглый дубовый стол, освещенный лампой под зеленым абажуром. Марина Дмитриевна смеялась и разливала чай, а Марк смотрел на Ксану влюбленными, всегда восхищенными глазами. И ей завидовали подруги.
Что это за женщина? Ксана ничего не знает о ней. Ходила к Марку в гостиницу. Заявила, что уйдет от мужа, если муж обидит ее сестру. «Учительница теперь живет у сестры, — вспоминала она слова Марка. — А сестра ее — удивительный человек». Вот и все, что она знает о ней. Почему Марк полюбил ее?
Он рассказывал, что мать этих женщин была узбечкой, а отец русским профессором. Что быт в их доме был наполовину восточный. Отец читал лекции в Ташкентском университете, и обе сестры тоже кончили университет. А потом почему-то уехали в Бухару...
Ксана стояла у окна, неподвижно прижавшись лбом к холодному стеклу.
И вот сегодня она должна увидеть Марка, взглянуть в его никогда раньше ей не лгавшие глаза... Она будет наливать ему чай, а он станет расспрашивать о Марине Дмитриевне, о том, как прошел этот похожий на все другие, томительный день. И оба они будут тайно наблюдать друг за другом. Она — с сознанием непоправимой беды, обрушившейся на нее, он — с муками совести.
Весь этот месяц он был неизменно внимателен к ней, а у него шла своя мучительная внутренняя жизнь. Один только раз страдание грубо прорвалось в нем, когда он узнал, что ничем не может помочь учительницам. Но она тогда не поняла... Бедный Марк!
— Марк! Где ты? — жалобно позвала Ксана мартовскую темноту, сгущавшуюся за окном.
Но темнота не ответила ей.
Сердце Ксаны сжала тоска, словно кто-то сдавил его твердыми пальцами.
В глубине квартиры слабо звякнул колокольчик. Этим старинным колокольчиком, оставшимся от деда, мать призывала Ксану, если ей было что-нибудь нужно.
Ксана пошла к матери.
Марина Дмитриевна приподняла голову с подушки и смотрела на нее. Что-то тревожило ее, какая-то мысль застыла в ее глазах.
— Кто пришел? Это Марк?
— Нет, — сказала Ксана.
— Подойди сюда и сядь со мной, — попросила мать. — Я хочу сказать тебе... Я долго не проживу. Я знаю, что умираю. Я устала так жить.
Она задохнулась от слабости и помолчала немного.
— Но за тебя я спокойна. У тебя есть Марк. Он не оставит тебя. Берегите друг друга. Передай ему...
Она обессиленно замолчала и снова закрыла глаза.
— Спасибо вам за все, — прошептала она.
Ксана смотрела на мать, чувствуя, что новая боль все острее захватывает ее. Усилием воли она пыталась сдержать слезы, так что у нее заболело горло. Марина Дмитриевна лежала, закрыв темные веки, дыхание с хрипотцой приподнимало ее грудь.
— Да, да, — сказала Ксана матери, — я ему передам. За меня будь спокойна...
Она чувствовала, как слезы, прорвавшись, словно холодный дождь, текут по ее лицу. Но мать не видела их.
6
Умерла Марина Дмитриевна на другое утро — в последний день марта. Двери в квартиру в день похорон были раскрыты, и квартира была полна чужими и близкими людьми. Тамара все время ходила за Ксаной с пузырьком валерьяновых капель в руках. «Ксанка, держись», — шептала она.
Приехали брат и Таня. У брата нос покраснел и распух от слез, как в детстве. Они молча постояли с Ксаной у гроба Марины Дмитриевны, глядя в ее мертвое лицо и чувствуя одно и то же. Они вспомнили себя детьми и вдруг ощутили свое сиротство и кровную близость.
Брат постарел, глаза у него были несчастные, редкие волосы начесаны на уже начинавшую сквозить лысину.
Таня смотрела на них, стоя в стороне. Лицо у нее было испуганное. Она боялась смерти.
Марк не отходил от гроба Марины Дмитриевны и, не стесняясь, плакал. На лице его было отчаяние. Но Ксане казалось, что измена ей была изменой и памяти матери. И ей были неприятны и тяжелы его слезы.
На похороны съехались и родственники. Приехала из Астрахани старшая сестра матери, толстая пожилая женщина, которую Ксана видела всего два раза в жизни, — Анна Дмитриевна.
— Я потеряла Мару, я потеряла все, — сказала женщина и тяжело, некрасиво зарыдала.
Ксана обняла ее. Она знала, что девочками мать и сестра очень любили друг друга, но потом жизнь развела их, и они поддерживали дружбу только письмами.
— Вот как довелось встретиться с тобою, Марочка, — сказала сестра, взглянув на незнакомое, мертвое лицо Марины Дмитриевны, желтевшее среди цветов.
Она громко, горестно всхлипнула. Глаза у нее слезились, блеклые, старые волосы растрепались.
— Ксенюшка, — сказала она Ксане, — я привезла ее детские карточки, может, тебе будут нужны... И Левочке покажешь.
На детских карточках Марина Дмитриевна была снята девочкой в матроске, с круглыми, удивленными глазами. Она стояла, неловко и грациозно держась за руль велосипеда, или, сидя в лодке, гребла, и в ее детских, распущенных по плечам волосах сиял венок из лилий. И на всех фотографиях глаза ее были полны ожиданием счастья. Девочка эта никакого отношения не имела к измученной умершей женщине, лежащей среди цветов на столе.
Приехал откуда-то неизвестный дальний родственник. Родственник этот с утра уже где-то приложился к рюмке и, жалко и расслабленно шмыгая покрасневшим носиком, с умилением и восхищением смотрел на Ксану и Марка.
— О, молодежь! Живите! — говорил он им. — А Марина вот... померла. Уж такое дело. Судьба.
Ксана, очень бледная, стояла у гроба и хотела, чтобы скорее все кончилось и чтобы муж не подходил к ней, не утешал ее. Марк чувствовал это и думал, что Ксана потому хочет быть одна, чтобы не думать ни о ком, кроме умершей.
Небритый, похудевший, с запавшими от горя глазами, стоял он в дверях и смотрел на Ксану. Она вдруг увидела его измученное, виноватое лицо, и впервые ей в этот день на мгновение стало жалко его.
Пришли и сослуживцы Марины Дмитриевны по школе, и ее ученики. Все те, у кого не хватало времени навещать ее во время болезни, теперь искренне оплакивали ее.
Особенно плакала одна — высокая, смуглолицая девушка с пышно взбитыми, черными волосами и густыми бровями, в белой пушистой шапочке с помпоном. Около нее стоял парень со смущенными глазами и, очевидно, стесняясь ее бурных рыданий, стыдливо утешал ее.
Ксана подошла к ним.
— Я знаю, вы ее дочь, — сказала девушка, поднимая на Ксану залитые слезами, сияющие жизнью глаза. Мягкие бледные губы ее болезненно кривились. — Мы все так любили ее... весь класс. Девочки в нашем классе рассказывали ей про себя. А мальчишки ее уважали. Она была такая оригинальная, совсем не похожая на учительницу. Читала нам по-французски с таким выражением... как актриса. И всех нас понимала. Меня она больше всех любила. Моя фамилия Окаемова. Она бывала у нас дома...
Девушка улыбнулась сквозь слезы сияющей улыбкой.
— Они все с ума сходили по этой учительнице, — смущенно сказал парень.
— Мы так переживали, когда она заболела, — девушка снова заплакала.
— Спасибо вам, — сказала Ксана и нежно погладила девушку по плечу.
Дверь все время раскрывалась и закрывалась, приходили все новые люди. Приехал Михаил Комов. Он прилетел из командировки. Ксана увидела в передней его крепкое, гладко выбритое, приветливое лицо. Он надежно обнял ее за плечи и так постоял с ней. Потом подошел к Марку, и они закурили вдвоем. Сенька Грандисон плакал, отвернувшись к стене, и тощие плечи его вздрагивали. Круглые Сенькины уши как-то безнадежно торчали, и Ксана вдруг заметила, что коротко стриженные волосы его начали седеть.
— Ужасная вещь — смерть, — сказал он Ксане. — Каждый раз не принимаю, хотя и врач...
Из Ксаниных друзей он был ближе всех к Марине Дмитриевне.
Скорбные и тихие, стояли старые подруги Марины Дмитриевны и прощались с нею взглядами. Но в лицах их читалось не прощание, а скорая встреча с собственной неумолимой судьбой.
За окнами ярко синело промытое мартовское небо. Снег уже почти весь стаял, тротуары подсохли. Последний день Марины Дмитриевны на земле был холодный и ветреный, но уже совсем весенний.
Ксана подошла к гробу. На стене над гробом, среди других фотографий, висела большая фотография Ксаниного отца.
Отец — доктор с русой бородкой и усами, с интеллигентным, узким лицом — смотрел с фотографии равнодушными, улыбающимися молодыми глазами мимо гроба, мимо Ксаны, в одному ему известную, нигде не кончающуюся и ни с кем не соединяющуюся даль.
«Вот и все», — вдруг вздрогнув, подумала Ксана, ощутив в его улыбающихся глазах гибель матери.
«Мамочка, родная», — подумала она и, впервые за последние дни вдруг окончательно осознав свою потерю, не сдерживаясь зарыдала, припав к твердым, неживым ногам матери.
7
Душный май стоял в городе.
Уже неделя, как Марк уехал в командировку на Тянь-Шань. Статья его о бухарской учительнице так и не появилась в газете, ее делом занялись местные власти, учительницу восстановили на работе. Но Ксана и Марк больше не говорили об этом, и в Бухару он больше не звонил.
После похорон Марины Дмитриевны жизнь их шла тихо и внешне по-прежнему. Ксана была молчалива, и Марк приписывал ее молчание тоске по матери. О Марине Дмитриевне они старались не говорить.
Не говорили они и о своих отношениях.
«Что я могу сказать ему? — думала Ксана. — Я не в силах увидеть его униженным, не в силах взглянуть в его глаза. Мне одинаково страшно увидеть в них и правду и ложь...»
Дни и ночи она упорно думала об их жизни, перебирала в воспоминаниях годы, связывающие их, и не находила ничего, что могло бы привести к тому, что случилось.
В последний вечер перед его отъездом они вдвоем сидели в столовой. Марк был в черном свитере, седые виски его слегка лоснились, губы были крепко сжаты. Лицо его казалось Ксане чужим и суровым. Как всегда, от света зеленого шелкового абажура в комнате стоял зеленоватый полумрак.
Ксана смотрела на мужа и с болью думала: «Как мы теперь будем жить? Сможет ли он сам сказать мне?»
Марк с привычным озабоченным вниманием посмотрел на нее.
— Ты знаешь, я сегодня вдруг заметил, — мягко сказал он, — наша квартира за это время словно постарела...
— Так же, как и я, — грустно сказала Ксана.
— Ну, ты у меня еще молодцом, — ободряюще взглянул он на нее.
«Теперь я никогда не буду знать, говорит он искренне или просто жалеет меня», — с горечью подумала Ксана.
Перед его приходом она долго рассматривала в зеркале свое лицо и находила в нем приметы старости. Может быть, он разлюбил ее за то, что видит темное пятно на ее виске, и седые нити в усталых волосах, и то, что в ее серо-желтых глазах застыло унылое выражение? Ксана так и не располнела с возрастом, в облике ее навсегда осталось что-то девическо-мальчишеское: прямые, худые плечи, плоские бедра, коротко стриженные, светлые волосы. И лишь утомленное лицо с бледной кожей говорило о том, что ей уже немало лет.
— Раньше ты всегда говорил мне правду, — тихо сказала Ксана.
Брови Марка сдвинулись, в глазах промелькнула тревога. «За меня или за себя?» — подумала Ксана.
— Конечно, сейчас ты плохо выглядишь, — сказал он ласково. — Вот вернусь с Тянь-Шаня и увезу тебя куда-нибудь в лес, где сосны и земляника. Чтобы ты надышалась там...
Ксана молчала. На столе перед нею стоял чайник, накрытый шелковой чайной бабой, и старинные, серые с розовым, чашки, вылинявшие от времени. И чайник и чашки без Марины Дмитриевны имели сиротский, грустный вид.
«Все теперь без мамы другое, — думала Ксана. — И никогда не будет прежним. И мы — тоже».
— Прости меня, — вдруг сказал Марк.
Ксана испуганно взглянула на него.
— За что простить?
— Просто так, прости. — В глазах его было страдание. — Я знаю, как тебе сейчас. Но и мне трудно, поверь...
Он мягко и сильно взял ее за руку. Его крепкая, в желтоватых волосках, рука была виноватой. И, прижавшись к этой родной, виноватой руке, Ксана вдруг тяжело зарыдала.
— Марк, помоги мне! — сказала она. — Я не знаю, как мне жить дальше.
— Все будет так, как ты захочешь, — не глядя на нее, глухо сказал он.
Больше они ни о чем не говорили. Понимал ли Марк Ксану? Она этого не знала, но видела, что ему тяжело.
После его отъезда к ней всю неделю приходили подруги. Сидели в огромной столовой, пили чай, вспоминали Марину Дмитриевну. Подруги не боялись говорить с Ксаной об умершей матери. Марина Дмитриевна всем им была близка, она знала их сердечные радости и жизненные неурядицы, не раз помогала деликатным, неназойливым советом, и все они чувствовали пустоту и горечь после ее смерти.
— Душой она была моложе нас, — задумчиво говорила Тамара. — Она была удивительным человеком. Мы по сравнению с нею нытики...
Подруги уговаривали Ксану взять себя в руки и немного последить за собой.
— Жизнь есть жизнь, — говорила Тамара. — Ксанка, возьми себя в руки. Посмотри, на кого ты стала похожа? Тощая, не причесываешься... Тебя Марк разлюбит. Человек должен есть, получать калории. Вари себе по утрам манную кашу. Слышишь?
Ксана молчала в ответ. Она всегда была слабого здоровья, а сейчас еще больше похудела и ходила по квартире вялая, безразличная. Светлые волосы ее висели небрежными прядями.
— Вам бы, Ксения Львовна, поехать куда-нибудь полечиться, — советовали ей сослуживцы. — Возьмите путевку на юг. Местком поможет. Человек вы в го́ре...
Но Ксана ехать никуда не хотела.
Брат звал ее провести отпуск у него на даче.
— Возьми отпуск и приезжай, Ксаненок, а? Что ты будешь делать одна в городе? Без Марка?
Но Ксана никого не хотела видеть.
— Нет, нет, — отвечала она, и в голосе ее против воли слышались слезы.
— В пинг-понг будем играть, я стол поставил, — уговаривал брат. — На реку будем ходить. Отвлечешься немного. Развеешься. Надо жить. А ты совсем расклеилась. Брось, Ксанка, а? И Таня просила тебя приехать...
— Нет, Лева, я не приеду, — твердо сказала Ксана. — И неправда, что Таня просила меня приехать.
— Ну вот, — искренне огорчился брат, — опять с бабьем моим не поладила. Плюнь ты на них, а? Приезжай.
Но Ксана не поехала.
8
В душное воскресенье Ксана одна осталась в городе. За окном, пропыленная и знойная, шумела Москва.
Где-то далеко от нее, в неизвестных ей Тяньшанских горах, бродил Марк. Несчастливый, с тяжестью на душе, родной и непонятный ей человек.
Сегодня утром она случайно обнаружила в столе Марка фотографию той женщины из Бухары.
Молодая, темноглазая, коренастая женщина с восточным лицом и Марк стояли рядом на фоне мечети. Они улыбались, и в том, как женщина свободно и интимно прижималась к плечу Марка, видна была нерастраченная близость. От фотографии веяло бесстыдным счастьем.
На обратной стороне было написано: «Я знаю, что жизнь моя теперь кончена... Да и твоя, наверное, тоже. Поступай, как найдешь нужным. Но справедливо ли, что мы должны быть несчастны все трое? Помни о нашем марте... Я знаю, ты не сможешь забыть».
С острой тоской всматривалась Ксана то в быстрые, косые строчки, то в улыбающееся, незнакомое, враждебное лицо женщины и в веселое, новое лицо Марка. И даже от ослепительно белой мечети Ксане было больно.
Какой была эта женщина, которая там, в далекой Бухаре, в один месяц разрушила двадцатилетнее Ксанино счастье? Как могло случиться, что Марк был счастлив с ней, когда Ксане было так плохо? Что привлекло его к ней? Какие воспоминания хранила эта фотография? Воспоминания, о которых они оба не смогут забыть...
Ксана пристально и с недоумением всматривалась в восточное и одновременно европейское лицо женщины. Женщина смотрела с фотографии на Ксану и словно чего-то ждала от нее. Марк же улыбался своему новому счастью и забыл про Ксану.
Стараясь не коснуться фотографии, Ксана убрала конверт обратно в ящик стола.
«Вот и конец», — подумала она и, поднявшись, бесцельно побрела по квартире. За окном, безразличная к ней, шумела майская Москва.
Ксана бродила из комнаты в комнату и изредка дотрагивалась до вещей рукой. Здесь, в этой квартире, прошла вся ее жизнь. Здесь отшумела ее студенческая свадьба с Марком. Здесь принимал пациентов ее дед, знаменитый московский врач. Отсюда они проводили на фронт отца, узкоплечего, со слабым сердцем, с пристальными глазами мыслителя и капризным, женским ртом. Интеллигента, не умевшего отказывать себе в комфорте, но сумевшего отказать в жизни. Отсюда уходил на фронт Марк... Здесь умерла ее мать.
Ксана много раз видела окружающие ее вещи, касалась их рукой, привыкла к их надежному уюту.
Но сегодня они не успокаивали ее, не помогали ей. Впервые она чувствовала, что вещи не оживляют квартиру, словно и из них ушла жизнь.
Ксана погладила рукой книги (сколько раз дед, отец, а потом и Марк пользовались ими во время работы, касались их страниц). Но сегодня книги под ее рукой были немыми, враждебными и чужими. Часы с пыльными амурами не улыбнулись ей улыбкой детства. Хлопотливо отсчитывали они время, оставаясь равнодушными свидетелями того, что произошло с нею.
Вещи в коридоре тоже молчали. На вешалке тесно жались друг к другу затрепанные пальто и плащи. От них пахло пылью. Ксана коснулась рукой потертого желтоватого плаща Марка. Много лет весною и осенью Марк ходил в этом плаще. Но сегодня плащ не откликнулся ей. Вещи изменили ей так же, как изменил Марк.
Нет, дом не удержит Марка, раз она сама не смогла удержать его...
Лампочка в коридоре тускло освещала мутноватое зеркало в старинной металлической раме и громоздящиеся к потолку полки с книгами. На полу стояли круглые картонки из-под еще дореволюционных шляп. В этих шляпах, доставляемых домой в таких картонках, когда-то ходили бабушка и мать. У матери тогда было гладкое, девичье лицо и смеющиеся глаза, как на портрете в столовой. Сколько раз отражала мутноватая глубина зеркала лицо матери, лицо отца и лицо Марка.
Теперь оно отразило только бледное, безнадежное лицо Ксаны.
Дверь в комнату матери, обтянутая коричневой порвавшейся клеенкой, была страшно закрыта. Ксана боялась заглянуть в эту опустевшую, мертвую комнату.
— Мамочка! — сказала вдруг Ксана жалобно и, зарыдав, прижалась лбом к холодной, пыльной клеенке. — Мамочка, научи, помоги, как мне жить дальше?
Но Марина Дмитриевна, закопанная в землю, лежала далеко и не могла откликнуться на зов дочери.
«Что же мне делать?» — подумала Ксана, отрывая лоб от холодной, безучастной клеенки и упираясь взглядом в знакомый, пахучий, полутемный коридор.
Коридор молчал.
«Я должна отпустить его, — вдруг подумала она, словно очнувшись. Мысль эта показалась ей дикой и страшной. — Я должна отпустить его... если он любит другую. Расстаться с ним. Но я не могу, не могу... Что же мне делать?»
Вещи в квартире молчали. Грустно свешивались с потолка густые бархатные нити паутины.
Хранили молчание книги на полках. Молчали, тесно прижавшись друг к другу, старые пальто.
Никто не мог дать ей ответа.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





