ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

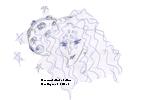
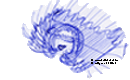
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Белякова Алла 1973
1
Ах какая тогда была зима! С утра из-за парка медленно поднималось величавое, неправдоподобно огромное солнце. По ночам густо падал снег, и утром все было новым, ослепительно белым и радостным, все было полно нежной морозной свежести.
Солнце холодно освещало вершины запорошенных снегом темных елей и старинный дом с желтыми колоннами, стоящий посередине седого от снега парка.
За парком в мерцающе-белых, девственных сугробах чернела на пригорке деревенька, а дальше лежали великолепные пустые поля, окаймленные таинственной кромкой хвойного леса.
Как было все неподвижно и пусто вокруг, как замерло все в ошеломляющем зимнем сне и как было полно неизъяснимой праздничной радости!
Весна была еще далеко, но уже начиналась весна света, и все вокруг блистало, слепило глаза желтым, розовым, голубым. Ослепительно сиял на солнце снег, сверкала кора замороженных стволов, тихие синие тени падали от сугробов.
Это было невероятно — стоял обжигающий холодом январь, но рождение весны уже было во всем. Весну света чувствовали зимовавшие в парке птицы, синицы-московки и красногрудые снегири. И целыми днями звенело между деревьями их прозрачное, наполненное ожиданием тонкое теньканье.
Птицы ждали весну, и вместе с ними ждала весну женщина. Она приехала в зимний дом отдыха, подолгу гуляла по парку, слушала птиц, видела светло-зеленое, словно молодое, небо и радужные снега, и глаза ее были глубокими от счастья.
«Как здесь все прекрасно! — думала она. — Какой неожиданный подарок судьбы — эта зима, лес, снег... Эти поющие птицы на снегу».
И она боялась, что зимняя сказка, которая творилась специально для нее, вдруг исчезнет из ее жизни. И не будет у нее ни этого черного, влажного парка, ни белой чаши пруда, куда она ходила гулять, ни одинокой, насыпанной снегом скамейки над прудом.
Задыхаясь и спеша, жадно глотала она морозную свежесть воздуха. Падал с косматых веток и серебряной пылью оседал на ее щеках снег, нежный зимний воздух жег горло, светилось ледяное небо. И словно для нее одной в сказочном живом безмолвии лежала перед ней земля.
2
Старинный дом с желтыми колоннами глядел в парк длинными, отражающими небо окнами. Цвет его желтых колонн был тоже торжественно-праздничным и резко выделялся среди белых снегов и черных елей.
В старинном особняке этом размещался небольшой дом отдыха, но сейчас — в зимний сезон — он был почти пуст. Вся жизнь его сосредоточилась в просторной, тепло натопленной столовой с деревянным высоким потолком. Сюда в часы завтраков, обедов и ужинов собирались отдыхающие. Всего их было одиннадцать человек: несколько стариков и старух, два летчика, шахтер, молодой инженер, рыжий мальчик и женщина.
С утра высокие, забросанные морозными листьями окна столовой янтарно светились на солнце, на столиках белели накрахмаленные, шуршащие скатерти, в двух больших вазах, стоящих у входа на полу, зеленели ветви елок. И пахло в столовой ванилью, домашними пирогами и хвоей.
Девушки-подавальщицы в мягких стоптанных тапочках и белых передничках бесшумно двигались между столиками, разнося еду. По ковровым дорожкам разгуливали разноцветные кошки, которых почему-то было очень много в доме отдыха. Они терлись о ножки столиков пушистыми, гибкими спинами, поднимая на людей солнечно-желтые немигающие глаза.
Старики обычно негромко беседовали между собою или ели, ни на кого не глядя, низко уткнувшись в тарелки; старые женщины разговаривали о вязании. Все они привезли клубки шерсти и вязали, сидя в холле. Стояли морозы, и они редко выходили на прогулки. Летчики, загорелые даже зимой, сделав зарядку и обтершись снегом, шумно входили в столовую, бесцеремонно и громко приветствуя всех. Инженер, у которого болела печень, с желтым, страдальческим лицом придирчиво рассматривал скучную диетическую пищу, лежащую у него на тарелке, и глаза его были безрадостными. Шахтер, пожилой широколицый плотный человек, шелестел за столом газетными листами, жадно выискивая новости о спорте. Позже всех в столовой появлялся рыжий мальчик и застенчиво усаживался на свое место. И, наконец, приходила женщина. Она приходила уже с прогулки, возбужденная лесом, снегом, поющими в ледяном воздухе птицами, и у нее нежно розовело от мороза лицо. У женщины были нервные, тонкие брови, длинный грустный рот и темные глаза. Иногда страдальческая складка портила ее белый лоб.
Летчики дружно вставали при ее появлении, больной инженер на минуту забывал о своей болезни, а шахтер — о спорте, старики радушно улыбались ей, старухи благосклонно кивали головами.
Летчики наперебой предлагали ей свои услуги — приносили на тарелочках душистые мандарины, угощали сигаретами «Новость» и традиционным в этом доме отдыха коричневым настоем шиповника.
— Как вам спалось сегодня, милочка? — обычно ласково обращалась к ней одна из старух.
— Отлично! — радостно отвечала женщина, которой здесь, в уютной комнате с окном, выходящим в парк, действительно спалось хорошо, впервые за многие месяцы.
В раздевалке летчики наперебой кидались подавать ей пальто, а потом сопровождали ее в долгих прогулках по аллеям парка. Женщина дурачилась и заставляла летчиков играть с нею в снежки и казалась очень молодой.
Рыжий мальчик никогда не участвовал в этих прогулках. По ночам по-прежнему часто шел снег, в парке увеличились снежные завалы, и рыжий мальчик каждое утро прокладывал к лесу новую лыжню. Отдыхающие звали его за это «снегопроходцем».
Иногда на веселых лицах летчиков вдруг появлялось хитрое, возбужденное выражение, и они начинали о чем-то шептаться друг с другом.
— Засосем по стаканчику? — обычно предлагал один летчик, с багровым, шишковатым лицом и крестьянским светлым ежиком волос, другому, по-цыгански смуглому и тонкому.
— Засосем, — радостно отвечал другой, и они четким военным шагом отправлялись в деревню, в сельпо, за водкой.
Женщина тогда гуляла в одиночестве. Ее пленяла особая тайна негородской зимы, одинокого парка, мерно шумящих под снежным ветром деревьев — все то, знакомое и милое, что связано у нас с зимой с детства, когда ребенок особенно близок с природой и ничто не стои́т между ним и ею.
Она приходила к скамейке над прудом и долго сидела там, у этого засыпанного снегом пруда, и глядела на торчащие сквозь снег камышинки, сиротливо шевелящиеся под ветром. И ей вспоминалось ее детство, которое она провела в деревне у деда: такой же, в глубоких сугробах, пруд за деревней, санки, на которых она съезжала с горки, веселье, охватывающее каждую клеточку ее детского тела, так что блаженно захватывало дух...
«Как давно мне не было так хорошо», — думала женщина.
Но короткий, холодный день отгорал, и над парком спускались красные сумерки. В небе разливался закат, ходили холодные переливы красок, в высокой темнеющей синеве загоралась первая отчетливая звезда.
И звезда эта тоже говорила о счастье.
Женщина возвращалась в дом.
Стоя на втором этаже в холле, она видела в окно, как каждая веточка выделялась на красном зимнем небе. И красота этих веток вдруг ударяла ей в сердце... Она ощущала свое одиночество, свое прошлое и настоящее, но ей вдруг начинало казаться, что в этом году жизнь ее обязательно изменится и, главное, чудесные перемены произойдут в ней самой...
— Идемте к нам! — звали ее летчики играть в преферанс. Она неохотно отрывалась от красного, пламенеющего окна и шла к ним.
Иногда по вечерам летчики включали приемник, установленный в холле, и ловили еле слышные, доносящиеся с чужих континентов звуки джазов. Они приглашали женщину, и она танцевала с ними в полуосвещенном зале с натертым пахучим паркетом.
Женщина была одинаково ровна и приветлива со всеми. Смуглый летчик в танце дышал ей в лицо водкой и чесноком; краснолицый больно стискивал спину крепкой и грубой рукой, и лицо у него было возбужденным и хитрым, как в тот момент, когда он предлагал «засосать по стаканчику». С инженером было скучно, ей сразу становилось тоскливо от его больных, с желтыми белками глаз. Но ей не хотелось никого обижать, и она, не отказываясь, танцевала со всеми по очереди.
«Славные люди, — думала женщина. — Но как же они не понимают, что мне никто не нужен?..»
Старики и старухи сидели в потертых креслах, расставленных вдоль стен, и следили, как она скользит по паркету. Она была тонколицая, похожая на девушку, и никто не верил, что она защитила сложную диссертацию, читает лекции студентам и у нее десятилетняя дочь.
«Мне здесь не скучно, — думала она. — Люди как люди. А завтра — снова солнце, снег, лес...»
И сердце ее блаженно замирало.
Приходил в холл и рыжий мальчик, садился один в темный угол и смотрел оттуда на женщину напряженным, тоскующим взглядом. Но женщина никогда не замечала его взгляда.
3
Прошло уже много времени, когда в дом отдыха приехал еще один гость.
Однажды утром она впервые увидела его. Он прошел по столовой в старом лыжном костюме, тяжелых альпинистских ботинках, небритый, в грубом мохнатом свитере и, ни на кого не глядя, сел за свой столик у самого дальнего окна. Был он плотный и кряжистый, с каменно-неподвижным, грубо выточенным лицом, с жесткими глазами в желтых ресницах, с крепкой, кирпично-красной шеей.
Женщине он не понравился, но по необъяснимой причине ее чем-то привлекло его некрасивое, по-мужицки сильное лицо.
Днем они случайно встретились в вестибюле, и он скользнул по ее лицу и фигуре мужским, оценивающим и вместе с тем равнодушным взглядом. Это рассердило ее, и она тоже равнодушно и надменно прошла мимо.
На другой день ей сказали, что это писатель, живет он в Ленинграде и приехал в дом отдыха не отдыхать, а писать новую книгу.
Она издали, снова с томящим любопытством, посмотрела на него, и ее поразило, насколько он не похож на писателя в ее воображении.
Вечером она взяла в библиотеке его книгу и тайком унесла в свою комнату. Она жадно читала всю ночь, с болезненным и непонятным ей самой интересом вчитываясь в каждую фразу, в каждое слово.
Утром ей захотелось поговорить с ним о книге, но он ни разу не взглянул в ее сторону, а подойти сама она не решалась.
Она носила с собой его книги повсюду, читала и перечитывала их на ходу в аллеях парка, смахивая варежкой со страниц сеющийся в воздухе снег. И с каждым часом этот неизвестный человек становился ей понятнее и ближе, словно она давно знала его.
Она думала, что если она расскажет ему о своей трудной, вдруг запутавшейся жизни, о которой никто не знал здесь, о своей тоске и желании счастья, то он, еще не старый, но сильный и уже мудрый, поймет ее, ободрит и научит, как жить дальше.
Писатель много писал о войне, но последние книги его были о современной жизни. И ей казалось, что, раз писатель пишет такие умные книги, в которых так много жалости к людям, а особенно к женщинам, и такое тонкое понимание человеческой души, он должен будет понять ее. И с каждым часом это чувство росло и превращалось в уверенность.
Она старалась ненароком встретиться с ним, но, увидев его, застенчиво проходила. И у нее гулко стучало сердце и, выдавая ее, вспыхивали щеки.
Но он по-прежнему не замечал ее и не заговорил с ней ни разу.
Те, кто раньше видели ее оживленной, по-девичьи веселой, удивлялись произошедшей в ней перемене.
Так же янтарно светились на солнце окна столовой, такая же творилась в лесу зимняя сказка, причудливо каменели снежные клубы сугробов, жег щеки нежный воздух, такой же легкий свет стоял над полями, но она стала молчаливой, нервной и грустной. Она не хотела есть подаренные ей летчиками мандарины, отказывалась танцевать в холле, не слушала, что ей говорят, и обижала этим своих спутников. И страдальческая складка все чаще портила ее белый лоб.
— Душенька! — окликали ее старухи. — Что с вами?
Она смущенно бормотала в ответ, что к ней снова вернулась бессонница и она плохо спит по ночам.
Что она могла им объяснить?
Она сама не понимала, что с нею творится, но странная радость и грусть все сильнее охватывали ее. Ей хотелось быть одной, бродить по парку, о чем-то мечтать.
Скоро ее оставили в покое: инженер вернулся к своим шахматам и болезни, шахтер — к новостям о спорте, обиженные летчики чаще ходили в сельпо и, возвратившись оттуда с возбужденно-красными лицами, громко шутили с девушками-подавальщицами. Никто теперь не стремился первым подать ей пальто, никто не сопровождал ее в прогулках, никто не играл с ней в снежки. И она бродила по парку одна и мечтала о встрече с ним.
«Я сошла с ума, — думала она. — Влюбилась в неизвестного мне человека, с которым не сказала даже слова... Зачем? Разве я знаю его? И это в то время, когда я должна решать, как мне жить дальше...»
Но ей казалось, что она давно знает его. Когда она встречала его, у нее пламенело лицо, слабели колени, не было сил поднять глаза. Он спокойно здоровался с нею, а она, что-то смущенно пробормотав в ответ, спешила пройти. И ей было неловко, что она, взрослая женщина, имеющая десятилетнюю дочь, робеет перед ним, как девчонка. Однако к стыду ее примешивалось счастье.
Она удивлялась колдовству любви — тому, что чувство так быстро охватило ее.
Чего она ждет, на что надеется, к чему изумленно прислушивается в себе? Отчего так забыто и гулко бьется ее сердце? Отчего еще лучше, еще краше кажутся ей каждый новый солнечный день, и зимний пустой парк, и круглая чаша пруда, до краев заполненная пушистым снегом?
Снег, лес, птицы — все призывает ее к счастью. Отчего же томит ее странная боль?
И ни с кем не хочет она поделиться этой красотой. Только с ним.
По вечерам она с томиком стихов усаживалась где-нибудь в холле, подальше от людей, и с новым, мучительно-обнаженным чувством вчитывалась в строки:
Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня,
И голос женщины влюбленный,
И хруст песка, и храп коня.
Две тени, слитых в поцелуе...
И ей представлялся далекий, холодный Петербург, о котором писал Блок. И теперешний Ленинград, где жил писатель и где она была всего один раз несколько лет назад.
И ей казалось, что это она мчится куда-то в свежей зимней ночи и слышит свой влюбленный голос, и «хруст песка, и храп коня» и беспечно и безоглядно сливается с кем-то в последнем поцелуе...
Эти мысли удивляли ее, и она странно усмехалась и сжимала ладонями пламенеющие щеки.
4
В зимнем доме отдыха она должна была прожить месяц. Дни шли, и вот уже осталось четырнадцать дней, потом восемь, потом пять...
А писатель так и не подошел к ней ни разу.
В своих последних книгах он много писал о море и простых женщинах, работницах и рыбачках, и она решила, что ему должны нравиться такие женщины, с диковатыми глазами и отчаянными душами.
Ей хотелось быть похожей на них. Она достала из чемодана простую черную юбку и свитер, перестала красить ресницы и губы. Она не стала похожей на этих женщин, но лицо ее по-девичьи помолодело, а губы без помады оказались нежными и скромными. Но он так и не взглянул на нее ни разу.
И постепенно тоска и отчаяние все сильнее охватывали ее.
Она понимала, что ее тянет к писателю, потому что она несчастлива и ей хочется быть любимой умным и сильным человеком.
«Я разлюбила мужа, но люблю свою дочь, без которой не могу жить. Почему так случилось со мной? Как мне жить дальше?»
И ей казалось, что писатель мог посоветовать ей, мог объяснить ее жизнь. Она старалась не вспоминать о своих трудных отношениях в семье, о муже, который стал ей чужим и страдает, об унылой душевной сумятице, в которой она жила последний год и от которой, как ей казалось, освободилась здесь.
«Как быстро кончилась моя зимняя сказка, — думала она. — Эта короткая передышка. И снова тревога, печаль, боль...»
Стоя по вечерам в холле у пламенеющего закатом окна, она смотрела на снежные нагие поля, и ее волновал странный свет звезд и налитая белым светом луна, но она уже не верила в чудесные перемены, которые должны были произойти с ней.
«Верно, не бывать мне счастливой», — думала она.
Теперь она часто просыпалась по ночам и с волнением слушала, как спит старый дом. Таинственно потрескивали от мороза старые стены, словно дом кряхтел во сне; от снегов за окном струился бледный свет. В комнате слабо пахло валерьяновыми каплями (у женщины теперь часто болело сердце) и пересохшим старым деревом. В распахнутую форточку смотрела холодная, одинокая звезда, и звезда эта казалась женщине далекой и непостижимой, неизвестно для чего посылающей на землю свой дрожащий свет, такой же странный, как и ее внезапная и ненужная любовь.
Старина дома завораживала ее. Наверное, в этом доме с деревянными потолками, с высокими окнами и скрипучими лестницами — таком «бунинском», окруженным «бунинским» парком, — в пронзительной давней давности какие-то люди гибельно и грозно любили друг друга, и тень их несчастливой любви витает над нею. А иначе почему же она без памяти полюбила незнакомого ей человека и забыла мужа и дочь?
«Разве я хотела этого?» — думала она.
От батареи шло сухое тепло, старинный фаянсовый рукомойник изредка ронял звенящие капли, и звук их словно в чем-то укорял женщину.
Она думала о писателе. Последние дни она почти не встречала его. Его равнодушие к ней было видно во всем. Целыми днями он работал в своей комнате, выходя только к завтраку, обеду и ужину. Она не могла есть и плохо спала, а он, энергично работая челюстями, спокойно уничтожал все, что ставили перед ним на стол девушки-подавальщицы. На свою неторопливую прогулку он всегда выходил один и, о чем-то упорно думая, внимательно разглядывал каждую мелочь: упавшую с сосны оранжевую шишку, торчащий сквозь снег прошлогодний, пожухлый листик, украшенный снежной шапкой причудливой формы пень, и все интересовало его. Но ни разу он внимательно не взглянул в ее лицо. По вечерам он подолгу разговаривал с девушками-подавальщицами, и те застенчиво и почтительно хихикали ему в ответ.
«Изучает жизнь», — желчно сказал инженер, тоже обойденный вниманием писателя.
А она ревновала его к девушкам-подавальщицам, и к багроволицему шахтеру, с которым писатель играл в шахматы, и к летчикам, с которыми он однажды делал на снегу зарядку. Она тогда впервые увидела его тело, и оно было белым и беззащитным рядом с мускулистыми телами летчиков.
Девушки-подавальщицы после разговора с ним спокойно расходились по домам, шахтер, играя в шахматы, не выглядел осчастливленным, он просто играл, и всё, летчики продолжали жить своей жизнью, громко и некстати хохотали, четким маршем ходили в сельпо и не упрашивали писателя обтираться с ними по утрам снегом.
А она завидовала им. И испытывала нежность даже к огромному, старому, хриплому приемнику, стоящему в холле, у которого он с сосредоточенно-хмурым лицом слушал по вечерам последние известия.
Мир со всеми тревогами и противоречиями врывался в холл, и писатель, наморщив лоб, думал о событиях в мире и не думал и не вспоминал о ней.
5
Рыжий мальчик великолепно бегал на лыжах.
Каждое утро он, полный энергии, без шапки, выскакивал на мороз, чтобы первым проложить лыжню от дома отдыха к лесу. Веснушчатые щеки его горели на морозе, рыжие волосы торчали трогательным высоким чубчиком.
Мальчик мчался на лыжах мимо нагого, холодного леса, пролетал мимо промороженных стволов сосен, мимо причудливо засыпанных снегом кустов, — и все вокруг было звонким, безмолвно-белым и нетронуто-пушистым.
И от этого сердце его буйно билось, а в щуплом мальчишеском теле оживала ликующая радость.
Сегодня было особенно холодное, жесткое утро. За черным парком в розово-лиловом небе поднималось ледяное солнце, и вершины ближайших елей пламенели неправдоподобным цветом. В налитом холодом небе над крышей старого дома закручивался неподвижный столб сине-розового дыма. Этот старинный дом с высокой крышей и желтыми колоннами имел теперь для мальчика особый смысл. Там жила она.
Мальчик мчался вперед, а вслед за ним бежала ровная блестящая лыжня и тоже отсвечивала розовым. Вдруг мальчик с разбега остановился. Палки, резко чиркнув, разметали глубокий мягкий снег.
По аллее парка шла женщина.
Женщина эта была намного старше его, но выглядела очень молодой, и, когда мальчик понял, насколько сильно он ошибся, определяя ее возраст, было уже поздно, он любил.
Он понимал, что он подросток пятнадцати лет и любовь его безнадежна. Женщина улыбалась ему вежливой улыбкой и даже несколько раз погладила его своей теплой рукой по рыжей жесткой голове.
Но мальчик любил ее почти с той же силой, как любят взрослые, — с темным отчаянием, с припадками ревности, которые пугали его самого, с печалью, от которой он бледнел и казался сонным.
Он все знал о женщине.
В парке у пруда была скамейка, где она часто сидела, о чем-то думая. Ему нравилось ее тонкое лицо, ее манера, задумываясь, легко и нежно поднимать брови, ее острые скулы, ее красные варежки, которые она, сняв с рук, часто нервно теребила.
Скоро он почувствовал, что какая-то неуверенность была в ней, застенчивость и неловкость, но, кроме него, этого, кажется, не замечал никто.
Может быть, душа ее была уязвлена чем-то, потерпела какое-то поражение, испытала обиду... Мальчику хотелось покровительствовать женщине.
Потом он понял, что она влюблена в писателя. Это открытие болезненно задело его.
Он был единственным человеком в доме отдыха, который знал это. И он ненавидел писателя и придирчиво следил за ним. Ему были противны его властные короткопалые руки, поросшие бесцветными волосами, его мужицкое сильное лицо и равнодушно-надменный вид уверенного в себе человека.
С тайной зоркостью, обостренной любовью, замечал он, что писатель самовлюблен и обидчив, в обычной жизни черств к людям, равнодушно-невежлив с персоналом дома отдыха. Писатель не любил слушать людей, говорил лишь о себе, о своих книгах. И, несмотря на то, что все, о чем он говорил, было зорко и добротно увидено, мальчику было странно, что именно этот писатель мог написать такие добрые книги.
Однажды он слышал, как писатель презрительно говорил о женщинах, и ему было обидно — до яростных мальчишеских слез, что именно этому человеку женщина отдала свое сердце.
Но женщина не обращала никакого внимания на мальчика, ни разу не взглянула она в его напряженное, самолюбивое лицо.
Он же, завороженный открывшейся ему женственностью, острее и тоньше других понимал женщину, был целиком поглощен своим чувством к ней.
Он вдруг забыл о простых радостях, которые так недавно занимали его. Например, совсем не скучал без фруктово-ягодного мороженого, ледяные мягкие шарики которого он так страстно любил смаковать. Он был сластена и бегал на лыжах за этим мороженым в буфет на станцию. Обходился он и без хоккейных матчей по телевизору — раньше он не пропускал ни одного.
Мальчик был щуплым, и хоккейные атлеты казались ему богами, были недостижимым идеалом. В сборной команде он знал каждого игрока, и, когда его любимые игроки мазали, глаза его зло и непрощающе блестели, и он самолюбиво шептал: «Мазила!» Но в доме отдыха он не подошел к телевизору ни разу.
Даже книги, над которыми он бледнел от увлечения раньше, сейчас не интересовали его и, брошенные, лежали на подоконнике.
Мальчик мучился надеждами и сомнениями, хотя надеяться было не на что, и не знал, как ему быть со своей вдруг переставшей ему повиноваться душой.
...Рыжий мальчик осторожно раздвинул снежные ветки и долго, тайно и жадно глядел на женщину. Теперь он уже знал, что у женщины усталое лицо, неотвратимо тронутое увяданием, что лицо это блекнет от грусти и дурнеет от разочарования. Но для него женщина вся словно светилась. Сегодня женщина была особенно печальной.
Печаль ее была так священна для мальчика, что он, не выдержав, целомудренно отвернулся.
Рывком отпустив ветку, он с силой вонзил палки в снег и снова помчался по пушистым полям в холодные сверкающие заросли леса и снега.
6
Женщина торопливо шла по аллее, не видя, куда идет, и не замечая розово-лилового утра. Машинально она касалась красной варежкой заснеженных кустов.
Сегодня ее обида и отчаяние достигли предела. Последняя надежда, едва возникнув, исчезла.
И загорелые шумные летчики, и утомленный болезнью инженер, когда они ухаживали за нею, тщательно брились, чистили свои костюмы, надевали свежие рубашки и выливали на себя флаконы одеколона. Писатель же все время ходил в одном и том же вылинявшем лыжном костюме, в разбитых тяжелых ботинках, заросший бесцветной щетиной.
Сегодня утром он пришел в столовую в отутюженном сером костюме, с побелевшим от пудры, свежевыбритым лицом. Она почти не узнала его. Ей вдруг показалось, что он наконец заметил ее — ведь других женщин здесь не было, и сердце ее забилось.
Но на столике писателя оказались бутылки с вином, — к нему приехали гости. Молодой развязный парень с бородкой, пожилой человек с утомленным стертым лицом и девушка.
Девушка была некрасивая, коренастая, маленькая, в очках и очень скромно одетая. На ней были узкие брючки и серый свитер. Но что-то очень живое и привлекательное было в ее облике, в скуластом, широком лице, какая-то молодая и ловкая в себе уверенность. Она курила сигареты и небрежно смотрела на писателя сквозь тонкие, в золоченой оправе, очки, и видно было, что ее нисколько не волнует, что она некрасива и одета в скромный свитер. Она о чем-то заспорила с писателем, он рассердился, покраснел, каменно-неподвижное лицо его стало багровым, а потом растерянно и умоляюще взглянул на девушку. Девушка же спокойно смотрела на него, безразлично покачивая ногой в туфельке, и улыбалась.
От растерянного и жалкого взгляда писателя на гостью у женщины защемило сердце. Ни разу ни на кого не смотрел он здесь так. Кем была ему эта маленькая девушка? Сестрой, дочерью, невестой?
Гости и писатель много выпили, и девушка пила с ними наравне. Они о чем-то шумно говорили и смеялись, молодой парень с бородкой развязно и насмешливо улыбался девушке, и видно было, что это не нравилось писателю. Потом девушка и писатель ушли.
И вот теперь она, с мучительно бьющимся сердцем, вспоминала, как встретила его в вестибюле. Он стоял, одетый для прогулки на лыжах, в финской шапочке с помпоном, так не идущей к его простому, мужицкому лицу, и, очевидно, ждал девушку.
И она, охваченная нервной тоской, чувствуя, что каждое уходящее мгновение лишает ее надежды, проходя мимо него, заглянула ему в глаза зовущим, умоляющим взглядом. Он, не понимая, с удивлением проводил ее своими цепкими и жесткими глазами и отвернулся.
По лестнице сбежала девушка в вязаном шарфике и берете, с лыжами в руках, весело окликнула его, и они, переговариваясь о чем-то и смеясь, ушли.
«Вот и все!» — подумала женщина.
...Она торопливо шла по тропинке к своей скамейке у пруда и думала с мукой и стыдом:
«Надо ему объяснить... рассказать. Пусть он узнает. Может, это что-нибудь изменит... Он поймет».
Но что она собиралась ему рассказать и что должно было от этого измениться, она не знала.
Она долго бессильно сидела на скамейке.
Сегодня пруд показался ей особенно одиноким. Жесткие камышинки сердито шуршали над снегом, и в воздухе уже не было предчувствия весны.
Женщине не хотелось возвращаться в дом.
Наступил вечер, холодный и прозрачный. На зимнем небе, словно на японской гравюре, пронзительно и четко вырисовывались ветви деревьев. Но сегодня они не обрадовали женщину. Сегодня они вызвали у нее лишь боль своей непричастностью к ее грусти.
Высоко в небе светлел молодой месяц, гасла короткая желтая заря. Продрогнув, женщина медленно пошла к ярко освещенному, теплому, но теперь враждебному ей дому.
После ужина гости писателя собрались уезжать. Писатель отправился провожать их. В последний раз мелькнуло перед женщиной скуластое, некрасивое лицо маленькой девушки, с покрасневшими от лыжной прогулки щеками, и девушка исчезла.
А женщина смотрела на опустевший стол в столовой, с которого подавальщицы уносили винные бутылки и грязные тарелки, и с мрачной решимостью твердила себе:
«Сегодня я должна сказать ему... Пусть он узнает. Пусть удивится, пусть оттолкнет меня... Я не могу больше мучиться. Все лучше, чем это унизительное ожидание. Пусть все будет ясно».
Она поднялась к себе в комнату и долго лихорадочно шагала, сжав руки, не в силах решиться.
«Что я собираюсь сделать? Я сошла с ума», — в который раз с отчаянием думала она. Но она уже чувствовала, что не в силах владеть своей душой.
Все казалось ей чужим в комнате — и ненужно белеющая одинокая кровать, и равнодушные желтые шелковые шторы, и тускло горящая настольная лампа.
На тумбочке возле кровати стояла фотография ее дочери, которую она поставила в день приезда. Лобастая, серьезная девочка смотрела на нее с укором. Но ей не хотелось видеть фотографию дочери, и она резко отвернулась от нее.
«Прости меня, детка», — подумала она.
7
Лишь поздно ночью она наконец решилась. Она думала, что, если писатель узнает, что она полюбила его, он поймет и как-то утешит ее.
Она быстро провела пуховкой с пудрой по своему и так смутно-бледному лицу и вышла из комнаты в пустынный коридор.
Натертый паркет ярко блестел в свете луны из окон. Огромный старый дом спал. Облитые дымным лунным светом, простирались вокруг снежные поля. И вдруг все снова показалось ей неправдоподобным — и эта прекрасная ночь, словно предназначенная для счастья, и спящий чужой дом, и то, что она идет ночью к незнакомому человеку.
С бьющимся, готовым к тяжелому испытанию сердцем подошла она к двери в его комнату. Обычно писатель работал по ночам, она часто видела свет в его комнате. Но сейчас за дверью стояла неподвижная тишина. Она робко подняла руку, готовая постучать, но вдруг, охваченная испугом и стыдом, резко повернулась и, страшась своих громких шагов, пошла, почти побежала прочь, все скорее и скорее.
Потом она долго лежала в кровати, не в силах ни плакать, ни уснуть, с пылающими щеками, с ледяными руками и ногами.
«Господи, что же это?» — шептала она с ужасом.
Она вспоминала его равнодушное лицо и жесткие глаза в желтых ресницах и думала о том, как странно, что именно этот не заметивший и не полюбивший ее человек, некрасивый, о чем-то все время упорно думающий, но не сумевший ее понять, за какие-то две недели стал таким мучительно-необходимым ей.
Потом она вспомнила растерянный и жалкий взгляд писателя, который он бросил на некрасивую, скуластую девушку, и впервые пожалела его. Что она знала о нем? Вероятно, все не так просто и в его жизни.
Жизненный опыт подсказывал ей, что любовь, которая неожиданно свершилась в ней, таинственная, как рост травы весной, этой ночью должна умереть. В городе боль ее поблекнет и забудется. Но именно это почему-то казалось ей самым обидным.
«Да и что было бы, если бы он ответил мне? — с горечью думала она. — Только разруха, горе и боль. Ведь я не одна... У каждого из нас своя судьба».
Но тоска ее становилась все острей.
8
Утром она узнала, что писатель уехал. Узнала она, что маленькая девушка была его редактором и невестой.
А скоро пришло время уехать и ей.
Поезд мчался мимо белых лесов и, постукивая колесами, увозил ее все дальше и дальше — к городу, в котором она жила.
«Вот и кончилась моя зимняя сказка, — думала она. — Да и была ли она? Пели ли птицы на снегу?»
Она смотрела на проплывающие мимо, уже не принадлежащие ей снежные, солнечные поля и думала: «Прощайте... Больше я не увижу вас».
Все дальше и дальше, навсегда, уплывали от нее зимний парк в белоснежных сугробах, и скамейка над одиноким прудом, и красногрудые снегири, и старинный дом с праздничными, желтыми колоннами. Уже не слышно было в длинных аллеях, как пели птицы на снегу, не слышно было ее легких шагов...
И только рыжий мальчик по-прежнему носился на быстрых лыжах по снежным полям, нырял в опушенные инеем, седые лесные просеки, и рыжая голова его огненным пятном мелькала то тут, то там.
Он несся вперед, словно пытаясь умчаться от самого себя, от того непонятного, жестокого и сладостного, что все еще терзало его сердце и вместе с тем наполняло его тщедушное мальчишеское тело радостью.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





