ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

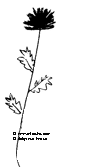

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Левидова Валентина 1984
В палате нас было четверо: студентка Наташа, инженер-экономист Полина Михайловна — женщина средних лет, очень старая на вид пенсионерка Иванова и я.
Самой последней пришла Иванова — ее перевели к нам из другого отделения.
Она сказала:
— Зовите меня Татьяна.
— А отчество? Я же не могу без отчества, — усмехнувшись, проговорила Наташа. — Вы мне в бабушки годитесь.
Мы с Полиной Михайловной неодобрительно переглянулись: «невоспитанная девчонка». Но Иванова, по-видимому нисколько не обидевшись, сказала вполне миролюбиво:
— А я и есть бабушка. Правда, внуки мои школьники. Но ты все равно зови меня просто Татьяна.
Она была молчалива и не склонна к общению. Ничего о себе не рассказывала и не расспрашивала других (как это обычно водится в больницах и поездах). Ничего не читала, не слушала радио, не ходила с нами смотреть телевизор, стоявший в столовой (его включали только по вечерам). Характер у нее был спокойный, покладистый. Она ни во что не вмешивалась, а только думала все время какую-то свою думу. Лицо ее в белом деревенском платочке было сосредоточенно и ясно.
Вторая моя соседка — Полина Михайловна, наоборот, была очень активна. Она сразу же подружилась с сестрой-хозяйкой, и на наших тумбочках теперь всегда были свежие салфетки, на столике — чистая скатерть (точнее сказать — простыня). Ее дружба с сестрой-хозяйкой зашла так далеко, что каждые три-четыре дня Полина Михайловна входила в палату торжествующая, сияющая, держа в руках четыре чистых полотенца и четыре чистые сорочки (почему-то всегда влажные, недосушенные). Пока мы с Наташей жили в палате одни, мы часто опаздывали в столовую. Одеяло на Наташиной постели нередко бывало скомканным. Встанет девчонка, кое-как уберет кровать, не очень-то стараясь, и уйдет к подругам в другую палату.
С появлением Полины Михайловны все стало иначе. Она поднималась по утрам раньше всех и будила нас. К этому времени она бывала уже умыта, причесана. Койка ее заправлена аккуратнейшим образом.
Волей-неволей всем приходилось следовать ее примеру, и она не без удовольствия отмечала это.
— Правда, наша палата теперь больше похожа не на больницу, а на комнату в доме отдыха? — спрашивала она.
Чтобы доставить ей удовольствие, мы соглашались.
Полина Михайловна была начальником планового отдела одного из крупных ленинградских предприятий. В ней хорошо уживалась домовитость с властностью человека, имеющего подчиненных. Подчиненные должны были любить и уважать ее. Она была из тех начальников, которые никогда не повысят голоса, помогут исправить ошибку, безо всяких формальностей отпустят домой работника, если дома у него что-то стряслось, разобьются в лепешку, чтобы достать ему нужное лекарство...
Она, мне кажется, упивалась этой своей ролью «благодетельницы», про которую подчиненные, наверно, говорят: «Ну просто мать родная».
Думаю, что особенно тепло под ее крылышком было женщинам-матерям: Уж чьи-чьи, а их-то дела и нужды она знала и понимала, как никто другой. На своей шкуре все перенесла: овдовела в войну, когда ей было двадцать три года. Осталась с грудным ребенком на руках. Замуж больше не вышла, сына воспитала одна, дала ему образование. Теперь он кандидат наук, живет в Москве. Женат, уже и малыша имеет. Судя по всему, все трудности, которые ей выпали в жизни, Полина Михайловна переносила стойко, не жаловалась, не хныкала. Безропотно и даже, я бы сказала, с каким-то непонятным удовольствием несла она крест добродетельной вдовы, бремя своего одиночества.
— Она состарилась раньше времени, — как-то сказала о ней Наташа. — А может, она и вовсе никогда не была молодой.
— Тебе легко говорить, — возразила я, но разговор оборвался, потому что в палату вошла Полина Михайловна.
В одном я была согласна с Наташей: Полина Михайловна жила настоящим и прошлым, воспоминаниями, не ожидая для себя никаких чудес в будущем, и, как видно, нисколько не страдая от этого. Зато старела она, если можно так сказать, мягко, плавно, без трагедий. Она вообще всем, решительно всем была довольна — работой, квартирой.
— Почему живу в коммунальной квартире? На заводе большое строительство. Но мне не нужно. У меня хорошие соседи.
— А может, это вы хорошая? — сказала я.
— Вполне возможно... Соседи не жалуются. Живем вместе сорок лет. Ни разу не то что не поссорились — одной семьей живем.
— Это редкость.
— Да, так бывает нечасто. Просто мне повезло в жизни.
— Невесткой своей вы тоже довольны? — спросила Наташа.
— Очень. У меня прекрасная невестка. Хорошая жена и хорошая мать, — ответила Полина Михайловна. — Ребенка воспитывает правильно. Можно сказать, прямо с пеленок старается из него человека сделать.
Наташа фыркнула.
— Ты не смейся. Это именно с пеленок и надо начинать, — наставительно проговорила Полина Михайловна. — Конечно, если б вместе жили, может, мне бы что-то и не понравилось, кто знает? А так — они в Москве, я в Ленинграде. Но, думаю, даже если б и вместе, все равно ужились бы.
Не без легкого хвастовства любила Полина Михайловна рассказывать, что могила ее мужа содержится в таком порядке, как ни у кого из знакомых.
Она была всегда одинаково ровна и приветлива, аккуратна, пунктуальна; всегда знала, как в каких случаях надо поступать. Колебания и сомнения, кажется, были ей незнакомы.
О лучшей соседке по палате нельзя было и мечтать.
Но главным ее достоинством было то, что она не боролась с нашествием молодежи в нашу палату. Ей как будто даже нравилось, что на Наташиной койке и возле нее целыми днями сидели девчонки и парни со всего отделения.
Парней наша длинноногая, златокудрая наяда использовала для всяких мелких услуг: они покорно (хотя и посмеиваясь над своим занятием) разматывали ей клубки шерсти (Наташа вязала себе свитер); чинили выключатели, табуретки, форточки; доставали и ввинчивали яркие лампочки в нашей палате взамен тусклых больничных; кололи орехи, которые Наташа очень любила и которые ей приносили в огромном количестве. Впрочем, ей самой доставалось совсем немного, потому что она всех ими угощала.
Девчонки приходили в нашу палату краситься и мазаться, потому что у Наташи была уйма всякой косметики. Когда она стала поправляться после операции, ей по ее просьбе принесли из дому баночки, флакончики, специальные карандаши, кисточки. В одних баночках была черная тушь для ресниц, в других — голубовато-серебристая — для подкрашивания век (веки такого цвета, наверно, бывают у русалок). В ящике тумбочки хранилась аспидно-черные карандаши для удлинения уголков глаз, бутылочки с маникюрным лаком и ацетоном, разные сорта губной помады — от более яркой до бесцветно-перламутровой, от которой губы кажутся влажными и освещенными лунным светом. А может, не лунным, а, наоборот, голубыми лампами «дневного освещения».
Молодежь из других палат чувствовала себя у нас вольготно: тяжелых больных у нас не было, все ходячие, и ребята понимали, что мы им рады. В их присутствии быстрее шло время. (Молодежи в отделении было немало: лихачи — автомобилисты и мотоциклисты — да и просто «неосторожные пешеходы», как дразнила их Наташа.)
— Эх ты, «неосторожный пешеход», что-то ты совсем стал вогнутый, — говорила она одному парню.
— А ты похож на циркуль, — смеялась над другим. — Но ничего, не бойся, придет время, и ноги начнут у тебя гнуться, как у всех нормальных людей.
Зима была типично ленинградская: мягкая, оттепельная, вьюжная, с лужами днем и ночными морозцами, и потому «неосторожных пешеходов» хватало.
Сама Наташа не относилась к их числу, — она сломала ногу на катке.
Молоденькие сестры иногда по вечерам, когда дежурство бывало легким, забегали к Наташе одолжить бигуди, хранившиеся у нее в специальном полиэтиленовом мешочке.
Наташе принесли в больницу даже ее парик. Все девчонки и молодые женщины примеряли его, обсуждали, кому идет, кому не идет. Только Полина Михайловна относилась к нему резко отрицательно.
Однажды проснувшись утром, она не поверила своим глазам: на Наташиной подушке лежали две головы — Наташина и еще чья-то. Спросонья Полина Михайловна не на шутку испугалась, — она еще не знала, что Наташе принесли из дому парик. Полина Михайловна долго протирала глаза, пока поняла, в чем дело. С той поры она и невзлюбила этот самый парик, так ее напугавший.
Она вообще была противницей всей современной моды и любой косметики. Она говорила:
— Насколько красивее все естественное! Молодость сама по себе прекрасна. В молодости все лица красивы и неповторимы. А теперь молодежь вся на одно лицо. Точно в масках.
— У вас устаревшие взгляды, Полина Михайловна, — мягко возражала Наташа.
— Может быть. Но я имею право на собственное мнение?
— Безусловно. Но и мы имеем право на свое мнение.
— Ну вот ответь мне, Наташа, зачем тебе, с твоими волосами, парик?
— Для разнообразия.
— Для разнообразия! — возмущалась Полина Михайловна. — А как было красиво, когда девушки носили косы...
— Мы все равно друг друга не переубедим, — миролюбиво говорила Наташа. — Меняются времена — меняются вкусы. Вам не нравится, как одеваемся мы, молодые. А нам не нравится, как одеваются пожилые. Ведь пожилые тоже могут быть прекрасно одеты. Соответственно возрасту, конечно.
— Если ты имеешь в виду меня, то у меня не такой уж страшный возраст, — весело перебивала ее Полина Михайловна. — Я еще не на пенсии.
— Хотите сказать, что вы молодая? — съязвила Наташа.
— Ребенок, не зарывайся! — Полина Михайловна погрозила ей пальцем.
— Хорошо, не буду. И вообще, старость — это понятие не возрастное. Все дело в характере.
— Это тоже камешек в мой огород?
— Частично. Но даже если не говорить о сути, о том, как человек воспринимает жизнь... Даже если ограничиться только чисто внешним... Вот доверились бы вы мне, Полина Михайловна, я из вас конфетку бы сделала.
— Это каким же образом?
— Очень просто. Свела бы вас к хорошему мастеру.
— К какому еще мастеру?
— К парикмахеру.
— А-а! Почему они теперь называются «дамский мастер», «мужской мастер»? Раньше был «парикмахер». Коротко и ясно.
— Вы опять за свое: раньше было так, раньше было этак. Разве дело в том, как называется?
— Ну, допустим, не в этом. Так для чего бы ты свела меня к этому самому мастеру?
— Я свела бы вас к первоклассному мастеру Рае, которая подстригла бы вас как надо и сделала вам укладочку ручным феном. Такую укладочку, что вы сами себя в зеркале не узнали бы! Вот так. А потом я свела бы вас к хорошей закройщице или даже просто в магазин и подобрала бы вам... Вы сейчас упадете в обморок: брюки бы вам подобрала. Да, да, брюки. Потому что вы хоть и не худенькая, но у вас вполне приличная фигура, и с длинным жакетом это было бы совсем неплохо.
— Ты меня убиваешь!
— Вот именно, — смеялась Наташа. — Вы не хотите понять, что могли бы стать не только намного моложе. Вы бы выглядели элегантной, современной женщиной. Но вы никогда этого не сделаете. А жаль.
— Знаешь, Наталья, ты меня почти убедила.
— Именно, «почти». И только на пять минут. А потом одумаетесь. Скажете: «Как это я явлюсь на работу в новом обличье?» Ведь скажете?
— Может быть.
— В том-то и дело. От старых привычек вам трудно отвыкать, Полина Михайловна.
— Что это ты сегодня, взялась «обличать» меня?
— Когда-нибудь надо же! А то всё вы меня «обличаете». Пришла и моя очередь.
— Ну ладно, давай уж сразу выкладывай все претензии.
— Сразу невозможно. Не выдержите.
— Даже так?!
— Я лучше каждый день буду понемногу.
— Распустили мы тебя здесь, ой распустили...
— Вот вы, Полина Михайловна, на днях возмущались нашими словечками, сказали, что молодежь коверкает язык. А может, мы его совершенствуем?
— Ну, знаешь! Как это вы говорили: «крутые джинсы»?
— И это было.
— Так это что значит: хорошие или плохие?
— Смотря по интонации. А еще мы говорили: «Не кати телегу!» Это в переводе: «Не ври». По-моему, образно.
— А по-моему — безобразие. И еще я слышала у вас выражение: «Ой, я сейчас усохну».
— Это значит: «Умру со смеху», — деловито пояснила Наташа.
— Наталья, на сегодня урок этого дикого языка окончен. Я больше не выдержу!
— Хорошо, продолжим завтра. Между прочим, говорят, и в ваше время были всякие жаргонные словечки. Но не те, что сейчас, другие. И вам тогда они слуха не резали.
— Лиха вы не видели, — уже серьезно произнесла Полина Михайловна. — А какими вы были бы, если б во время войны жили, — этого я еще не знаю.
— Зато я знаю! — сказала Наташа необычно резко. — Разве только в войну раскрываются характеры? А в мирное время? Разве не бывает тяжелых испытаний? Или все бессмертны?
— И испытания есть, и смерть, но все же...
— Это только вам все мы, молодые, кажемся на одно лицо, — перебила Полину Михайловну Наташа. — А мы-то друг другу цену знаем. Знаем, кто есть кто. Кто трус, а кто мужественный. И могу сказать с уверенностью: если б мы жили в войну, мы воевали бы не хуже вашего поколения!
— Не уверена.
Спор оборвался в этот раз потому, что вошел врач. Но через несколько дней возобновился.
— Чтобы критиковать, надо знать. А вы не знаете молодежи! — сказала Наташа.
— Кто это «вы»? — спросила Полина Михайловна.
— Вы лично. Я же не говорю, что все ее не знают. Но вы лично не знаете.
— У меня на заводе много молодежи. И мне всегда казалось...
— Вы видите ее на работе и частично в быту. Но этого мало. Чтобы понять современную молодежь по-настоящему, ее надо знать глубже. Надо войти к ней в доверие, разобраться в ее мыслях. Не сердитесь, Полина Михайловна. Я сказала то, что думала.
Полина Михайловна не рассердилась и не обиделась. Несмотря на подобные споры, мы жили мирно, помогали друг другу чем могли.
Наташа много знала и много читала. Учебники, конспекты лекций и множество книг, русских и иностранных, приносили ей товарищи по институту. (Наташа свободно владела языками.)
Ее родители не могли побыть с ней наедине и двух минут: когда они приходили, у нее уже был кто-нибудь из соучеников.
Формально к каждому больному пропускали только по одному посетителю. Чтобы пришел другой, первый должен был уйти. На Наташиной же койке во впускные часы, сидело не меньше чем два-три человека. Сначала я не понимала, как это им удается, — ведь у входа в отделение сидела строгая тетенька со списком больных, отмечавшая, к кому уже прошел посетитель.
Но Наташа объяснила, что ребята проходят не через главный вход, а по внутренней лестнице, через поликлинику, находящуюся в первом этаже. А медсестры, эти строгие блюстительницы порядка, не прогоняли ребят потому, что сестер, как и всех нас, радовала и даже умиляла трогательная забота ребят о своей подруге.
А они были удивительно внимательны к ней.
Наташина тумбочка ломилась от всякой снеди. Из нее постоянно выкатывались на пол яблоки, апельсины, лимоны. А сколько носили ей банок варенья, компота, сколько конфет! Она всем этим делилась с друзьями по отделению и с медсестрами, но и оставшегося было столько, что одному человеку не съесть.
— Ребята, спасибо, но зачем так много? — говорила Наташа.
— Ничего, справишься, — убеждали они. И в следующий впускной день снова несли банки, кульки, пакеты.
Но цветы приносил только один. Это был худенький паренек невысокого роста, с умным, ясным лицом и густыми, как у девушки, длинными ресницами. Звали его Витя.
Все остальные ребята приходили во впускные дни. Витя же приходил ежедневно, а точнее сказать — два раза в день. Это он и «открыл» вторую лестницу, по которой можно было попасть на наше отделение через поликлинику. И надо сказать, пользовался он «черным» ходом очень смело. По вечерам это не представляло особой сложности. Были и другие посетители, поднимавшиеся к нам наверх по этой лестнице. Больные могли на несколько минут выйти к ним на лестничную площадку. Врачей в эти часы, кроме дежурного, не было на отделении, а он, как правило, бывал занят. Медсестры же нестрого говорили:
— А ну марш по палатам!
Или:
— Ну сколько можно? Всё не наговорились?! Ведь дует здесь, простудитесь. Хватит, хватит. — И тут же уходили.
Так что по вечерам все было проще.
Но Витя умудрялся проникать к нам даже по утрам, когда все врачи на местах, когда идут операции, сестры бегают со шприцами и лекарствами.
Однажды Витя влетел в палату в момент профессорского обхода...
Наташа объяснила нам, почему он свободен по утрам: специально для того, чтобы чаще бывать у нее, он взял зимой очередной отпуск, который должен был использовать будущим летом. (Витя работал на заводе и был студентом-заочником.)
Что касается вечерних часов, то он приходил либо до занятий, либо просто пропускал лекцию.
— Витя любит тебя безумно, — радостно говорила Полина Михайловна.
— Влюблен до посинения, — соглашалась Наташа.
— А ты не ценишь его. Такое отношение, как его, знаешь, на каждом шагу не валяется.
— Это было бы ужасно, если б на каждом шагу. Я бы просто споткнулась, — не могла не сострить Наташа.
— Я серьезно говорю, — продолжала Полина Михайловна. — Вот потеряешь его — пожалеешь.
— Ни-ког-да!
— Ты что же, ни капельки его не любишь? — допытывалась Полина Михайловна.
— Ни граммочки! — смеялась Наташа.
Она, действительно, принимала Витино поклонение как нечто само собой разумеющееся и как будто не очень дорожила им. А он делал всё, чтобы развеселить Наташу, утешить, скрасить ее пребывание в больнице. Приносил книги, массу газет, разноцветные воздушные шары.
Однажды принес Наташе забавную игрушку. Это был искусно сделанный лохматый смешной щенок. Будь он размером побольше, его вполне можно было бы принять за живого, а не игрушечного.
Смотреть на него собрались Наташины приятели и приятельницы из других палат. Все восхищались игрушкой.
Когда Витя вытащил из портфеля и поставил его на Наташину тумбочку, ее лицо просияло. Но Витино лицо просияло еще больше: он видел, что доставил ей удовольствие.
Щенка назвали «Пуня».
Ложась спать, Наташа теперь всегда клала себе на плечо пушистого веселого Пуню и долго гладила его, бормоча ему что-то в длинное лохматое ухо.
У Пуни было еще одно достоинство, которое открылось не сразу. Он, оказывается, умел тихонечко лаять. Об этом его свойстве, видимо, не знал и сам Витя, иначе, наверно, продемонстрировал бы нам это едва слышное, но очень натуральное тявканье.
А выяснилось все так: однажды ночью Наташа, вскрикнув, вскочила с кровати и зажгла свет. Мы все переполошились.
— Что случилось?
— Что с тобой?
— Что у тебя болит? — спрашивали мы наперебой. Но Наташа вела себя очень странно: она хохотала. Покатывалась со смеху. Успокоившись, объяснила, что со сна испугалась собачьего писка у себя под боком. А потом поняла, что это подал голос Пуня, на которого она случайно нажала плечом. (Шерсть у Пуни была такая густая и длинная, что ни Наташа и никто другой раньше не видел скрытой в этой шерсти свистульки, наподобие тех, которые заставляют кукол говорить «мама».)
Пуня прижился в нашей палате, веселил и развлекал нас, скрашивая нам тяжелые дни и часы. А тяжелых дней и бессонных ночей хватало, но я не пишу здесь об этом, потому что не об этом мой рассказ.
* * *
Наверно, оттого, что в нашей палате все время была молодежь, я стала часто вспоминать то время, когда сама была в возрасте этих девчонок и мальчишек, может, чуть помоложе их.
В городке, куда нас с мамой эвакуировали из блокадного Ленинграда, стояли пятидесятиградусные морозы. Там не было бомбежек и обстрелов, не было затемненных окон и не было голода в блокадном понимании этого слова. Но все равно была война. Были сводки Информбюро, которыми мы жили; и были похоронные, и нечего было есть, и нечем топить печь, и не во что одеться в трескучий уральский мороз: зимних вещей у нас с собой не было. Впрочем, выход нашелся: соседка дала мне старенькое выцветшее детское одеяльце и я сшила из него нечто, отдаленно похожее на ватник. Шею, как шарфом, заматывала косами — они были длинные и густые. Хуже было с обувью. У мамы были чудом уцелевшие старенькие фетровые боты, мне же на ноги зимой надеть было вовсе нечего.
Мама сказала:
— Придется продать или обменять тебе на валенки мое синее платье (единственное крепкое, добротное довоенное ее платье, которое было у нас с собой. Мама не носила его, берегла «на черный день»).
Пришлось согласиться — другого выхода не было.
— А весной мы продадим валенки и купим тебе платье, — сказала я себе и ей в утешение.
Конечно, достать на рынке, а точнее, на городской «барахолке» новые валенки нечего было и думать: они стоили баснословно дорого. Надо было поискать старые, поношенные. Иногда и такие попадались там.
...Я прогуливалась по рынку с независимым видом. Сверток с платьем лежал у меня на дне кошелки. Зачем мне было доставать его, если ни одной пары поношенных валенок в этот день не продавалось? Зато новеньких, круто свалянных, нетронуто-белых, под цвет снега, было великое множество.
— Сколько стоят? — спросила я у одной из продававших женщин, но она назвала такую цену, что я сразу же отошла. Я уже собиралась покинуть барахолку, поняв, что в этот день у меня ничего не получится, как вдруг увидела молодого парня на костылях. Он держал в руке валенок — очень большой, крепкий. Мне почему-то показалось, что этот парень не заломит особенно высокой цены, и я подошла к нему.
— Бери, — сказал он. — Недорого прощу.
— У меня денег нет, — ответила я. — А вот есть мамино платье... — Я достала сверток.
Он засмеялся.
— На что мне платье? Я еще неженатый. А ты вот что — давай продавай свое платье быстро и бери мой валенок. Только я ведь один валенок продаю, — добавил он уже серьезно.
— Как это — один?!
— А так, очень просто. Другой сам носить буду. — Он показал на свою правую ногу, обутую в такой же валенок, какой был у него в руке. — А левой ноге уже не холодно...
Только сейчас я увидела, что левая штанина его ватных брюк подколота булавкой выше колена.
— Отвоевался, значит, — объяснил он. — А ты, видно, эвакуированная?
— Да.
— А я сам местный, — сообщил он. — Ну, тогда так: давай сюда свое платье... Давай-давай, не робей! Я его мигом продам, раз уж ты сама не умеешь... А про второй валенок не заботься: найдем и второй. Это я тебе точно говорю. Я тебя так не оставлю, сестренка.
Он перекинул мамино платье через руку, и его тотчас же обступили женщины. Он весело с ними торговался и быстро продал платье, получив за него довольно много денег.
— Вот это мне, — он отсчитал треть выручки. — А это — тебе. Ну как, я тебя не обидел?
— Что вы?! Спасибо большое! Только... почему вы... взяли себе не половину, а только третью часть? Мне ведь... не три валенка нужны...
Он снова засмеялся.
— Три тебе ни к чему, это верно. Только я взял хорошую цену. Вот если б мы твое платье дешево продали — тогда что ж!.. Другое дело. А мы за него с походом взяли. — Он подмигнул. — Никому не обидно. А я не спекулянт. Свою вещь продаю. Сколько она стоит — столько я и отсчитал. — Он стал словоохотливым. — Давай-ка побыстрее, — вдруг сказал он, рванувшись, и быстро пошел, опираясь на костыли, к воротам.
Вскоре я поняла, куда он заторопился: у входа на барахолку стоял мальчишка лет тринадцати-четырнадцати. Он держал в руках валенки — ветхие, мятые.
— За сколько отдашь? — спросил мальчишку мой «покровитель».
— А тебе надо? — усомнился тот. — Они же детские.
— Не надо — не спрашивал бы, — резко ответил раненый.
Он взял валенки в руки, повертел так и эдак и сокрушенно покачал головой:
— Их носить нельзя. Худые совсем. Все равно что босой по снегу…
— Так я и не говорю, что новые, — оправдывался мальчик. — Я дешево отдам.
— Значит, так, — сказал раненый веско. — Вот этот валенок еще ничего, только подошвы нет. А вот этот на подшивку пойдет. Видишь, говорил я тебе, что найдем? — радостно обратился он ко мне. — Вот тебе деньги, держи, — сказал он мальчику, отдавая ему столько же, сколько взял себе.
Мальчишка опешил: он не ожидал такой удачи. Улыбаясь, пересчитал деньги.
— И мы не внакладе, — с удовлетворением проговорил раненый. — Правда?
— Еще бы!
Я была счастлива. После всех коммерческих операций у меня еще остались деньги, на которые я купила стакан овсянки. А это ли не сногсшибательная удача?!
И притом я была обладательницей трех валенок.
Один из них был черный, почти новый, огромный, — в него могли одновременно войти четыре ноги, такие, как мои; два других были маленькие, дырявые, бесформенные, грязновато-серого цвета с белыми вкраплинами.
Но я крепко прижимала их к себе, и мне казалось, что мороз ослабел и на нем стало легче дышать.
* * *
...Чувство голода было постоянно. «Неужели мы не выдержим, неужели не доживем до Победы? — думала я. — Неужели я больше никогда не увижу Ленинград? Да и другие города — я ведь еще нигде не успела побывать — ни на юге, ни на севере... Неужели я умру, так и не став окончательно взрослой? Но это же несправедливо! Так нельзя! И потом — что значит «умру»? Как это — умру??»
Хлеб по карточкам выдавали почти регулярно, но он не насыщал. Хотелось супа — жирного, обжигающего. Иногда я даже видела его во сне. Но один раз мы ели такой суп наяву.
В музыкальном училище, где работала мама, сотрудникам выдали по полкило костей с мясокомбината. Мясо было с них тщательно срезано, но суп получился именно такой, какой снился мне. Когда он остыл, в нем плавали белые кружочки жира...
Почему музыкантам вдруг выдали эти кости, я не знаю.
Помню только, что на мясокомбинат за ними поехал старик скрипач — худой, седой, длинноволосый, с бледно-голубыми глазами сказочника.
Он привез эти кости к себе домой на санях и потом сам рубил, взвешивал и делил их.
Мама была на работе, и за костями пошла я.
Этот старик скрипач жил далеко, на окраине, за пустырями. Домов там было мало, людей совсем не видно.
Войдя в комнату, где он жил, я испугалась: на стульях и подоконниках лежали одинаковые кучки костей, а он продолжал рубить остальные. Пламя коптилки каждый раз вздрагивало при взмахе его руки.
Тень от топорика зловеще взлетала по стене к потолку и снова падала вниз. Длинные седые волосы скрипача разлохматились, глаза казались мутно-колдовскими. Старик не был в тот раз похож на доброго сказочника... Я поспешила получить поскорее свою порцию мясокомбинатовских костей и пустилась бежать из этой страшной комнаты без оглядки. Отдышалась только, добравшись до улицы, где стали попадаться редкие прохожие. Мороз выбелил брови, волосы и шапки людей, и лица их были точно с негативной пленки. Городок спал, закутавшись в снега. Мне так хотелось зайти в какой-нибудь дом, поговорить, рассказать о том, что делалось в моей душе, но в тех немногих окнах, где теплились рыжие огоньки коптилок, хватало своих похоронных, своей беды, своей боли...
Была нестерпимая, смертельная тоска по Ленинграду. Тыловой городок — гостеприимный ли, суровый ли — все равно воспринимался как чужбина. Пребывание в нем было вынужденным, никакими силами мы не имели возможности тогда вернуться домой. Ленинград казался живым существом — измученным, израненным, а мы были далеко, так далеко от него... Не знали, что с ним в данную минуту, в данную секунду. Не могли помочь ему, врачевать его раны.
Сейчас, когда от города на Неве до тех мест всего дня полтора езды, а самолетом можно добраться за несколько часов, просто невозможно передать то ощущение полной недосягаемости Ленинграда, которое было у нас тогда, точно он был на другой планете, на совсем другой планете.
В городок, где мы жили, военная судьба занесла немало ленинградцев. Все мы были знакомы друг с другом. И если кто-нибудь получал письмо из дому, то сразу бежал читать его землякам. Эти письма переставали быть личными письмами, они как будто были адресованы всем нам. Мы перечитывали их десятки раз, знали наизусть. Запомнить их нетрудно: они были так лаконичны и их было так мало! Так мало!
...Как-то стоя в ночной очереди за хлебом (в этот день обещали отоварить хлебные карточки), я устроилась на ступеньках лестницы того дома, где находился магазин. На моей ладони (как и у всех остальных) был выведен послюнявленным чернильным карандашом номер очереди — во избежание путаницы.
Я употребила слово «стоя», но на самом деле сидела на ступеньке, прислонившись спиной к стене, и готовила уроки, — тогда еще училась в школе. У меня были с собой книга и старый журнал, служивший мне тетрадью. (Тетради тогда достать было невозможно. Мы, школьники, раздобыли, кто где мог, старые, ненужные, давно прочитанные журналы и писали на их страницах поверх шрифта.)
В середине ночи я задремала на своей ступеньке, и мне приснился город Пушкин под Ленинградом. Я отчетливо видела здание Лицея, пруды и парки, «аллею древних лип», Камеронову галерею и тот уголок, где «урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; дева над вечной струей вечно печальна сидит».
Бывают сны как бы «размытые», а бывают совсем четкие, правдоподобные, точно все это происходит с вами наяву. Таким был и этот сон. В ту ночь я побывала там, в мирных лицейских краях. Мирных?!
Я очнулась. Да ведь там же сейчас немцы! Фашисты! Они зверствуют там. Вешают стариков и детей. Жгут дома и дворцы. Увозят в Германию или вовсе уничтожают бессмертные скульптуры...
Этому нельзя было поверить. Но это было так.
Город Пушкин... «Куда бы нас ни бросила судьбина и счастие куда б ни повело, всё те же мы: нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село», — все повторяла я, все повторяла.
«Друзья мои, прекрасен наш союз; он, как душа, неразделим и вечен...» И вечен.
Самый мой любимый памятник тот, где Пушкин с умиротворенным, вдохновенным лицом сидит, откинувшись на спинку чугунной скамьи.
Из газет мы знали, что немцы покушались и на этот памятник. Но мы знали и другое — что наши партизаны в тех краях очень сильны и что немцы не на шутку их боятся.
И мне пришло в голову написать об этом рассказ. Придумала такой сюжет. Фашисты сняли фигуру Пушкина с пьедестала, но увезти или уничтожить ее не успели. И вдруг видят: Пушкин снова сидит на своей скамье! Они поняли, что это сделали партизаны, потому что в тот день был взорван немецкий поезд с боеприпасами. Разъяренные фашисты опять сняли Пушкина со скамьи, но в эту ночь взлетел на воздух другой поезд с немецким снаряжением и оборудованием. Однако фашисты чуть было не поймали самого отважного партизана, который руководил этой операцией и уходил последним. Но это был смекалистый парень. Видя, что его вот-вот схватят, вскочил на цоколь памятника, сел на чугунную скамью, откинулся на ее спинку и тем обманул фашистов. Они в темноте ночи приняли его за Пушкина, которого, по их мнению, партизаны снова вернули на свое место.
Домой утром я бежала счастливая: в одной руке я несла кусок хлеба (до этого несколько дней были большие перебои с выдачей хлеба), в другой — рассказ, свой первый в жизни рассказ, написанный в ночной очереди на ступеньке чужого дома. Рассказ этот мне самой тогда очень нравился. Но никому из взрослых я все же не решалась показать его. И подругам-то прочитала его не сразу. Но со временем все же прочитала. Они его похвалили, а одна — Сашка Гулина — даже попросила дать ей рассказ домой переписать. Я дала. Недели через две она сказала мне:
— Ты не сердись, ладно? Я твой рассказ в редакцию снесла.
— В какую еще редакцию?!
— В редакцию газеты. Не сердись, пожалуйста! Но мне так хотелось, чтобы его напечатали! А ты сама, я уверена, не пошла бы. Мне-то легко, — я не свой, а чужой рассказ носила. — Она помолчала. Потом добавила: — Ты только не огорчайся, ладно? Они так сказали: «Этот рассказ мы печатать не будем. Пусть напишет другой. Про то, что она своими глазами видела. Про блокаду, например». И еще сказали: «У нее получится». И вообще сказали, что ты — молодец.
— Честное слово?
— Честное комсомольское! Неужели я в таких делах врать буду?! И еще просили, чтоб ты в эту среду в семь часов к ним в редакцию пришла. У них по средам при редакции литературный кружок.
— И меня пригласили?
— Во дурная, я ж тебе объяснила: велели обязательно прийти!
И я пошла. И стала регулярно — они собирались два раза в месяц по средам — посещать занятия литературного кружка при газете. Он был небольшой. Собиралось человек десять — двенадцать: несколько сотрудников редакции, рабочие — местные и эвакуированные, одна актриса, одна медсестра, два демобилизованных по ранению офицера. Они читали там свои стихи, рассказы, очерки и обсуждали их. Какой отдушиной, какой радостью было для меня тогда посещение этого кружка! (Да, наверно, и для остальных.) В эти часы не чувствовались голод и холод, и тоска по родным местам была не так нестерпима. Мне предлагали прочесть там свой рассказ, но я все откладывала. И в обсуждении никогда не участвовала, — стеснялась выступать среди взрослых. Я ведь была там единственной школьницей. Молча сидела и слушала, и этого мне было вполне достаточно.
* * *
Однажды на занятиях кружка появился новый человек. Это был раненый моряк, сумевший на один вечер уйти из госпиталя. (Самое большое и благоустроенное здание в городе — здание гостиницы — было во время войны превращено в морской госпиталь.) Там и лежал на излечении этот парень. Но он уже был почти здоров и в самом скором времени должен был выписаться из госпиталя. Поэтому ему и удалось отпроситься на несколько часов, чтобы почитать у нас свои стихи.
Не успела я переступить порог редакции, как он подошел ко мне:
— Редактор сказал, что вы ленинградка!
— Да.
— Я тоже!
— Когда вы были там в последний раз?! Как там с хлебом? А с обстрелами? Какие здания уцелели?..
Мы не могли наговориться. А потом Всеволод читал свои стихи — о Ленинграде, о фронте, о войне и о мире, о белых ночах, о фонтанах Петродворца. Он был ранен на Ленинградском фронте.
Никого в тот вечер не было для меня роднее и ближе, чем он.
Мы вышли из редакции вместе. Был слякотный, совсем не уральский вечер, а такой похожий на наш, ленинградский.
Всеволод рассказал о себе. Успел окончить первый курс физического факультета университета. Родители умерли в блокаду. Сам он с первого дня войны на фронте.
Теперь в госпитале.
Мы долго шли молча. Потом Всеволод сказал:
— Я читал ваш рассказ.
— Читали?!
— Да, мне показали его в редакции. Хотите мое мнение?
— Скажите.
— Ни партизан, ни фашистов вы в глаза не видели. И потому там сплошная «липа». И при всем при том я читал и волновался. Очень.
— Ну, это потому, что... тема вам близкая. Город Пушкин, Лицей... и все прочее.
— Отчасти. Но не только поэтому. Как бы вам объяснить? Люди в рассказе все выдуманные, а вы сами там — настоящая. Живая. Непонятно, что я говорю?
Мы все шли и шли вместе. Получилось, что он меня провожает. Наконец показался мой дом. Мы с матерью жили в проходной комнатушке, и хозяева квартиры не позволяли, чтобы к нам зашел кто-либо даже днем, не то что поздним вечером.
Я стала прощаться, но Всеволод перебил меня.
— Мне не хочется сейчас расставаться с вами, — сказал он. — Пошли в кино на последний сеанс!
— А вам не влетит, что поздно вернетесь?
— Влетит.
— Не боитесь?
— Боюсь, — улыбнулся он.
— Ну, тогда пошли.
Недалеко от моего дома был городской сад. А в саду маленький захудалый летний кинотеатр. Туда мы и отправились.
Над пустынным, совершенно оголенным — ни листочка на деревьях — осенним садом висел нежный и прозрачный молоденький месяц. Гигантские лужи затопили все дорожки и аллеи. Прыгая через эти реки и озера, промочив ноги, кое-как добрались мы до здания кино. Я была уверена, что оно уже не работает, закрыто на зиму.
Но к моему изумлению, жизнь еще теплилась в этом маленьком кинотеатрике. Возможно, он работал последний день. Не знаю, были ли там зрители днем, но на этом последнем сеансе мы с Всеволодом были одни в зале. А механик делал свое дело — крутил ленту. Шли «Два бойца». Для нас. Для нас одних.
И мы были далеко от этого чужого городка, от этого раскисшего сада. Мы вместе с «двумя бойцами» были дома, в Ленинграде.
Мы с Всеволодом целовались и плакали. Вернее, плакала только я, но мои слезы текли и по моим и по его щекам...
А через несколько дней Всеволод выписался из госпиталя и вернулся на фронт.
Мы не переписывались, и я даже не знала, жив ли он.
И только после окончания войны встретила его в университете. Он вернулся на свой физический факультет, я училась на отделении журналистики филфака. Факультеты наши находились в разных зданиях, и потому встречались мы с Всеволодом только после занятий. Но уже до самого позднего вечера не расставались. Лекции, «читалки», студенческие вечеринки в складчину, филармония (только входные билеты, разумеется, потому что и он и я жили лишь на стипендию), театры (самые верхние ярусы, откуда мало что видно и мало что слышно)... Но какое веселое, какое безмятежное это было время!
А может, это только теперь так кажется?
Через год мы с Всеволодом стали мужем и женой.
Жить нам было негде. Прописаны были у моих дальних родственников, а жили то у одних знакомых, то у других. А потом нам повезло: мы поселились в бывшей кладовке большой коммунальной квартиры. Но это уже была своя жилплощадь, хоть и кладовка.
А через некоторое время освободилась одна из комнат — уже обычных, вполне жилых — в той же самой квартире, и нам дали эту комнату. Нам она тогда казалась дворцом, хотя единственное ее окно выходило в узкий двор старинного петербургского дома, да и оно наполовину было закрыто противоположной стеной.
Но могло ли это огорчать нас, если мы были вместе, если у нас был кров да к тому же еще и любимая работа?!
То были годы счастья. Многие годы. Казалось, мы всегда все будем делить пополам — горести и радости, сомнения и победы.
Но случилось иначе.
Всеволод умер, когда ему шел тридцать четвертый год. Умер от ранений. От тех самых ранений, которые лечил когда-то в далеком уральском городке, где мы познакомились.
Война настигла его уже в мирное время.
* * *
Я почти ничего не говорила о нашей четвертой соседке по палате — Татьяне. Теперь хочу рассказать о ней. Она была молчалива и необщительна, почти как глухонемая. Но у нее оказалась еще одна странность: она... забыла свой адрес.
Как-то палатный врач спросила ее, на какой улице она живет (ей должны были выдать какую-то справку). Татьяна, замявшись, смутившись, показала на историю болезни:
— Там... написано.
— Тут очень неразборчиво, — сказала врач. — А вы-то что, забыли?
— Забыла, — ответила Татьяна мягко, виновато.
Врач пожала плечами: чего не бывает в больнице.
Но на следующий день к Татьяне подошла медсестра Галочка — чудесная, добрая девочка, только что окончившая школу медсестер. Её хотелось называть не медсестрой, а сестрой милосердия.
Галочка, сделав Татьяне укол, долго не уходила из палаты, сидела на ее койке. Потом спросила:
— Татьяна Никифоровна, где вы живете? Ну, на какой улице?
— Забыла, — опять, как и накануне, сказала Татьяна.
Галочка спокойно и мягко проговорила:
— Тогда я вас очень прошу — узнайте это, пожалуйста, когда придут ваши дети. А потом мне скажете. Хорошо?
— Хорошо, — ответила Татьяна.
К ней два раза в неделю приходили двое мужчин и две женщины — очень заботливые, внимательные. Это были сын с невесткой и дочка с зятем. Все полные, плотные. А сама Татьяна была высокая, высохшая. Только глаза поблескивали молодо на ее старом, пожелтевшем от болезни лице.
Дети приносили ей передачи обильные, добротные; все домашнее, печеное, вареное — куры, пироги. А она почти ничего не ела, и дети огорчались:
— Мам, что ж вы ничего не съели-то? А? — говорила невестка. — Я ведь вам опять всего много принесла.
— Пошто столько носите? — мягко укоряла ее Татьяна. — Вот и Иван был. Тоже всего столько принес! Не надо мне так много. Аппетиту нет... пока.
— Нельзя так! Надо кушать. Чего вам к четвергу-то приготовить?
— Ничего не надо! Всё ведь остается. И не приходите вы в четверг никто. Трудно ведь. Работаете все. Дети у всех. А мне тут хорошо. Соседки хорошие.
— Как это — не приходите? Еще чего придумали?
Дети тревожно расспрашивали ее о самочувствии:
— Как у тебя здоровье-то? Доктор чего сказал? — беспокоилась дочь.
— Я не спрашивала.
— А он-то сам ничего не сказал? Про операцию. Надо или нет?
— Сказал: «Будем делать анализы». А про операцию сказал: «Еще неизвестно». И сказал: «Все будет хорошо».
— Дай-то бог!
Если со своими детьми она хоть немного разговаривала, то нам отвечала односложно: «да», «нет». И ласково и как-то виновато улыбалась.
Вскоре мы так привыкли к Татьяниному молчаливому присутствию, что перестали замечать ее. Была она в палате или ее не было — от этого ровно ничего не менялось. Но мы берегли ее, старались не мешать ей длинными вечерними разговорами (особенно если дело происходило после «отбоя»). В палатах в это время уже бывал погашен свет, и засидевшихся у нас соседок из других палат мы просили говорить потише, шепотом.
Но однажды, когда мы думали, что Татьяна давно спит, она вдруг сказала:
— Да не шепчитесь вы, девки, не шепчитесь. Говорите громко! Не мешаете вы мне. Нисколечко. Не сплю я. А когда захочу спать — так пушками не разбудите. Вон мои-то знают. Это еще я им мешаю спать. Храпеть стала в старости. Молодой-то не храпела. Нет. А теперь — да. Даже муж жалуется.
Мы впервые слышали от нее о муже. К ней приходили только дети. Муж не был ни разу. Поэтому Наташа спросила ее удивленно:
— Разве у вас есть муж?
— Есть, — ответила Татьяна. — Хороший у меня муж. Жалеет меня. Молодой он. На четырнадцать лет меня моложе. Да. А вы как думали? — И она засмеялась лукаво, молодо.
Мы впервые слышали ее смех. Я пожалела, что свет уже погашен и я не вижу ее лица. Мы притихли, а она продолжала:
— Это мой второй муж. Первый в войну погиб. Похоронную получила.
Все мы сочувственно помолчали, потом Наташа спросила:
— А которого вы больше любили? Все-таки, наверно, первого?
— Нет, — уверенно сказала Татьяна. — Первого я не любила. Бил он меня. И пил сильно. Плохой был человек. Детей у нас не было. Плохо жили. Кабы не война — все равно разошлись бы. Другие бабы получат, бывало, похоронную — ревут на всю деревню. А я слезинки не выронила. Не жалела его, зверя такого. А потом я за этого вышла. Когда он овдовел. Мы все с одной деревни. С Максатихи. Не слыхали про такую? Чего же дивиться — это даже не в Ленинградской области. Мы и сейчас с мужем там живем. А его дети — здесь, в Ленинграде. Вот они-то все ко мне приходят. Гостинцы носят. Сами видите.
— Так это не ваши дети? — удивилась я.
— Нет. Его. От первой жены. Мы с ней подруги были, только она помоложе. Как он, с того же года.
— Так выходит, вы им мачеха? Это ваши пасынки, значит? — уточнила Полина Михайловна.
— Вроде бы так. А только они ко мне как к родной матери. Даже и к родной не все дети так. И мне они как родные.
«Ну и ну, — думала я. — Вот вам и молчаливая Татьяна в белом деревенском платочке!»
— А почему вас муж не навещает? — допытывалась Наташа.
— Так я ж тебе говорю, в Максатихе он. И я там живу. Постоянно. А в Ленинград обманом приехала. Потому и адреса свово не знаю. — Она снова засмеялась. — Улица какая-то больно мудреная. Не запомнишь никак. А прочитать не умею, — неграмотная я.
— Совсем? — спросила Наташа.
— Совсем не умею, — ответила Татьяна.
— Мне и в голову не могло прийти, что в наше время у нас может быть совсем неграмотный человек! — изумилась Полина Михайловна.
— Вот — я! — весело сказала Татьяна и серьезно добавила: — Это молодые нынче все грамотные. А старые, наверно, кой-где попадаются. — Потом, помолчав, заговорила снова: — А почему обманом в Ленинград приехала? Потому как без прописки здешней в больницу здешнюю не возьмут. А мне беспременно вылечиться надо. Давно болею. У нас в районе врачи смотрели, в область послали. В области смотрели — и там определить не могут. Тогда дети письмо прислали, что приезжай, мол, устроим здесь. Не может того быть, чтоб в Ленинграде твою болезнь не определили. Вот я и приехала. Тут доктор один знакомый — земляк вроде — и устроил меня сюда. А я здесь никому правду-то не говорю: боюсь — выпишут.
— Не выпишут! — убежденно сказала Наташа. — Не могут выписать, раз такое дело. Вылечат вас здесь, даю гарантию. — Потом спросила: — А этого мужа, значит, любите?
— Очень.
— И он вас?
— Очень даже. На него молодые бабы заглядываются — такой он. Поглядела б ты...
— И не изменяет вам? — задала Наташа вопрос со своей обычной непосредственностью.
Мы с Полиной Михайловной одернули ее: «Ну, знаешь ли! Как тебе не стыдно?!»
Но Татьяна ответила спокойно и подробно:
— Был случай. Уезжала я. А приехала — его нет. Мне бабы и сказали, что он там с одной... Ну, я ничего. Собрала вещи уехать насовсем. Сама не знаю — куда. А только чтоб не видели его мои глаза. Так он, как узнал, что я приехала, да как увидел меня... Чуть с ума не сошел. Плакал аж. Ни за что не отпустил. Прощенья просил. Сказал: «Если уедешь — жить не стану». Да чего рассказывать...
— А больше таких случаев не было? Как он сейчас-то там один? — спросила Наташина подруга.
— Кто его знает? — ответила Татьяна, помолчав. — Были случаи или не были. Только он без меня жить не может.
У нее был счастливый голос, когда она говорила это.
…Утром Татьяна попросила написать письмо ее мужу в деревню:
— Напишите, девки, а я говорить буду.
И она стала диктовать: «Милый мой, ненаглядный! Была бы я пташечка, полетела бы я на крылышках в свою родную Максатиху, посмотрела бы на ваше житье-бытье, на все ваши порядки... И еще хочу я спросить, как ты там управляешься с домом, кормлены ли куры, не выпиваешь ли? Мои дела хорошие. Меня тут лечат. Обещают: буду здоровая. Дети не забывают, ходют часто, гостинцы носют. Но все ноет мое сердце, хочу домой, в свою хату с беленькими занавесочками. Больно по тебе соскучилась, красавец мой, ненаглядный мой...»
Мы не смеялись, когда Татьяна диктовала свое письмо. Мы почему-то плакали.
* * *
Впускные дни были четверг и воскресенье. Посетителей пускали с четырех часов, а до этого был тихий час. Но в эти дни никто, кроме тяжелых больных, конечно, в тихий час не спал. С самого утра шла подготовка к встрече с друзьями и близкими. А уж что делалось в нашей палате! Какие только прически не делали девчонки перед нашим зеркалом, как только не разрисовывали себе глаза! Под умелым Наташиным руководством даже самые бесцветные дурнушки становились загадочными и прекрасными.
Гости удивлялись, восхищались их мужеством, их красотой: «В больнице — и так держаться! Так выглядеть... Молодцы! Молодцы! Ведь красота — залог здоровья».
...Встреча с друзьями и родными, их рассказы, все новости с «большой земли», которые они приносили, делали впускные дни настоящим праздником для нас. Мы ждали их, готовились к ним.
Но нежданно-негаданно все изменилось. Временно впуск посетителей был отменен: боялись, чтоб они не занесли грипп. Временно... Легко сказать! А на какое время — этого никто не знал.
Жизнь наша круто изменилась, стала совсем иной, чем прежде. Как бы оборвались связи с внешним миром. Теперь приходилось довольствоваться лишь записками и передачами, которые наши близкие передавали нам через справочное.
Но могут ли записки заменить встречу с друзьями?! Мы теперь не видели ни одного человека «с воли», и «заточение» наше стало мучительным. Время, которого дома всегда так не хватает, теперь тянулось бесконечно медленно и тягостно.
Вначале мы думали, что сможем общаться со своими нелегально. Но какое там! Входы со всех лестниц были накрепко заперты, и ни о каких встречах на лестничной площадке не могло быть и речи. (Когда врачи и сестры приходили на работу, они громко стучали, и дежурная сестра с ближнего к двери поста отпирала им дверь и тут же вновь закрывала ее на ключ.)
Мы стали читать еще больше, чем раньше, но книг не хватало.
Другим нашим утешением стал телефон-автомат, установленный в конце коридора. Возле него и раньше всегда стояла очередь. Теперь же к нему стало и вовсе трудно пробиться. Многие больные только и жили этими звонками домой и на работу, буквально не отходили от телефона, по сто раз в день, занимая все новую и новую очередь. Все мы невольно слушали чужие разговоры. Кто-то диктовал по телефону формулы и цифры своим сослуживцам, кто-то жаловался и хныкал, ища сочувствия на другом конце провода, кто-то, наоборот, подбадривал друзей и близких, утешал, давал советы. Одна молодая женщина так разговаривала со своей шестилетней дочкой: «А ты не заметила, папа вчера опять пришел пьяный? О господи! А позавчера? А вообще, он поздно приходит вечером?! Позднее, чем когда я была дома? Ну, вспомни...»
Телефон-автомат часто портился. Вообще это был крайне капризный аппарат. Монеты он проглатывал, не соединяя вас с нужным номером. А работал только, если вы просовывали в щель между корпусом и диском шпильку, заколку или проволочку. Проволоки ни у кого не было, а заколок и шпилек — навалом. Мы делились ими с мужчинами из соседних палат.
Вся жизнь сосредоточилась вокруг этого единственного, ветхого, капризного телефона.
Худо нам жилось в это время. Кроме книг, телефона-автомата, который в любую минуту мог выйти из строя надолго, спасало еще общение с другими больными. Сколько разных историй наслышалась я, сколько узнала судеб, характеров! И хоть и раньше разговоры были длинные, откровенные, еще откровеннее, чем в поездах, именно в этот период люди рассказывали о себе, о своей работе, о своих близких то, о чем раньше молчали.
Была одна молоденькая женщина в соседней палате, которая в отличие от всех остальных матерей не беспокоилась о своем ребенке. Другие волновались, плакали — как-то там без них сын, дочь! Вовремя ли накормлен и помыт, проверены ли у него уроки? А уж если ребенок маленький... А эта — нет. Говорила: «Мой Сашка к отцу больше привык, чем ко мне. Меня, наверно, и не вспоминает. Муж ему и за отца и за мать — такой он у меня. Сашку и накормит, и в садик отведет, и постирает, и обед сготовит, а работает не меньше моего. Все умеет делать — в армии долго служил. А сказки такие сыну расскажет — мне никогда не придумать...»
Мы знали ее мужа. Когда она лежала в послеоперационной палате, он ухаживал за ней, как нянька, — терпеливо, умело. А парень молодой, красивый. Он вы́ходил ее. Всё на наших глазах, и поэтому нас нисколько не удивляло, что она не беспокоится о сыне. На такого мужа можно положиться.
А потом (когда уже впуска посетителей не было) она, разоткровенничавшись, сказала нам, что муж ее вовсе не отец ребенка, а отчим. Чудеса... Оказывается, и так бывает.
* * *
Доктора Самедова больные любили. И не только потому, что он блестящий хирург. Он умел утешить и подбодрить, вселить надежду. Особенно ласков бывал с тяжелыми больными и стариками. Про таких, как он, когда-то говорили: «Врач милостью божьей». А теперь говорят: «Человек на своем месте».
Ни разу не видели мы его раздраженным или не в духе. Ни разу. Но вместе с тем в нем была уверенность человека, знающего себе цену.
Он был высок, небрежно-элегантен, кареглаз, темноволос. Все женщины поголовно — от мала до велика — влюблялись в доктора Самедова.
Девчонки часто беседовали о нем.
— Интересно, есть ли у него жена? — говорила одна из Наташиных подруг из другой палаты.
— Неужели ж нет?! Такой человек! И чтоб холостой... Так не бывает, — возражала другая.
— Именно так и бывает, потому что ему-то как раз пару трудно найти: чтоб была и красивая, и добрая.
— У хороших людей жены обычно как раз и некрасивые и недобрые, — убежденно говорила третья.
— А мы всё это можем сейчас же выяснить, — сказала Наташа.
— Как? — спросила одна из девушек.
— Очень просто. Узнаем у Тамары.
— А кто спросит?
— А хоть бы и ты.
— Нет, неудобно.
— Есть о чем говорить, — перебила подругу Наташа. — Сейчас приведу к нам сюда Тамару, и всё узнаем.
Дежурная медсестра Тамара была неулыбчивая, но, в общем, славная женщина. К ней только надо было найти подход. Наташа этот подход нашла, и они подружились.
Тамара в это время была свободна. Уже выполнила все вечерние дела — сделала уколы, раздала лекарства и теперь загоняла больных по палатам, — пора было спать.
Не знаю, что уж там Наташа ей сказала, но вскоре они пришли в палату вдвоем. Волосы Тамары были накручены на Наташины бигуди, а поверх этих колбасок надета марлевая косынка.
— Ну, что вас интересует? — спросила Тамара по-деловому.
— Тамара, расскажи нам о Самедове, — попросила Наташа.
— Многого захотели, — проговорила Тамара, подавив улыбку. — А что именно?
— Всё. Давно ли у вас работает? Это для начала.
— Шестой год. А раньше был на Крайнем Севере.
— За деньгами ездил или за романтикой? — спросила Наташа строго, как в отделе кадров.
— Он женат? — перебила ее одна из девочек.
— А что, понравился? — сочувственно покачала головой Тамара. — Разведен. Второй уже год.
Знали бы вы, какое тут началось веселье! Девчонки стали прыгать, кружиться по комнате, приговаривая:
— Не женат! Разведен! Не же-нат! Раз-ве-ден.
Но строгая Тамара отрезвила их.
— А может, у него новая невеста уже есть, — сказала она не улыбнувшись и заторопилась из палаты. Ей надо было проверить, все ли больные улеглись.
Девочки приуныли.
— Да, такой человек не может быть долго свободен.
— Но какая стерва бросила его?
— Бросила?! Это он, наверно, ушел от нее.
— Нет, это человек верный.
— А ты почем знаешь? — перебивали они друг друга.
Вскоре к нам снова заглянула Тамара, на этот раз сказав решительно:
— Девицы, марш по палатам!
* * *
Приближался Новый год.
Когда был жив Всеволод, друзья обычно собирались в этот вечер у нас. В последние же годы я, как правило, встречала Новый год у друзей — то у одних, то у других, никогда заранее не зная, к кому пойду, и решая это иногда в последнюю минуту.
Конечно, приятно выпить шампанское с близкими тебе людьми, попировать с ними, подвести итоги ушедшему году, помечтать о будущем. Но я никогда (разве что в юности) не придавала этому большого значения. В общем-то не обязательно встречать этот праздник шумно и звонко. Можно побыть вдвоем, втроем. И даже одной. Совсем одной. Помечтать, подумать.
Но то — на «воле». А в больнице...
В предновогодние дни только и разговору было о том, какое всюду сейчас праздничное оживление, о том, как весело бегать по елочным базарам и магазинам, покупая елки, игрушки к ним, вина, закуски, торты, подарки... Та самая суета и толкотня, которая обычно раздражала, сейчас издалека казалась прекрасной. Нам виделись в воображении празднично накрытые столы, елки в разноцветных лампочках, слышался звон заздравных бокалов. Мы забыли, что и там, за стенами больницы, в самые что ни на есть праздничные дни не все так ясно и безоблачно; что не всем одинаково хорошо: кто-то кого-то обидел, кто-то разлюбил, кто-то болен, кто-то умер... Об этом мы начисто забыли. Мы только завидовали всем, кто дома, безмерно жалели себя. И взвинчивали друг друга этими разговорами.
И чем ближе был Новый год, тем грустнее мы становились.
— Интересно, где и с кем будет встречать завтра Новый год Самедов? — сказала вдруг Наташа.
Каждая из ее подруг высказала свою версию о том, как он станет веселиться до упаду и как счастлива та женщина, которая будет в этот день рядом с ним. А может, и не только в этот день.
А вдруг, наоборот, он пойдет к друзьям один и именно там впервые встретит ее, свою суженую?
От этих разговоров все и вовсе расстроились.
...Я долго не спала, думая о разных вещах. О том, например, как жаль времени, проведенного в больнице. Об этой «утечке» часов, дней, недель. О том, как сыплется время, сыплется, точно золотой песок из дырочки в мешке...
Потом я задремала, а потом снова проснулась и опять долго не могла уснуть. И тогда я решила посмотреть, который час на часах в столовой (мои наручные часы я забыла завести, и они остановились).
Дойдя до столовой, я замерла в изумлении. Там появилась высоченная — чуть ли не до потолка — елка. (Видимо, ее установили поздно вечером, потому что во время ужина ее еще не было.) Возле нее стояла лестница, на самом верху которой находился человек, украшавший елку. Он не видел меня, но я сразу узнала его — это был Самедов. Видно, он дежурил в эту ночь по отделению и в свободную минуту стал развешивать елочные украшения.
Мы-то думали, что он дома и, как все, готовится к празднику, а он, миляга Самедов, оказывается, был здесь, с нами.
Я прибежала в палату, подошла к Наташиной постели. Она не спала.
— Наташка, знаешь, кто украшает елку?
— Какую елку?
— Пойдем, посмотришь.
Мы вышли в коридор, потом в столовую.
Самедов обернулся и, увидев нас, спустился с лестницы.
— Давайте покурим, — сказал он, ни о чем нас не спрашивая и не загоняя спать. Он понимал, что не опостылевший больничный режим нужен нам сегодня. Что во сто крат важнее и полезнее спокойный дружеский разговор.
И мы долго сидели и разговаривали втроем возле незажженной еще елки.
* * *
С тех пор как впуск посетителей был запрещен, Витя ежедневно появлялся под окнами нашей палаты. Он пытался переговариваться с Наташей жестами, но из этого ничего не получалось. Он что-то кричал, но она не слушала его. И только тогда, когда санитарка приносила его передачу и письмо, Наташа узнавала все, что он кричал и безуспешно пытался объяснить ей.
Но вот именно тридцать первого декабря, когда письмо от него было особенно нужно, письма не было.
И Вити под окнами не было.
И все мы от этого приуныли еще больше. Наташа все смотрела через стекло, все смотрела...
— Может, заболел? — предположила Полина Михайловна.
— Нет, здоров, я звонила, — ответила Наташа. — Соседи сказали, что ушел утром. И был веселый. А вчера, когда я спросила его по телефону, где он будет встречать Новый год, он что-то мямлил: «Сам еще не знаю... Еще не решил...»
Весь этот день мы слонялись как неприкаянные. Даже читать не хотелось. К телефону-автомату было не пробиться.
Такой мрачной, как в этот день, я Наташу не видела ни разу.
Вечером мы смотрели телевизионную передачу, но и она нас не развеселила. А потом, чокнувшись мензурками с лекарством, грустные и печальные, разошлись по палатам и легли спать. (Вина ни у кого не было, потому что справочная, принимавшая передачи для больных, делала в эти дни особенно строгий «таможенный досмотр».)
Ночью я услышала, как Наташа плакала.
Я подсела к ней на кровать:
— Что с тобой? О чем ты?
— Он разлюбил меня, — говорила Наташа сквозь слезы. — Иначе неужели не пришел бы? Даже записки не написал, не поздравил. И где он сейчас? С кем пьет вино, танцует? Столько красивых девчонок всюду...
— Так ты, оказывается, просто ревнуешь? — сказала я, но тут же пожалела об этом. Мой шутливый тон был неуместен.
— Да, ревную! Ну и что?! И нисколько не стесняюсь этого! Ведь вы не Полина Михайловна...
— Тише, она услышит, — перебила я Наташу, хотя мы и так говорили шепотом.
— Ну и пусть слышит. Я и в глаза ей скажу. Но вы-то понимаете, что я люблю его! Я только не могу говорить об этом. Особенно с ней.
— Зачем ты так? Она хорошая женщина.
— Хорошая, не отрицаю. Но... чужая. Татьяна — старуха ведь, но своя. Живой человек. Всё понимает. А эта нет.
— Успокойся, Наташа. Пойдем покурим.
— Пойдемте.
Наташа подошла к своей тумбочке у окна, чтобы взять сигареты, и вдруг схватила меня за руку:
— Смотрите, смотрите, это же Витька!
Ночь была снежная, светлая. Под фонарем мирно, как днем, действительно прогуливался Витька, милый Витька!
...Как выяснилось утром из записки, он встречал Новый год под Наташкиным больничным окном. Только она об этом и не подозревала.
* * *
Вначале в больнице мне был немил белый свет. Глаза ни на кого не смотрели, хотелось молча лежать, отвернувшись к стене, только чтоб никого не видеть и не слышать
Но больничная жизнь шла своим чередом. Нянечка по утрам разносила тяжелым больным воду для умывания — и надо было умыться и почистить зубы. А потом приносили завтрак, и, чтобы избежать лишних разговоров, приходилось съесть ложку-две каши. А потом был врачебный обход, и — хочешь не хочешь — ты отвечаешь врачам на вопросы.
И так день за днем, день за днем, и ты втягиваешься в больничные будни. Начинаешь читать и знакомиться с людьми. И тебе уже не представляется все в том первоначальном мрачном свете.
А потом с каждым часом, с каждым днем становится все легче и легче. А потом ты начинаешь ходить... И постепенно возвращается обычное ощущение жизни с умением радоваться, мечтать, верить в чудеса.
Мы все знаем, что не вечны, но в повседневной суете мало думаем об этом. У нас просто нет на это времени. А в больнице это время есть. Его слишком много. И кроме того, в больнице все это обнаженнее, все как бы очищено от «примесей».
«Жизнь — Смерть».
«Сегодня — Завтра».
Будет ли у тебя это «завтра»?
Пока уверенности нет, что это «завтра» у тебя будет, все постыло. А когда уже твердо знаешь, что оно будет, это «завтра», ты начинаешь заново переосмысливать всю свою жизнь. Начинаешь понимать, как много делал ошибок, как мало ценил счастливые дни.
Здесь, в больнице, ты как бы родился заново, тебе подарена вторая жизнь. Ее надо пролить лучше, мудрее той, прежней.
Обо всем этом я теперь часто думала, потому что день выписки был уже совсем близок.
Только бы, выйдя из больницы, не потерять этого ощущения новизны второй «подаренной» мне жизни, только бы подольше сохранить его... (Наверно, все дают себе такие обещания, но все ли их выполняют?)
Неужели я снова, как и прежде, буду печалиться по пустякам? И неужели не научилась радоваться даже самой малой радости?!
Нет, теперь все будет иначе, совсем иначе!
И кто знает, что заготовила мне Судьба в этой моей новой, «второй» жизни? Может, меня ждет еще настоящее, большое счастье?
С нежностью вспоминала я свою однокомнатную квартирку на Гранитной улице, где я теперь жила. Здесь, в больнице, она представлялась мне раем, хотя раньше я поругивала ее: и потолки низкие, и автобусы ходят редко... Сейчас мне смешны были все эти недовольства. Я думала только о том, сколько в ней света, неба в окнах, как пышно цветет весной под моим балконом низенькая, но раскидистая бело-розовая яблонька. А накануне того дня, что я попала в больницу, мне поставили телефон. Это было давней мечтой, и она наконец осуществилась. Но я не успела никому из друзей сообщить свой номер. И потому мне никто не позвонил. Я еще не знала «голоса» своего телефона.
Теперь мне предстояла эта радость.
...В оставшиеся до выписки часы я все чаще и чаще вспоминала свою молодость. Как непохожа была моя голодная военная юность на Наташину цветущую, легкую, счастливую! Как непохожи нарядные платья нынешних девочек, их брючные костюмы, лакированные и замшевые туфельки, в которых они запросто шлепают по лужам (ведь дома осталась еще не одна пара), их шубки, дорогие сапожки — как все это непохоже на предел наших тогдашних мечтаний — ватник, ушанку, толстые чулки, кирзовые сапоги и хоть какие-нибудь прохудившиеся валенки!
Нынешние девочки образованнее нас, они знают языки, точные науки (может, я ошибаюсь, но мне кажется, что раньше было меньше девушек в технических вузах и техникумах). Они ироничны, остры на язык, свободно, иногда слишком свободно, держатся и друг с другом и со старшими.
Как непохожа их юность на нашу и вместе с тем... как похожа! Да, да, похожа. Они так же ищут и познают и себя, и своих любимых, и смысл жизни... Ищут, ошибаются, находят, обретают. Любят, ревнуют, страдают. Внешне всё иначе, а суть та же.
Но нет! Разница есть. И еще какая! Их любимые — рядом, в безопасности, над ними чистое небо. А наши воевали. Даже, те, кого по возрасту не брали на войну («молод еще, подожди годик»), рвались на фронт, обивая пороги райкомов комсомола и военкоматов. Просили, умоляли, уговаривали... По официальным статистическим данным, опубликованным в печати, из мальчиков нашего поколения вернулось с войны всего три процента. Только три процента!! А девяносто семь... Сколько девушек не дождались своих суженых, не познали женского счастья. Или вот так, как я, — встретила любимого и потеряла его.
* * *
Приходя по утрам в клинику, Самедов шел по коридору в черном костюме, еще без халата. Верхняя половина двери в ординаторскую была стеклянной, и через полупрозрачную шелковую занавеску был отчетливо виден его силуэт. Видно, как он снимал пиджак и вешал его в шкаф, как надевал белый халат и завязывал поясок, как натягивал на голову белую шапочку-колпак. И после этого выходил уже совсем «свой», такой, каким мы привыкли всегда его видеть.
— Вы заметили, что с той ночи у елки Самедов заходит в нашу палату чаще, чем раньше? — спросила меня как-то Наташа.
— Возможно.
— И что при этом каждый раз снимает свою шапочку, потому что у него красивые волосы. На это вы обратили внимание?
— Не исключено.
— Может, вы скажете, что это он все для меня старается?
— А почему же и нет?
— Потому что вы прекрасно знаете, для кого. Вы тогда совсем его покорили. И еще я заметила, что и вы тоже...
— Наташка, перестань!
— Юпитер, вы сердитесь, значит, я права.
...Накануне дня моей выписки из больницы дежурил Самедов. Увидев вечером меня в коридоре, он сказал:
— Зайдите ко мне, — и кивнул на дверь ординаторской.
Мы вошли.
— Вас можно поздравить, — сказал он, подвинув мне стул и садясь сам. — Завтра будете дома.
— Да, спасибо! — счастливо проговорила я. — Наконец-то!
Он вынул из стопки папок мою «историю болезни» и стал просматривать ее, листая страницы.
— У вас интересная профессия, — сказал он неожиданно. — То, что вы тогда рассказывали о своих поездках по стране...
— А у вас разве профессия менее интересная? — спросила я.
— Лучшая в мире. — Он улыбнулся. — Но... по-другому. Когда-нибудь объясню. — И замолчал. И снова стал перелистывать страницы, точно забыв о моем присутствии.
«Когда-нибудь объясню...»
Что это значит? Это ведь значит, что мы еще увидимся с ним, встретимся там, за пределами этих больничных стен, там, в «мирной» жизни.
Задумавшись, он стал обводить авторучкой номер моего телефона, записанный на обложке «истории болезни».
И мне вдруг показалось, что он запомнит этот номер. И позвонит мне.
В ординаторскую заглянула дежурная медсестра и позвала его к больному.
— Не прощаюсь с вами, — сказал он. — Завтра еще увидимся.
Но утром я его не видела: паспорт и справку принесли мне рано, он еще был на обходе.
Я не стала ждать, когда он освободится. Я верила, что он позвонит мне. И кто знает, может, это случится даже сегодня?! Именно потому, что мы не простились.
* * *
Я — дома.
Не успела я переступить своего порога, как раздался звонок в дверь. Это оказалась моя верхняя соседка Ольга Александровна. (Она с мужем живет в такой же квартире, как моя, но этажом выше, надо мной.)
Мы обнялись, расцеловались.
— Почему же вы не позвонили, не сообщили, что выписываетесь?! — упрекнула она меня. — Мы бы заехали за вами!
— Я никому из друзей не сообщила. Зачем доставлять людям лишние хлопоты? Я прекрасно себя чувствую и великолепно доехала сама.
— Это Володя увидел, как вы выходили из такси. Но он постеснялся к вам сейчас спуститься. Говорит: «Пусть она отдохнет с дороги, чего человеку мешать?» А я не выдержала и побежала.
— И правильно сделали. Спасибо.
— Теперь так. Я сейчас иду в магазин. Говорите, что купить. А обедать будете с нами. Сегодня могу, сюда обед принести, а завтра уже с нами, — командовала Ольга Александровна. — Вам несколько дней, наверно, не стоит выходить. Надо акклиматизироваться.
— Что?! Несколько дней?! Только сегодня побуду дома. А с завтрашнего дня... Я ведь так соскучилась по людям, домам, улицам, троллейбусам!
— Могу себе представить! Столько времени... Ну, я пошла.
— А я пока буду приводить в порядок себя и квартиру.
— Очень хорошо! — одобрила соседка, уходя.
Я огляделась. Вот, оказывается, как выглядит рай! В нем, оказывается, может быть душно и пахнуть нежилым помещением. И все равно рай, рай!
Скорее открыть балконную дверь настежь! Ах, какой сладкий морозный воздух ринулся в комнату! Как хорошо...
И еще, оказывается, бывает рай, требующий «косметического» ремонта. Давно пора бы сделать его, да все руки не доходили. Обои сильно выцвели, а над батареей парового отопления отстали от стены и покоробились. И потолки надо снова белить, — ведь в этом доме живу уже четвертый год. Сегодня же позвоню в ателье, чтобы как можно скорее сделали мне ремонт.
...Вот книги, любимые книги. А вот эти старые журналы — разрозненные. Все собиралась выбросить их, да как-то рука не поднималась. А надо бы, чтоб места зря не занимали. Ведь никогда не буду перечитывать их. А впрочем... В общем, надо их пересмотреть и от ненужных все-таки избавиться. А вот это — ноты. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила». Я ведь не пою и не играю. Да у меня нет сейчас ни рояля, ни пианино. Но эти оперы я храню. Это память об отце. Эти оперы чудом уцелели в войну, и, когда я вернулась из эвакуации, мне их отдали вместе с еще одной вещью — картиной неизвестного художника, на которой изображен мальчик, пасущий стадо ночью, вернее, когда уже чуть-чуть занимается утренняя заря. Мальчик смотрит на тлеющие угли костра, греется возле него. Лицо у мальчика задумчивое, мечтательное. Кем стал он, когда вырос? Может, сочиняет стихи, глядя на потухающий костер? Картина называется «Ночное». Она висела когда-то над диваном, где спал отец. Теперь висит над моим. Сейчас она облупленная в нескольких местах, а возле костра дырка от осколка блокадного снаряда.
Я хожу по комнате, дотрагиваюсь до вещей — до стульев, до кресла, до письменного стола, до торшера, как будто хочу убедиться, что все это не снится мне, что я действительно дома.
На полу возле дивана стоит новенький телефон. Его я поглаживаю особенно ласково. (Он стоит пока что на полу, потому что я еще не успела найти подставки для него.)
Потом иду в ванную комнату. Какое наслаждение принять ванну дома, а не в больнице!
Сначала горячая вода идет черно-рыжая — долго никто не пользовался ею, не открывал кранов. А потом пошла чистая, родниково-прозрачная.
Пока я мылась и убирала квартиру, Ольга Александровна успела сбегать в магазин, и мы обедали с ней на залитой солнцем кухоньке. Потом Ольга Александровна сказала:
— Ну, теперь отдыхайте. Я вас сегодня уже беспокоить не буду.
— Это вы-то меня беспокоите?!
— Жаль, что у нас телефоны сблокированные, — весело проговорила она. — Не можем звонить друг другу. Будем, как раньше, перестукиваться по трубе отопления.
Она ушла, и я осталась одна. Все поглядывала на телефон. Как хотелось мне, чтоб он зазвонил и чтоб в трубке я услышала голос Самедова! Ведь после дежурства он уйдет из клиники рано.
Время шло, а телефон молчал. Но я даже была рада этому. Само ожидание было приятным.
Небо за окнами, сначала такое синее, стало густеть, темнеть — зимний день короток. А снег из розового постепенно становился голубым.
Я не зажигала света. Мне и так было хорошо.
Потом я стала думать о женщинах, с которыми познакомилась и подружилась в больнице, об их жизни, об их судьбах. Чтобы не потерять их телефоны и адреса, нацарапанные на бумажных лоскутках, переписала все это в записную книжку. Так будет вернее.
Не знаю, как с другими, а с Наташей мне не хотелось бы потерять связь, — несмотря на разницу в возрасте (я немногим моложе ее матери), мы с ней по-настоящему подружились. Вообще, провожали меня все очень тепло, а Татьяна уговаривала всех нас приехать к ней летом в Максатиху. Уж так она ее расхваливала, так расхваливала: и красиво-то там, и молоко парное, и яйца из-под своих кур, и огурчики в пупырышках, колючие, со своих грядок...
Темнело все больше и больше.
Наступил вечер.
Я понимала, что Самедов уже не позвонит. Ни сегодня, ни в другой день. Мало ли что он сказал: «Объясню когда-нибудь». Сказал не подумав. А я-то размечталась...
Я прилегла на диван не раздеваясь и задремала. Меня разбудил резкий звонок. Очнувшись, в первую секунду не поняла, где я и что это за звонок. Но тут же вспомнила, что я дома. А звонит это мой новенький телефон. В первый раз. Я ведь еще не знала его «голоса».
Я протянула к нему руку и в темноте нащупала трубку.
Взволнованный мужской голос говорил:
— Алло, алло! Вы меня слышите?
— Слышу.
— Скажите еще раз, что это правда...
— Что именно? — не поняла я.
— Повторите все слово в слово. А то до сих пор не могу поверить. То есть нет, верю, конечно. Но... я хочу еще раз услышать. В общем, вы всё понимаете.
— Я ничего не понимаю, — сказала я.
— Я с аэродрома, — продолжал он. — Сейчас улетает мой самолет. Но не мог не позвонить. Я вернусь. Очень скоро вернусь. Не могу дождаться встречи. Мне необходимо вас видеть. Для меня нет сейчас ничего важнее этого.
Я слушала, не перебивая, хотя уже поняла, что это голос не Самедова, что все эти слова говорит вовсе не он и предназначаются они вовсе не мне. Кто-то ошибся номером — только и всего.
Но слова-то эти существовали. Их кто-то говорил. И кто-то должен был услышать. И это было прекрасно. И это значило, что каждый имеет право на такие слова. Каждый может дождаться их. Нужно только уметь ждать.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





