ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


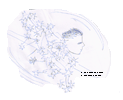
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
(Монолог матери)
Непонятное
чувство тревоги возникает всякий раз,
как прихожу сюда одна. Если с кем-то —
все в порядке, но одна... И прихожу-то,
чтобы отдохнуть, расслабиться, прийти
в себя среди зеленого травянистого мира
— еще не застроенного болота среди
твердых и прямых городских кварталов.
Здесь хорошо... Небольшой кусок живой
земли, а как просторно, сколько неба —
как над чистым полем. И — свежо:
травянистая, зыбкая, влажная почва. Это
не то что парки, где все урегулировано
человеком, дорожки покрыты асфальтом,
а трава, цветы, деревья растут по его
воле, благодаря его трудам.
К этому
болоту человек, конечно, тоже приложил
руки: там и там среди кустов разбросаны
озера, озерки неправильной формы,—
видно, что их отрыли наспех: обрывистые,
рваные берега. Озерца, приняв в себя
воду, подсушили болото. Чистая коричневая
— торфяная — вода наполнила их к радости
окрестных жителей — мальчишек. Да и
взрослых: тоже сидят с удочками или
купаются.
По тропам, вьющимся между
озер и кустов — густущие тальники! —
можно ходить вдоль и поперек. И тропы
эти — самые болотные: упругие, мягко
пружинят под ногой. Во всем остальном
сохранило это место свой дикий облик.
И растет, цветет, зеленеет, поет, выводит
птенцов, квакает и крякает само по себе,
невзирая на механический голос города:
рев машин, звуки музыки, скрежет
строймеханизмов,— ведь стройплощадки
охватили его сплошным кольцом. И кольцо
это сжимается все теснее...
Может, как
раз от этого и томит сердце беспокойство,
не дает бездумно окунуться в пока еще
существующий мир птах, лягушек, мальчишек.
Они-то живут тем, что есть сию минуту...
Казань — мой родной город, я бываю
здесь каждый год. А болото поблизости
от родного дома. Собираемся глять: куда
пойдем? На болото, конечно!
Вообще-то
оно называется у нас «Балото»,— так
подписала свою картину, изображавшую
зеленые кочки, на которых сидят пучеглазые
улыбающиеся лягушки, моя племянница,
будучи еще неграмотной дошкольницей.
Этих «балотных» пейзажей было у нее
предостаточно. Служило болото студией.
Думаю, не ей одной. У самого начала
болота, сразу за улицей Короленко, где
пересекает ее улица Восстания, выстроен
детский городок [Пока готовилась к
изданию эта книга, не стало уже ни
детского городка, ни самого болота: все
покрыл твердый панцирь города]: качели
в виде пингвинов, всякие горки, домишки,
воротца. И «Балото» щедро овевает
ребятишек воздухом мягким, настоянном
на траве и тальниках, напоенном кислородом
их дыхания.
Мимо ребячьего городка
по левому краю болота тянется невысокая
насыпь над теплотрассой, несущей тепло
в новый квартал № 39. Окрестные жители
используют насыпь как пешеходную тропу
между улицей Короленко и новым кварталом.
Солнце встает за шпалерами домов
этого квартала, похожими издали на
плоский задник театральной декорации.
Солнце бьет прямо в лицо идущему туда,
пронизывает белый туманец, витающий
над болотом, и он светится тепло, матово,
то более плотный, то совсем легкий,
сквозистый.
Трава вспыхивает искрами,
вся в росе. А трава тут удивительная —
густая, обильная, мягкая на торфянистой
почве, подпитанной близкой водой. И
много цветов. На склоне насыпи появляются
самые первые. Болото еще не совсем
оттаяло, а мать-мачеха тут как тут,
приводя в восторг ребятишек: там лед и
снег, а тут цветы!
Раннее утро — время
птиц. Мелких птах полны кусты. Они звенят
неустанно в какой-то напряженной радости.
Кажется, им бы хотелось еще звонче, еще
веселее, но всё — они на пределе сил!
Потом прибегут мальчишки. Возраст
болотных мальчишек в основном их составе
— от семи до четырнадцати лет. Их стайки
с удочками и без удочек населяют берега
озерцов и озер. К середине лета вода в
мелких местах зацветает. Однако более
крупные озера все лето стоят чистыми,
темнея как хорошо заваренный чай. И
впрямь — заварена, настояна вода на
миллионах тонн отживших растений,
настаивалась тут, когда еще и старой
Казани в помине не было.
Ни разу не
видела я, чтобы кто-то из рыболовов
вытащил хоть одну рыбку, но сидят они
упорно, загорая и выгорая на солнце и
рассказывая друг другу, как такой-то и
такой-то выудил здесь карася или бычка...
Очень мне нравится этот народец. И я
радуюсь, что есть у них это «болото».
Знаю, как в этом возрасте жаждет тайн и
приключений мальчишечья душа. А для
этих тайны и открытия детства будут
связаны с настоящей природой: с зеленым
лабиринтом кустов и озерок, с жутковатой
тишиной поздних вечеров, с тайными
убежищами среди тальников под непроницаемо
пышной шапкой листвы...
Как таинственен
и нежен след на темной воде, тянущийся
широко расходящимся лучом за треугольной
мордочкой плывущей водяной крысы... Если
мальчишка один, без своей стаи, не
охотничий азарт пробудит в нем плывущий
зверек: может быть, в нем раскроет глаза
поэт. Хоть на миг. Но пусть на миг: он
останется в нем на всю жизнь непонятным
ему самому волнением, томящим вопросом:
отчего все вокруг так, а не иначе? Что
происходит? Чем связаны с ним эта
спокойная бездна воды (под обрывчиком
и вовсе — тьма), и зеленые — зеркальные
— отражения кустов, сходящихся вершинами
в середине озерка, слегка искаженные,
чуть колеблемые следом плывущего
существа? И тишина — вокруг и в нем
самом? Что все это значит? И войдет в
маленького человека тайна природы,
тайна его самого. И, может, память об
этих минутах (или часе), когда ему не
хотелось ловить, гнать, кидать,
преследовать,— хотя вон он, зверек,—
вполне можно докинуть палкой до его
головы,— эта память и потом будет
оберегать в нем человека: ибо он изведал,
что сам слит с живым миром, который вне
его, вовсе не он, и в то же время как бы
и он, его продолжение...
...Девушки с
учебниками или просто с книгой не
удаляются далеко от пешеходной тропы,
располагаясь ввиду ее, на берегу
ближайшего озерка. И тут хорошо, и тут
трава — упругим и свежим ковром и
прохлада в тени тальника. А прохожие,
идущие мимо, как личная охрана для
соблазнительно одинокой, расположившейся
с книгой. Она не снимает легкой маечки,
называемой ныне «топ», только юбку
скинула, подставив солнцу уж и без того
загорелые ноги. Облокотившись на руку,
свободно вытянувшись полулежа, она
читает, и ее фигурка над книгой, такая
человечески одухотворенная, придает
законченность, придает смысл диковатому
пейзажу.
Диковатому... Только оглянись:
вот он — город. Год за годом съеживается
болото, как шагреневая кожа. Хиреют его
озерца, те, что лежат по линии фронта
город — болото. Канавы и мелкие лужи —
они тянутся слева между насыпью и домами
— все щедрее полнятся всяким хламом:
жестянками, банками, разбитыми салазками,
колесами и рамами детских велосипедов,
дырявыми тазами и горшками, какой-то
ржавой жестью, пружинами, тоже ярко-охряными
от ржавчины. Тут и тряпье, и размокшие
картонные коробки, и газеты... Следы
материальной культуры человечества XX
века.
Вода смягчает убожество всей
этой отслужившей дребедени: легко дрожит
от ветерка ее поверхность, и то, что под
водой, будто пошевеливается, играет,
посверкивает — живет! Вода, солнце,
ветер давали новую жизнь умершим
человеческим предметам, окончательно
отнимая их у прежнего обихода, сближали
с самой природой, возвращали отнятое у
нее когда-то, вписывали в пейзаж...
Присваивали...
Здесь начиналось
обратное движение: мира природы на мир
человека. Зона дикой природы, окруженная
стальным и железобетонным городом,
таила в себе возможность наступления.
Вот как это будет,— предсказал мне образ
рухляди, присвоенной водой, самой алчной
из природных сил, текучей, всюду
проникающей, быстрее всего уничтожающей
следы человека...
Вот он откуда —
древний сказочный символ воскресения
— вода мертвая и живая... Это просто
вода... Совсем не две разных субстанции,
одна мертвая, другая живая,— она одна
и та же, обычная, вездесущая... Пошевеливает
ржавчину, оплетает железо водорослями,
играет под ветерком, растворяет в себе:
создает новую среду, новое питание для
новой жизни... Воскрешает.
Ранним
июньским утром воскресного дня, когда
стрелы окружающих болото кранов праздно
застыли на фоне безмятежного неба, и ни
одной человеческой фигурки не маячило
на пешеходной тропе, несомненно живым
и торжествующим — зеленым, искристым,
полным голосов птиц и насекомых,— было
оно, болото, а вовсе не анемично-бледный
рисованный задник городского квартала
впереди.
Явственно ощущалась
неостановимая работа единственно
существующего в природе вечного двигателя
— самой природы. Остановись человек, и
она спокойно, неторопливо и безмятежно
уподобит себе и эти краны, и этот кирпич,
из которого сложено жилье людей.
Мне
уже приходилось видеть кирпич, бывший
зданием, а ставший землей, одним из ее
зеленых пригорков.
Пригорок — как
пригорок на окраине села Дрожжино в
Смоленской области. Березки по нему уже
большенькие, рядом подрастают поменьше
— этакая веселая семейка, трава пестрит
кашкой да ромашкой. А оказалось, пригорок
этот — бывшая церковь. Отступая, взорвали
ее фашисты.
Только когда сказали мне
об этом, увидела, что и впрямь странный
пригорок: кругом ровно, если холмы, так
покатые, плавные, вырастают из низинок,
как волны. А этот шишаком торчит, крутой,
но вокруг него холмики поменьше — вроде
могилок, они-то и маскируют внезапность
горушки на ровном месте.
С одной
стороны горушки, у подножия, заметила
обрывчик, небольшой такой, развела траву
руками и вот он — кирпич: выглядывает
угол кладки из сырой земли... А я-то
думала, почему это Дрожжино селом
величается, когда в нем церкви нет.
Оказалось, есть: под землей.
И еще от
войны память селу осталась: дикие яблони
над полувысохшим прудом. «Надо бы
почистить,— говорят о нем дрожжинцы,—
да боязно. Шут его знает, чего туда немцы
побросали...» Мин боятся. До сих пор.
И
яблони остались дикими из-за войны: не
успели саженцы привить, окультурить.
Фашисты нагрянули. Так и прибавились
дикие яблони к дикой природе. А еще —
сколько-то леса. Это сейчас лес, а до
войны тут пашня была.
Да, стоит
остановиться человеку... А что его
останавливает, это нам куда как хорошо
известно... Всем нам, не одним смоленским.
Вот почему,— поняла я в то солнечное
воскресное утро на средиградском болоте,
когда показалось оно сильнее города,—
вот почему и вот откуда рождается
тревога, сжимающая сердце предчувствием:
здесь видно, как будет, если что...
Тем
временем что-то привлекло мое внимание
справа, какое-то движение на густо-травяном
перешейке между озерцами. Пригляделась:
трогательно-неуклюже пробиралось сквозь
траву семейство утят. Мать утка то и
дело оглядывалась на них, покрякивала
озабоченно. То один, то другой брат-утенок
тюкался носом и грудкой в землю,
переваливая через невидимые кочки. Но
вот сошли на воду, и маленькая флотилия
заскользила по ее глади уверенно и
сцокойно, по-хозяйски. Слабая хрупкая
живая частичка болота. Такая же хрупкая,
как любое растение, пьющее сейчас
солнечный свет. Бесчисленное множество
стеблей, листьев, корней, копящих
незаметно тук своего тельца из воздуха,
почвы, воды, солнца, становясь в свою
очередь землей, прибавляя к ее плоти.
Потому и болото жалко. Сомкнутся
асфальтовые берега и — его словно не
было... Вон, наступая от улицы Короленко,
встало на воскресный отдых чудище —
гусеничный экскаватор. Клешня с зубастой
пастью ковша ткнулась в развороченную
землю, черную, влажную, пронизанную
множеством корешков и корней, беловатых,
словно нервы. Меж зубьев чудища торчит
вверх тормашками кустик череды.
Чуть
дальше от экскаватора — скрепер. Перед
его ножом, как баррикада — вал из земли
и перемешанных с нею кустов. Но баррикаду
возвел он сам, скрепер, срезая и толкая
перед собой поверхностный слой болотной
почвы: вместе с экскаватором он отвоевывает
у болота площадку под новый дом. За ними
уже желтеет участок отсыпанной песком
ровной поверхности.
Но почему, думаю
я, жалко именно болото? Никогда не
вызывали у меня такого чувства обычные
стройки на твердой земле, на окраинах
городов. Наверное, потому, что болото —
более одушевленная плоть земли. Не это
конкретное, а болото вообще. Как зеленый
еще не задеревеневший побег на ветке.
Зыбко, влажно, травянисто... Слишком
близки здесь друг другу земля и вода;
растения подводные и сухопутные; жизнь
растительная и теплокровная. И болотные
насекомые половину жизни проводят в
воде, а половину — на воздухе.
Еще и
потому, думаю, бередит болото и чувства
и разум, что видишь в нем прообраз начала
мира: «хвощи, плауны, папоротники...» —
вспоминается школьный учебник. Первичная
твердь и всяческая плоть вышли из
болота... А теперь оно пугает мыслью о
конце мира...
Так чего же тебе надо? —
спрашивала я себя.— Жалко тебе город,
жалко и болото...
Ответ пришел на том
же болоте. Копилось понимание постепенно,
а пришло вдруг. Благодаря тем замеревшим
без человека чудищам — экскаватору и
скреперу: мне надо, чтобы человек стал
сильнее своей силы. Вот что!
И — дальше
пошло... Что там экскаватор и скрепер,
мирная скотинка перед лицом — да каким
там лицом — осколком смертным! — и
«чистого», и «грязного» оружия,
накопленного испуганным до безумия
человечеством. Если не превозмочь
собственного могущества человеку, такая
вот невинная зона дикой природы, болото
ли, пустыня ли, разрастется и не зоной
станет, а всем миром.
И удивилась я
себе: да-а, думала, уж если мирному и
никак не воинственному человеку, женщине,
матери двух сыновей, мерещится возможность
встречного движения болота на город,
да еще в такое ясное мирное утро июньского
воскресенья, куда дальше-то... Вот так,
значит,— поняла я, — впиявилась в тебя
угроза этой возможности — земля без
человека... Но стоп! Может, все и дело-то
в июньском воскресенье: и, не думая,
помнишь его обман 22 июня того далекого
сорок первого года...
А болото... Ничем
оно не грозит, если кругом люди. И не
может грозить. И даже наоборот: само по
себе может оно сослужить пользу людям
(оставаясь собой), оставаясь живым
кусочком природы за каменной пазухой
города, а не только как одна из его
стройплощадок.
Уж раз так получилось,
что оказались внутри города и это болото
в Казани, или в Москве в ее Тушинском
районе,— кусок поймы реки Сходни с лугом
и болотом, или есть такое явление,
кажется, в Омске. Сама там не была, не
видела, но читала. И обрадовалась: ведь
там, в Омске, это не стихийно случилось,
а по воле людей. Так же, как и в Казани,
сближались в стройке две части города,
наступая на болото. И люди решили оставить
его часть в неприкосновенности. Город
обошел, обтек болото, укротив своё
могущество себе же на пользу.
Перелетные
птицы без страха летят над городскими
кварталами на свои привычные гнездовья.
Живет не тужит и другая живность.
Соседствуют, не нанося друг другу обид,
такие, казалось бы, несовместимые среды,
как современный индустриальный город
и дикое болото. А ученые-биологи приходят
сюда как в естественную свою лабораторию,
ведут наблюдения...
Обнадеживает этот
пример и опыт. Мне кажется (я думаю,
надеюсь, мне хочется!), что архитекторы
в недалеком будущем будут специально
планировать такие зоны нетронутой
природы в новых городах или в новых
районах старых. Мне кажется, они необходимы
для душевного здоровья горожан не
меньше, чем для физического. О физическом
что и говорить: такая зона, как распахнутое
окно, впускающее в дом свежий воздух.
Прежде всего думаешь о детях... Велика
плотность застройки современных городов.
Пространство между многоэтажными домами
сведено до минимума. А растущему человеку
нужен простор, чтобы разлететься,
разбежаться и при этом не влететь в
чье-то окно.
Свободное, не организованное
как стадион или хоккейная коробка,
пространство нужно для нормального
роста детской души, ибо это почва для
фантазии, воображения, творчества в
играх. Прямые линии и углы спортплощадок,
жестко-определенные правила спортивных
игр оставляют невостребованными
многочисленные возможности растущего
человека, не оставляя места для тайны.
Тайна — значит, вопросы, размышления,
открытия... А прямая линия изгоняет
тайну... «Прямая линия — это след человека.
У природы нет прямых линий». Давно
поразил меня этим открытием М. Пришвин.
В самом деле: изгибы, извивы, изломы,
закругления, петли — укромность, тайна,—
вот лик природы. Разглядывая его, человек
и стал человеком. Город же — сплошь
прямая линия.
Сегодня, когда все больше
людей вырастает в больших городах, зоны
неурегулированной природы помогут им
стать человечески богаче. Помогут, может
быть, даже понять и полюбить ее живой
мир ненасильственной любовью друга.
Может, кто-нибудь скажет, что полюбить
природу ребята могут и в деревне, летом
на каникулах. Но ведь далеко не у всех
есть «своя» деревня, а главное, в деревне
ты — гость, в ее лесу, полях — тоже. Тебя
туда увезут. А здесь — это продолжение
твоей улицы, двора школы. Никакое
гостевание не заменит собственной
территории, твоего жизненного пространства,
которое станет частью тебя самого.
Городским мальчишкам малый мир
нетронутой природы необходим как
прививка против жестокости. Пусть
поможет он им открыть в себе чуткость
к живому, отдельно существующему, лично
тебе не принадлежащему и в то же время
необходимому тебе. Это потруднее, чем
любить собственную кошку или собаку,
или там канарейку. Любить и оберегать
свое — тут особого благородства не
надо.
А вот малый, ничейный мир луга
с речкой, болота с озерками, когда он
беззащитен не то что перед бульдозером,
а и перед голой мальчишеской рукой, этот
мир внятно говорит, как он нуждается в
защите. И учит этому понятней загородных
лесов и обширных пространств «большой»
природы. Тут, куда прибегаешь чуть ли
не каждый день, любая брошенная бумажка
на виду, каждое новое кострище глаза
колет, а заломанный куст кричит: на
одного меньше стало!
Только на школьных
уроках, только книгами экологическое
чувство не воспитать. Как всякое чувство
оно вырастает из конкретной потребности.
Чувство нужно пережить, не иначе. Только
тогда заговорят и школьные уроки, иначе
будут прочитаны книги.
Так и научатся
дети-горожане вести себя среди природы
по-человечески. Конечно, не без помощи
и примера взрослых.
...Видела однажды
в Тимирязевском лесопарке, как папа с
пятилетним сыном чистили лес: накалывали
на гвоздь, вбитый в конец палки, бумажки,
разбросанные между деревьями, и сносили
в костерок, разложенный на дорожке.
Именно на дорожке, чтоб не повредить
живую почву.
Могу поделиться радостью
и за наши Петровские горки, за луг и
болото при Сходне (Тушинский район
Москвы). Живем мы здесь четырнадцать
лет — срок не малый, и за это время чище
и богаче стала пойма, хоть вокруг —
многолюдье, и сколько мальчишек топтали
здесь траву и тропки, вобрав в свое
детство ее зеленый мир.
Когда мы только
поселились здесь, на речке не было уток.
А в последние годы их тут целые стаи.
Весной над едва оттаявшим болотом
вьются, крича, и выписывают фигуры
высшего пилотажа чайки. Свадьбы, что
ли, играют, гнездовья ли выбирают.
И
рыбы, кажется, прибавилось в Сходне.
Хоть соответственно — и рыболовов.
А
однажды поздним вечером из круглого
шатра гигантских ветел, что притеняют
речку по тому берегу, вырвалась огромная
и, как нам с сыном показалось, мягкая
птица и бесшумно и низко пронеслась
мимо нас. Мы узнали сову. Правда, больше
мы ее не видели.
Трав здесь — настоящий
заповедник. Ведь часть поймы — сухой
луг, часть — сырой, подволоченный, а его
середина — и вовсе болото. Так что травы
и цветы самые разные: от осоки до осота.
И с каждым годом замечаю прибавление
новых видов: и незнакомых, и знакомых,
таких, как зверобой. Льщу себя надеждой,
что зверобою сама помогла: разбросала
как-то пригоршню размятых его коробочек,
принесенных из лесу, и вот — появился
он на нашем лугу.
А что творится с
южным крутым склоном пойменного берега,
когда зацветает каждая былинка, каждая
бурьянина! Как перепутались с темной
здоровой зеленью желто-розово-бело-фиолетовые
краски цветов, сколько в этом изобилии
силы и ярости жизни.
Смотришь на свежую
сверкающую путаницу трав и цветов и,
кажется, утоляешь некий голод, о котором
не подозревала, а ведь он мучил тебя.
Глаз насыщается и душа воспаряет.
Глянешь в противоположную сторону —
иная картина: далеко убегает взгляд,
вбирая разом весь приречный луг, петли
Сходни, повторенные округлой грядой
ветел над нею, и туманную перспективу
огромного города — до самого горизонта.
Глядишь и не наглядишься — какой
простор...
Можно вообразить себе, как
по светлому лугу там и сям поднимались
темно-курчавые обширные кроны столетних
дубов. Так здесь было, говорят старожилы,
еще в начале 30-х годов. Говорят, тогда и
луг был суше. Наверное, дубы-великаны
хорошо тянули воду из почвы, а воду
постоянно несут на луг к реке родники,
сочащиеся из пойменной кручи. Когда и
почему пропали дубы, никто не мог мне
сказать.
Сегодня во всей округе знаю
один дубок, не выше картофельного куста.
Он и растет на картофельном огороде,
одном из тех, что расположились на
небольших террасах и пологих местах
склона. Хозяева огородика любовно
сберегают дубок, окапывают его. И за те
десять лет, что знаю его, вырос он из
тоненького, не толще карандаша, побега
в крепкий кряжистый кустик о двух
стволиках в упругих веточках. Летом его
почти не видно, а уберут картошку, и вот
он — в осенней розово-латунной листве.
На самом лугу дубков не видно, но
березок и осинок немало поднялось. Не
помешают им люди — и появится тенистая
рощица, еще краше станет луг при речке
среди города.
Подумалось: если в
будущем такие природные заповедники
придут в большие города, районы будут
соревноваться: у кого богаче, чище,
интересней эти зоны. У кого цветистей
луга, веселее птицы, доверчивей живущие
тут зверьки.
А самыми верными рыцарями
живой земли в асфальтовом море города
должны быть мальчишки.
Пусть растут,
умея распорядиться собой и всем, что
вокруг, для добра: предпочитая сберечь,
а не разрушить.
И пусть останется
дерево несрубленным. Луг — цветущим.
Река и море незамутненными. Как совесть
человека, умеющего стать сильнее
собственной силы.
1985, сентябрь
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
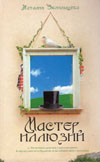
рекомендуем читать:





