ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


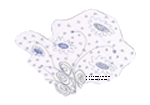
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Хаимова Инна

Моей бабушке и Н. К. Белоручевой
посвящается
С твоей любовью, с памятью о ней
всех королей на свете я сильней.
Из сонета В. Шекспира
1
ФРОСЯ И СИМКА
- Машина неслась по едва освещенному шоссе. Было время года, когда дорогу то засевал моросящий дождь, то покрывали крупные хлопья первого снега, набрякшие от осенней влаги. Женщина за рулем не обращала внимания на погоду, все силь нее жала на газ, и ветер, жалобно взвывая, отлетал от борта машины. Рядом сидел мужчина и лениво крутил ручку приемника в надежде поймать какую-нибудь мелодию.
- — Выключи, — резко произнесла она. И тут же, словно испугавшись, уже сказала извиняющимся тоном: — Надоела эта трескотня.
- — Не гони так,— откликнулся тот миролюбиво, мягко положил руку ей на плечо и начал ласково перебирать пряди ее каштановых волос.
- Она поежилась, нервно передернула плечами, искоса глянула на мужчину. Он перехватил ее взгляд, и оба ощутили фальшь — и ее смягчившегося голоса, и его прикосновений. А женщина хорошо помнила руки мужа — ничто не выдавало его чувств так, как они.
- Он появился на свет через год после войны, когда имя Иван, произносимое во всем мире, на всех языках, стало и у себя на родине снова красивым, желанным. Его так и назвали — Иваном.
- Сейчас ей сорок. Они прожили вместе восемь лет.
- Когда же он появился в ее жизни? Цветовые ощущения этой встречи сохранились у нее в памяти. Солнце, прижавшееся к горизонту, окрашивало предвечерними лучами в оранжево-красный колер листву деревьев напротив окна ее комнаты. Она так и запомнила: он и багряное солнце в стеклах...
- До него у нее был человек, которого она любила, не мыслила своей жизни без него, просто обезумела от любви к нему. Юна очень хорошо помнит письмо, так и не законченное из-за появления Ивана,— надеялась, что письмо это излечит ее от любви, как от тяжелого недуга:
- «...Ты всегда что-то искал. Хотел знать обо мне больше того, что я сама о себе знала, открывал во мне душевные порывы, которых я еще не чувствовала. Теперь ты будешь в курсе всего. Ни к чему будет искать повода для ссоры, повторять свою излюбленную фразу, что ничего не надо усложнять. Давно хотела сесть и написать тебе, но не было сил взять ручку. Нынче я стала спокойней, поняла, что в то время, когда я тебя любила, а ты меня обманывал и я сама обманывалась, я была статисткой в пьесе любви, которая сильнее нас... Я проклинала тебя, ненавидела, презирала и... Любила! Боялась сама себе в этом признаться. Моя любовь превратилась в сплошное мучение. Сейчас в моей жизни нет тебя. И все же вдруг такая тоска накатит — ничего не мило, и единственная надежда — телефон. Но у меня хватает сил не звонить тебе. Скучаю? Нет... Вернее, очень редко. Может быть, моя любовь стала чем-то другим, мне не известным, это неведомое и мучит? Не знаю. Только помню — раньше не представляла себе, как даже час провести, не слыша и не видя тебя. Не самая ли большая ошибка в нашей жизни, что мы расстались? А ты...»
- Тогда она что-то еще хотела выяснить в той, бывшей любви, но на пороге уже стоял Иван — мужчина, сидящий сейчас рядом в машине,— рядом, а такой далекий.
- Она опять взглянула на мужа. Слегка ссутулясь, тот по-прежнему сосредоточенно крутил ручку приемника.
-
- ...Родной матери Юна не помнила. Весенним днем сорок второго года ее расстреляли фашисты.
- — В селе их не ждали. Они у нас и не задержались. То ли боялись партизан, то ли по какой другой причине — не знаю,— рассказывала ей потом Фрося.— В доме был Аркаша, брат мой старший, да мама твоя с тобой. В тот день Аркаша собирался к партизанам и вас с мамой хотел к ним отвести, мы ведь прятали вас. Тебя прятать было легко — ты беленькая, светлоглазая, совсем как наша, сельская. Ну а мама совсем другая. Зачем твоя мама за несколько дней до начала войны приехала в наше село — не знаю, но выбраться уже отсюда не смогла. Так вот, схватили немцы Аркашу, тебя с мамой, по другим домам еще восьмерых, как сказали — подозрительных, и повели к болоту... Оно начиналось прямо у окраины села. Один маму в спину автоматом толкает и покрикивает: «Шнель, шнель!» А она все по сторонам смотрит. Глаза какие-то пустые. Когда я увидела, что и Аркашу вместе со всеми повели, побежала туда же...
- Мама тебя на руках несет, а ты чего-то лопочешь, лопочешь... За шею ее держишься. Немцы подвели вас к краю болота, я за деревьями спряталась. День был солнечный, земля только весной напоилась. Немцы подняли автоматы и давай стрелять. Спешили, но по упавшим еще очередью прошлись.
- К ночи взяла я лопату, фонарь и пришла к болоту. Хотела Аркашу к лесочку оттащить и там схоронить. Пришла. Убитые вповалку. Стала их растаскивать и вдруг слышу: писк, такой слабенький... Поначалу испугалась, потом прислушалась, поняла — детский плач. Не знаю, откуда силы взялись мертвых растащить. Аркашу нашла, он весь в крови, в грязи. Закрыла я ему глаза, чуть в сторону оттянула. Потом маму твою приподняла, отодвинула немного, а под ней ты лежишь, пищишь. Живая! Схватила я тебя на руки, прижала к себе, слышу, твое махонькое сердечко бьется. Целовала я тебя в глазенки твои, да носик, да щечки, а у самой слезы рекой льются. Целую и все приговариваю: «Доченька, доченька». Было мне в ту пору пятнадцать с половиной. Никак не решу, что делать: то ли Аркашу хоронить, то ли тебя спасать, в отряд к нашим прорываться.
- Знаешь, бывает так. Идешь утренним лесом, он еще ночными тенями полон. И холодок... и ветер... И покажется, что весны-то нет никакой. И вдруг видишь: на полянке ландыши белеют, голубчики мои, в капельках росы умытые стоят. И на душе светлей. Так и тот день тобою высветлился.
- Похоронили мы Аркашу и маму твою вместе со всеми в братской могиле, а я прорвалась с тобой в отряд.
-
- Из отряда Юну самолетом переправили на Большую землю. Так она оказалась в детском доме на Урале. Записали ее на Фросину фимилию.
- А Фрося заменила брата Аркашу, стала связной в отряде, затем в действующей армии санинструктором, а после служила в военном госпитале медсестрой.
- Сколько Юна себя помнит, Фросю звала она, на удивление всем окружающим, «мамой». И никто не мог взять в толк, как у этой молодой девушки такая большая дочь! Всю войну Фрося думала о ней, писала письма на детдом, чтобы «Юночке их читали и знала бы она, доченька ее светлоглазая, что есть у нее мама». И подписывалась: «Мама Фрося». Потому что никого у Фроси, кроме Юны, не осталось.
- Перед самым концом войны объявился у Фроси жених. А Фрося, ясная душа, возьми да и скажи ему о своей дочери в детдоме.
- — Сама махонька да еще махоньку завела,— удивился Василий, солдат.— Ну что ж, будет она и моей дочерью. А еще и своих человек пять заимеем! Хорошо бы мальчишек, чтоб они нашу махоньку защищали.
- Василий человек был простой. До войны успел лишь пять классов закончить и курсы комбайнеров. На войне солдатом начал, но до ефрейтора дослужился. Говорил Фросе так:
- — Будем детей наших добру учить. Злом хорошего человека не вырастишь. Фашизм от чего, думаешь, родился? От зла.
- Но никого учить ему не привелось. В последний месяц войны вышел он из госпиталя, где его Фрося выходила, и тут-то нагнала Василия фашистская пуля. А Фрося осталась не то девкой, не то вдовой.
- Еще в госпитале Фрося гадала — куда ехать после войны? Представляла она свое возвращение в село, на пепелище. Мысленно проходила по родным дорожкам и тропинкам, где уж не встретить ей ни родителей своих умерших в тридцать третьем от голода, ни брата Аркашу. И все в ней замирало от слез, подступающих к горлу. И не раз начальник госпиталя полковник Стрелков замечал, что у нее красные, воспаленные глаза.
- — Что с тобой, старший сержант, сестра Фрося? — однажды участливо спросил Стрелков.
- Фрося не в силах была ответить. Только махнула рукой и разрыдалась. Вечером того же дня начальник госпиталя все же завел с ней разговор по душам.
- — А знаешь, Фрося,— неожиданно сказал он, узнав беды девушки,— может быть, тебе податься после войны в Москву? Чем смогу — помогу, не пропадешь. Руки у тебя золотые, душа мягкая.
- И начальник госпиталя полковник Стрелков помог ей устроиться медсестрой в Остроумовской больнице в Сокольниках. Поначалу Фрося жила при больнице. Но вскоре ей выделили крошечную комнатку в подвале старинного дома в центре города. Тогда Фрося и решила: пора отправляться в детдом за Юной.
-
- Седьмой год шел Юне, когда в конце сорок шестого за ней приехала Фрося. Детдомовцы того послевоенного времени жили в терпеливом ожидании события значительного, необыкновенного — встречи с родными. Как ни заботилось о них государство, каждый лелеял в душе великую мечту — сказать «мама».
- Когда Фрося приехала в детдом, Юна вместе с другими детьми вырезала картинки в комнате отдыха и думала о том, как три дня назад ее наказали за непослушание. Она не раз слышала слово «ток». Знала, что его «ловит» электрическая лампочка, стоит только повернуть выключатель. Когда она спрашивала, как это лампочка ловит ток и сумеет ли его поймать она, Юна, ей отвечали, что ее током может «стукнуть».
- «Стукнуть... А где же у него руки? Я их никогда не видела»,— думала она. И ей самой захотелось поймать ток. Улучив момент, когда в спальне никого не было, она повернула выключатель и забралась на спинку кровати, а оттуда — на шкаф. Дотянувшись до лампочки, Юна вывернула ее и сунула в патрон палец. Ее действительно «стукнуло». Она свалилась со шкафа. На шум сбежались чуть ли не все обитатели детдома. За это ее и наказали, припомнив и весеннюю «челюскинскую эпопею».
- А тогда было так. Неподалеку от детдома протекала речушка. И вдруг весна стала чертить на льду замысловатые линии. Он сопротивлялся, но весна набирала силу. И однажды лед стал лопаться и, крошась, расходиться. Льдины, громоздясь одна на другую, плыли вниз по течению. Дети — и старшие, и младшие — побежали смотреть на ледоход. Юна конечно же вместе со всеми. Незадолго до ледохода она услышала о подвиге «челюскинцев», дрейфовавших на льдине по Северному Ледовитому океану. Слова «дрейфовать» Юна, разумеется, не понимала, но подвиг челюскинцев ее потряс. Значит, на льдине можно уплыть, и даже очень далеко?
- Никто не заметил, как Юна вскочила на большую льдину, отломившуюся от берега. Темная полоса воды между берегом и льдиной быстро расширялась. Дети кричали: «Юна, прыгай!» Но страх сковал ее. И тогда какой-то мальчик, не растерявшись, тоже вскочил на льдину, схватил ее за руку и прыгнул с ней на берег. Но не рассчитал, и Юна упала в воду.
- Когда ее спросили, почему она полезла на льдину, Юна ответила, что хотела быть как Челюскин. С тех пор ребята прозвали ее Челюскиным.
- — Ребкова, к тебе приехали! — крикнул кто-то из ребят.
- Она вздрогнула от неожиданности: ее назвали не «Челюскиным», а по фамилии!
- Фрося стояла перед ней в военной форме, в сдвинутой набок ушанке и кирзовых сапогах. Сброшенная шинель лежала на стуле. Широкий пояс туго перетягивал талию, а перекинутая через плечо портупея делала ее величественной и строгой. Тут Фрося сняла шапку, и светло-русые длинные локоны упали ей на плечи. Юна обомлела, она уже ничего не видела, кроме этих локонов. Ей показалось, что перед ней стоит принцесса. Нет, не принцесса, а в сто, тысячу раз более красивый и дорогой человек — мама...
- А Фрося действительно была хороша с распущенными волосами. Уж она постаралась! Ей так хотелось понравиться своей дочурке! Фрося сама себе диву давалась, как это ей удалось сохранить волосы, не остричь.
- С воплем «Фрося! Фросечка!» Юна бросилась к Фросе. Твердя это имя, Юна как бы произносила пароль, известный только им. Он, пароль, должен был дать понять этой красивой женщине, что она, Юна, всегда помнила ее, ждала встречи с ней.
- В январе сорок седьмого года мама Фрося и Юна поселились в том самом старинном доме, в семиметровой комнатке. Рядом с их домом стояло здание бывшей гостиницы «Север», в которой встречался Пушкин и Мицкевич. В большинство квартир их дома можно было войти с улицы через невысокую арку, в которой совсем еще недавно были ворота. На одной из стен арки висел жестяной лист, и на нем белой краской написаны номера квартир и фамилии жильцов.
- Дом состоял из трех строений, одно из которых — посредине общего двора — делило этот двор пополам. Первый двор жильцы звали передний, а второй — позади здания-отростка — задним. Там чаще всего играла детвора...
- Чтобы попасть в свою семиметровку, Фросе и Юне надо было пройти через кухню. В кухню выходили двери еще двух комнат. В одной из них жила бывшая дворянка Рождественская с эпилептиком-сыном. Его в доме почему-то звали на восточный манер — Курбаши, что значит «главный». Он был старше всех детей во дворе, и все боялись припадочного.
- Вторую комнату занимала дворничиха Паня, маленькая, с редкими волосиками, щупленькая пятидесятилетняя женщина. На голове Паня во все времена года носила платок.
- Когда-то она работала в «услужении и няньках» у хозяина ткацкой мануфактуры Прохорова, потом и на самой фабрике.
- Чтобы не было видно худых, «гнутых», как в народе говорят, ног, Паня, будто монашенка, носила длинные черные юбки. Даже летом надевала по три пары чулок, чтобы ноги казались полнее. Паня отличалась бескомпромиссным характером. Людей она делила на две противоположные категории: человек был или «хороший», или «сволочь». И все происходящее вокруг так же было либо «хорошим», либо «плохим».
- В юности она жила на Пресне и прекрасно помнила события 1905 года, но связно рассказать о них не умела.
- — Он хороший,— говорила Паня о студенте Николае Шмите.— И все...
- — А как он выглядел, Паня?
- — Он хороший,— стояла она на своем.
- Но иногда на нее, что называется, «находило», и она начинала говорить складно, даже помнила героев былинных сказаний. Вспоминала о своей былой силе, о времени, когда она жила «на спальнях» (по-нынешнему в общежитии) мануфактуры Прохорова.
- — Чай, не Илья Муромец была, силу-то не мерила, а управляться со всем успевала. Я куски сшивала. Потом их в клетку складывала. До сорока штук! Усталость на тебя как гиря чугунная навалится. Прилечь надо бы, нет же — в кино побежишь...— Она вдруг спотыкалась, складный рассказ обрывался, и Паня продолжала в свойственной ей манере: —
- Бывалу, идешь оттеда... С бань... поднимешь, она... на себе ее... она мокрая, ватная-то одеялу. Ничего... Типерича чижело шерстяную. Еще в живой воде полоскала.
- А перевести это можно было так: когда жила в общежитии, могла запросто постирать ватное одеяло в банях, находившихся недалеко от общежития, а затем в «живой воде» Москвы-реки еще и прополоскать. Теперь силы нет даже на покрывало...
- Другая соседка, Рождественская, была особой экзальтированной и не в меру кокетливой. Встречаясь с теми, кого она давно не видела, неизменно спрашивала: «Как я выгляжу?» И не дай бог было сказать, что она сдала. Евгения Петровна начинала взволнованно оправдываться: видите ли, она перенервничала с сыном.
- Рождественская была моложе Пани лет на пятнадцать. В двадцатые годы немного занималась в балетной студии, во время войны была в концертной бригаде. А теперь Евгения Петровна работала пианисткой в джазе ресторана. Домой она возвращалась обычно среди ночи, а то и под утро. Была Рождественская набожной, ходила в церковь замаливать грехи и просить здоровья Коленьке — Курбаши. Была начитанна, интеллигентна — ко всем обращалась на «вы», независимо от возраста.
- Паня и Рождественская то «смотрели волком» друг на друга, то вдруг проникались взаимной симпатией и почти весь день были неразлучны. Тогда Паня в который раз рассказывала соседке о своих детских годах.
- — Типерича неужели как раньше, типерича хорошо,— глубокомысленно изрекала она. И поясняла, почему хорошо,— маленьких девочек в няньки теперь отдавать запрещено.
- Рождественская играла ей на чудом уцелевшем, непонятно каким образом втиснутом в полуподвал рояле «Беккер» иногда «Революционный марш» Шопена, иногда этюды Листа.
- В эти благостные часы Паня сидела, вздыхала, потом тихонько вставала, а через минуту появлялась с припасенной четвертинкой водки и миской квашеной капусты, которую готовила по строго «секретному» рецепту. Она даже и шинковала ее тогда, когда в квартире никого не было. Женщины выпивали, затем Рождественская снова садилась к роялю.
- — Прасковья Яковлевна,— томно щебетала Рождественская, закатив глаза,— что хотелось бы вам услышать?
- — Давай лучше споем,— отвечала Паня.— Bo песня есть: солдат с фронта шел. Посмотрел, a y него дома нет и родных никого. Пошел он на кладбище, поставил на могилку бутылочку, выпил...— И Паня в голос что было мочи завывала:
-
Не обижай меня, Прасковья, что я пришел
к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось
за упокой.
-
- — Но это же невозможно слушать! — Рождественская пожимала плечами, рот ее кисло кривился; она вскидывала руки, кончиками пальцев касаясь висков.
- А дворничиха уже извлекала из своей памяти родную деревенскую песню Рязанской губернии:
-
За грибами в лес девицы гурьбою собрались,
Не дошли до опушки леса — все там разбрелись.
-
- Паня не пела, а надсадно кричала:
-
Ходят, бродят, топчат лишь траву,
А по лесу раздается весело: «Ау!»
-
- — Да замолчите же вы! — взрывалась Рождественская.— Ах, до чего я докатилась — музицирую неотесанной деревенщине!
- Тогда Паня злилась:
- — Сволочь, буржуйка недобитая! — кричала она.— Сволочь!
- Евгения Петровна пулей выскакивала из-за рояля в кухню и звала Фросю, приглашала в свидетельницы:
- — Фрося, ты только послушай, что она говорит! (Фросю она сразу стала звать на «ты».) Ты ведь девушка образованная, войну прошла. Святым делом занимаешься — ребенка на ноги ставишь. Скажи, за что она меня тиранит? У меня муж на фронте погиб! Фрося обычно молчала.
- — Господи, тиранют?! Слово-то какое, нерусское,— с издевкой подхватывала Паня. И тут же начинала бормотать абракадабру: — Мясу мою видела, исть буду.
- Юна хорошо запомнила эти вечера в подвале. Ей нравилась яркая Рождественская, с алым румянцем на щеках, изумрудными глазами, с блестящими темными волосами, уложенными валиком. Одевалась та с шиком — не было женщины во дворе, которая могла сравниться с культурной Евгенией Петровной.
- — У меня такая работа. Обязана быть хорошо одетой,— много раз слышала Юна от нее.
- Иногда по утрам девочка видела уходящих от Рождественской гостей, чаще всего офицеров, молодцевато подтянутых, хотя, возможно, до конца не осознавших, как они сюда попали...
- Рождественская учила Юну играть на фортепьяно. Юна мечтала научиться играть, как «тетя Женя». Того же хотела и Фрося. Ну, уж если не так, как Рождественская, то хотя бы смогла сыграть любимую песню Пани «Гуляет по Дону казак молодой». Юна как-то попробовала подобрать мотив на слух, и неплохо получилось.
- — Тебе, Фрося, надо девочку специалистам показать,— говорила Рождественская,— у нее прекрасная музыкальная память.
- Фрося задумывалась, но ничего не предпринимала. Ей, конечно, хотелось обучить Юну музыке. Но у нее было слишком много других забот — накормить, обуть, а главное — дать образование Юне. Сама Фрося, хотя Рождественская и называла ее «образованной девушкой», успела закончить лишь семь классов.
- «Осенью,— думала Фрося,— я тоже пойду учиться. Будут две школьницы». Она хотела, чтобы Юне никогда не было стыдно за нее, чтобы она могла быть для нее примером. Для Фроси было непреложно — она отвечает за Юну не только перед памятью ее матери, но и перед своим погибшим женихом. Однако пойти учиться ей так и не удалось. Работа и заботы по дому забирали все ее силы.
-
- ...Юна часто убегала на задний двор смотреть, как работают пленные. Они ремонтировали разрушенный бомбой флигель. То были первые и последние немцы, которых она запомнила из военного детства. В ее представлении (по карикатурам и рассказам взрослых) немцы должны были походить на страшных зверей. А тут она увидела обыкновенных тихих людей. Немцы даже улыбались ей, особенно один рыженький, курносый, молодой. Во время перерывов он часто играл на губной гармошке.
- Был холодный зимний день. Мороз был такой, чта заиндевевшие ветки деревьев позванивали при порывах ветра. Фрося стирала, потом она должна была, еще приготовить поесть и через несколько часов идти на дежурство. Юна канючила, просилась гулять.
- Фрося, прекратив стирку, вытерла мыльные руки о сухую тряпку, начала собирать девочку во двор.
- Боже, валенок-то совсем дырявый! — услышала Юна. Она увидела, как мама всунула руку в валенок и покрутила его из стороны в сторону.— Ладно, доча, завтра обязательно пойду куплю галоши. Ну, иди... Все лучше на воздухе.
- — Медхен, ком хер,— поманил Юну рыжий немец.
- Она несмело сделала несколько шагов.
- — Медхен, мексин,— еще раз повторил он и протянул ей гармошку.
- Юна подскочила к нему, выхватила гармошку и стремглав бросилась бежать. А он стоял и улыбался. Юна поднесла гармошку к губам, дунула. Раздался дрожащий нежный звук.
- — Мам, угадай, что у меня? — хитро улыбаясь, держа руки за спиной, спросила Юна, вернувшись домой.
- — Откуда ж я знаю?
- — А вот что! — девочка запрыгала и начала вертеть гармошкой перед лицом Фроси.
- — Доча, откуда это у тебя?
- — Немец дал! — просияла Юна.
- — Немец?! — вскрикнула Фрося и схватила гармошку.— Где этот немец?!
- — На заднем дворе.
- — Идем, покажешь.
- Как была, в халате, с растрепавшимися волосами, едва накинув шинель, Фрося выскочила во двор.
- — Забери свою гармошку! — сорвавшимся, хриплым голосом крикнула она немцу — тому самому, на которого кивнула Юна.
- — Вас? — в глазах у немца застыло недоумение.
- — Не нужна нам твоя гармошка! — Фрося ожесточенно впилась пальцами в полы шинели.
- — Вас? — немец, бледнея, отступал от нее.
- — Когда ее расстреливал, сам небось на гармошке играл? — Фрося вспомнила то болото, расстрелянных...— Чтоб вы сдохли, фашисты проклятые!
- —Фройлян, медхен презент, псшениг,— бормотал немец, то предлагая, то пряча в карман гармошку, которую держал в руке.— Их бин нихт фашист!
- Фрося неожиданно обмякла, опустилась на бревно, валявшееся рядом, и заплакала.
- — Что же я делаю, что же я делаю?! Мне ведь тебя добру завещано учить! Давай гармршку, — устало сказала она немцу.
- — Тот стоял, не понимая, что от него хотят.
- — Вас?
- — Гармошку,— говорю,— давай.
- — Их бин нихт фашист,— все повторял немец. — Их бин камарад.
- Он заискивающе улыбался, переступая с ноги на ногу.
- — Вот чурбан.
- — Я, я, чурбан!
- — Говоришь, камарад, тогда давай,— Фрос сквозь слезы усмехнулась и протянула руку к гармошке.
- Немец понял — протянул.
- — Пойдем, доча.
- Взяв гармошку, они ушли в свою семиметровку.
- Комната была обставлена соседской мебелью, пылившейся до этого в одном из углов кухни. Когда появилась семья Ребковых с небольшим фибровым чемоданом, в котором содержалось их богатство, хозяйство и гардероб, Рождественская предложила Фросе, если той не покажется обидным, обставить комнату этой мебелью.
- Таким образом у Фроси и Юны появился однотумбовый письменный стол, ставший и обеденным, хромая трехполочная этажерка с витыми ножками На первой полке расположилась нехитрая Фросина косметика и галантерея, на второй — Юнины учебники и тетрадки, а на третьей — книги. Из каждой получки Фрося старалась обязательно купить книгу. Они вместе читали, а потом пересказывали друг другу. Эти пересказы не были похожи один на другой потому что каждый из них придумывал что-то свое, и не раз в конце концов от основного содержания оставались только имена героев.
- Ящиков в тумбе стола не было. Вместо них там стоял футляр от патефона с ценными бумагами: облигации, паспорт Фроси, свидетельство об окончании ею курсов медсестер и фотография того весеннего дня, когда жених уходил из госпиталя. Она стояла на крыльце и махала ему рукой. Василий был снят вполоборота. Здесь же лежал дубликат метрики Юны. В графе «отчество» было указано имя Фросиного жениха, поэтому полностью ее имя и отчество звучало как Юнона Васильевна Ребкова. Когда Юна стала учиться в школе и дети начали смеяться над ее именем, она очень просила Фросю изменить имя. Но та ни в какую не соглашалась:
- — За него заплачено жизнью твоей мамы. Не позволю ее волю нарушать!
- В том же патефоне лежали Фросины медали и орден Красного Знамени. Туда же Фрося всегда складывала свою зарплату. Одностворчатый шкаф со скрипящей дверцей и одним ящиком внизу, два колченогих табурета и огромная, по представлениям Юны, полутораспальная медная кровать, покрытая никелем. Кровать эта сделалась для них символом домашнего уюта, которого обеим так недоставало все эти годы. На кровати они с Фросей спали вместе.
- Предлагая Фросе кровать, Рождественская говорила:
- — Знаешь, Фросенька, мы эту кровать еще с мужем в тридцатом году на заказ делали. Как только поженились.
- Кровать была с двумя закругленными спинками, державшимися на двух рейках. Кое-где никель стерся, и проглядывала рыжина меди. Юна, мечтая о чем-нибудь, любила водить пальцем по этой рыжей отметине. И еще любила высунуть голую ногу из-под одеяла и продеть ее между планками.
- Когда на кровать садились, ее сетка протяжно стонала, издавала мелодичный высокий звук, будто спрашивая: «Что случилось?» По утрам, перед школой, прежде чем начать одеваться, Юна неизменно вскакивала во весь рост, прыгала на кровати. И ей казалось, что она летит.
-
- Вернувшись со двора, Фрося присела на кровать и достала из тумбы стола кастрюлю с черным хлебом, завернутым в льняное полотенце. Отрезав краюху, она протянула ее Юне:
- — На, отнеси ему. Небось рыжий есть хочет. Может, и в нем зерна добрые не погибли, может, еще прорастут они в его душе. Иди, доча, иди.
- С того времени Юна стала замечать, что Фрося никогда не жалеет своей души и сердца для людей.
- — Добро не должно зависеть от выгоды, которую можно получить за него. И не должно оно выдаваться по карточкам или расписанию, как дежурства в больнице, — иногда говорила Фрося.
- Теперь-то Юна понимала, что уже тогда молодая женщина пыталась взрастить в ней, в своей дочке доброту.
- Юна видела — к Фросе обращались с просьбами, и не было в доме квартиры, где бы она не побывала: делала уколы, ставила банки, а в свободные часы просиживала около больного одинокого человека. Не все ей платили добром за добро, но Фрося не озлоблялась, не кляла людскую неблагодарность, всегда искала лучшее в человеке и много прощала даже за маленькую каплю добра.
- — Никогда не держи корысти в сердце и не жди платы, — наставляла она Юну нехитрому своему пониманию жизни, — тогда доброе вернется к тебе само. Когда не ждешь.
- Прошло много лет, а Юна помнила выходной день, как ей казалось, лучше которого в ее жизни не было.
- На корме порохода их было двое. Светало, когда они решили высадиться на берег, еще окутанный туманом. Фрося и Юна оказались единственными пассажирами, выходившими на этой пристани. Они не сразу заметили, как туман поднялся над землей, открыв берег. Кругом лес и лес. Солнце рыжеватыми бликами продиралось сквозь ветви. Земля, отогреваясь под солнечным теплом от ночной прохлады, исходила запахом парного молока. Тишина, лес, воздух, душистый от смолы и мяты. Юна еще никогда не видела такой красоты.
- — Слышь, как деревья переговариваются, — тихо сказала Фрося, неожиданно останавливаясь, — убаюкивают они нас. Ветерок поет, солнце по листьям бежит. Душу покоем обволакивают. А травинки-то посмотри как шепчутся. Земля их соком своей любви напоила. Глянь! Головки друг к другу склонили. Ну-ка, приложи ухо к земле. Да не бойсяы. Такую радость услышишь, что никакая беда тебе не страшна будет. Счастье на тебя выльется, — Фрося сама легла на землю и приложила к ней ухо.
- Юна тоже легла. И Юне показалось: ее наполнила музыка, которой раньше она никогда не слышала.
-
- Но все это позже, позже, а тогда на исходе была первая половина сорок седьмого года.
- Не стало пленных немцев во дворе. На улице Горького зацвели высаженные в прошлом году липы. Переулки, улицы будоражил неугомонный перестук скакалок. Детские голоса. На Советской площади готовился к открытию постамент в честь 800-летия основания Москвы. Не смолкала трескотня несущихся по мостовым самокатов, слаженных из дощечек с колесиками на шарикоподшипниках. Под горячим свежим асфальтом исчезали раны выщербленных улиц и булыжных мостовых.
- Осенью сорок седьмого Юна пошла в школу. Но летом случилось событие, запомнившееся ей на всю жизнь.
- Юна была чуть ли не единственной девочко своего двора, принимавшей участие во всех мальчишеских затеях. Она играла с ними в войну и в казаки-разбойники, в лапту и чижа, в биту и ножички и даже стояла в воротах, когда они гоняли консервную банку от одной арки до другой. В ребячьих играх возникали свои дворовые законы. Рождалась и своя жестокость.
- В то лето верховодил во дворе тринадцатилетний мальчик с ангельским личиком и наглыми глазам. У него была маленькая головка, мелкие черты лица и непропорционально широкое туловище с коротким торсом и несоразмерно длинными ногами. Мальчика звали женским именем Сима. Полностью оно звучало — Серафим. Симка всегда старался во всем быть первым. У него были средства для самоутверждения: во-первых, собственный самокат, во-вторых, он лучше всех гонял мяч — консервную банку, в-третьих — горазд на всякие выдумки.
- Симка был старше других детей, не считая пятнадцатилетнего Курбаши, который на все взирал paвнодушно — ни учеба в школе, ни игры, ни самока его не волновали.
- Ребята слушались Симку беспрекословно. Мать его работала машинисткой-надомницей. Она часто перепечатывала рукописи писателей, и мальчик не раз оказывался их первым читателем. Читал Сима все без разбора. Нередко случалось так, что он знал окончание произведения, еще не прочитав начала. Иногда бывало, не только ребятам, но и взрослым Симка снисходительно советовал прочесть книгу, которая скоро выйдет из печати.
- Никто тогда и не заметил, как Симка бросил в разгоряченные игрой головы ребят незнакомое им слово «шлюха». Оно осело в их памяти. Как потом оказалось, это слово относилось к Рождественской.
- Нельзя сказать, что для этого не было никаких оснований. Гость у Рождественской обычно появлялся среди ночи. Он следовал за ней с разбухшей сумкой в руках. Домой Евгения Петровна забирала то, что оставалось от ресторанного застолья. Она не считала это для себя зазорным. Ради «вкусненького кусочка» Евгения Петровна даже другой раз задерживалась на работе, ужиная с незнакомцами.
- С возвращением Рождественской домой по кухне распространялся дух ресторана в запахах запеченного в сметане поросенка, анчоусов, заливной осетрины и шашлыков по-карски, жупановской сельди и мяса, тушенного с грибами в горшочках.
- Атмосфера веселья, какой-то показной праздничности, проникая в «будуар» Рождественской, подчеркивалась звоном рюмок.
- Евгения Петровна занимала квадратную двадцатиметровую комнату с двумя низкими окошечками, выходившими на улицу. Часть комнаты, где находились деревянная кровать (редкость в то время) и тумбочка, была отгорожена платяным шкафом и ширмой. Это и называлось «будуаром». Выпадали дни, когда Рождественская, свободная от вечерней работы, приводила гостя домой часов в девять вечера. Тогда его видели не только жильцы дома, которые собирались вечерами на лавочке и беседовали, лузгая семечки, но и детвора, носившаяся по двору.
- Рождественской, как и многим женщинам, которым перевалило за тридцать, казалось, что жизнь уходит, а хорошего так ничего еще и не произошло, она так и не прибилась к берегу. А ей очень хотелось устроить свою судьбу. Хотелось беспокойства о близком человеке и его внимания, а может быть, да же ссор, но своих, семейных... Ведь и из этого складывается женская доля.
- Ее большой сын — Курбаши, равнодушный ко всему, гостей матери тоже не замечал. Чаще всего oн их не видел — они приходили поздно и ранним утром уходили,— он спал. Вообще гости надолго у нее не задерживались... Может быть, потому, что Евгения Петровна как-то сразу навязывала «ухажеру» свою жизнь и своего недоразвитого сына...
- Был обычный довольно прохладный летний вечер. Дети носились по двору, играя во «флажки». То была игра на скорость и находчивость. Территория переднего двора делилась на две половины. В двух противоположных концах двора очерчивалось по небольшому кругу. В каждый круг клали камешек, считавшийся «флажком». Цель игры заключалась в том, чтобы достичь чужого круга, схватить заветный «флажок» и принести его на свою половину. Сделать это было не так-то просто — все хорошо бегали. Причем, если до кого-нибудь дотрагивались рукой — «пятнали» его, он считался взятым в плен. И тогда надо было схватить не только камешек, но и выручать своего товарища по игре.
- В тот раз ребята носились по двору и не заметили, как Рождественская с гордо поднятой головой, не бращая на них внимания, вдруг приблизилась к «флажку», к которому в это время мчался Симка.
- Рождественская держала под руку мужчину, который солидно шествовал рядом с ней. Невысокого поста в сером шевиотовом костюме, в лихо заломленной велюровой шляпе с большими полями, мужчина что-то говорил, Евгения Петровна, вся внимание, шла, не глядя под ноги.
- Юна считалась Симкиным адъютантом и с готовностью выполняла все распоряжения. Она бежала чуть поодаль от него, стараясь отвлечь внимание на себя. Еще шаг — и Симка уже было нагнулся, чтобы схватить «флажок», но Евгения Петровна в этот момент наступила на камешек. Тогда Симка медленно выпрямился и с кривой своей усмешечкой, как бы невзначай, четко произнес:
- — Шлюха!
- Юна, оказавшаяся возле Симки, уже слышала несколько дней назад от него это слово, знала, что оно оскорбительно. И все же громко выкрикнула трижды вслед за заводилой:
- — Шлюха! Шлюха! Шлюха!
- Дети восприняли это как призыв, бросили игру и начали вторить ей:
- — Шлюха! Шлюха! Шлюха!
- Рождественская уже почти дошла до подвала, когда на нее обрушился шквал детских голосов. Она недоуменно захлопала ресницами, и черные струйки, оставляя бороздки на алых щеках, побежали к подбородку. Евгения Петровна смотрела на Юну и только тихо повторяла:
- — Юночка, как же ты можешь?! Ну как же ты можешь?!
- Паня, как всегда вечерами, сидела на лавочке. Она вскочила, схватила Юну за руку и потащила ее в подвал.
- — Сволочь, сволочь! — выскакивало из ее почти беззубого рта.
- Юна не сопротивлялась — спускалась за Паней, детской интуицией чувствуя, что случилось что-то непоправимое, раз уж Паня назвала ее «сволочь». А та тащила Юну, не переставая приговаривать:
- — Вырасти. Ишь ругается — «шлюха»! Женька пианину учит. Она шлюха. Вот сволочь окаянная! Кровать дала, ейным столом ешь!
- Дворничиха тут же, на кухне, бельевой веревкой выпорола Юну. Хотя девочка и подвывала при каждом ударе, но все ж они вызывали меньше страха, чем Панино «сволочь».
- Рождественская пыталась заступиться за Юну.
- — Прасковья Яковлевна,— говорила она,— девочка же неосознанно. Ее научили. Ребенок. Ох господи, вот Фрося-то расстроится...
- — Ничего,— отвечала ей Паня.— Наука будет ей. Поймет.
- Но Фросе, в тот вечер занятой на очередном дежурстве, ни когда она вернулась домой, ни потом никто ничего не сказал! Для Юны это была первая и последняя порка в ее жизни.
- А через неделю мужчина в зеленой велюровой шляпе зарегистрировался с Евгенией Петровной — сочетался, так сказать, законным браком. Звали его Владимир Федорович. И не было во дворе человека, которому бы Паня с явной гордостью не сообщила, что «наша Женька типерича замужня», что «типерича всех переплюнет». Через полтора месяца Владимир Федорович перевелся из своего Челябинска в Москву. И Паня теперь хвастливо называла его за глаза «наш Володька»...
- «Женьку нашу годков на пять поболее,— рассказывала она о нем.— Он ажанер, грамоте учился».
- Люди с высшим образованием ей казались такими же недосягаемыми, как и те, что были в теле. Из ее рассказа можно было узнать, что семья Владимира Федоровича «погибла в войну» и до Евгении Петровны жил он «бобылем неприкаянным». Говорила она еще, что «Женька ему втемяшилась».
- Однажды Владимир Федорович, оказавшись вдвоем с маленькой Юной в квартире, заговорил о своей любви:
- — Ты знаешь, Юночка, многие удивляются, как это я на Женечке женился. Малознакомой совсем.... А я ведь с первого взгляда ее полюбил! Знаешь, Юночка, демобилизовавшись, я работал инженером на чугуннолитейном заводе. И вот послали меня в командировку в Москву. В столицу попал впервые. Москва меня просто ошеломила. Как-то вечером пошел погулять по улице Горького. Народу полно. Светло... Возле ресторана «Астория», смотрю, у окон люди толпятся. Подошел. Вижу, они на танцующих глазеют. А я посмотрел на оркестр и за пианино увидел... такую женщину, Юночка, такую женщину! Как из трофейного фильма. Прямо Марику Рокк. Четыре дня любовался ею через окно. Потом набрался смелости, решил — войду, буду кутить. Даже велюровую шляпу себе купил. Но покутить не удалось: только собрался в ресторан войти, а она навстречу с сумкой. На меня посмотрела, а в глазах — беспомощность. Я не удержался и спросил: «Можно помочь?» — «Помогите,— отвечает,— только мне здесь рядом. Я в этом переулке живу». Решил ее до дома проводить. Вошли во двор, а тут этот паренек... Симка... под ногами... ругается — «шлюха». Жалко мне стало Женечку. Такая женщина! А сама — в душе еще дитя.
- Никогда Юна не видела Евгению Петровну такой веселой и радостной, как в тот год, когда та вышла замуж. Помнит, как она, маленькая девочка, однажды стояла у двери комнаты Евгении Петровны — оттуда доносился веселый смех, шуршала патефонная пластинка, лилась песня «Счастье мое».
- Видно, эта песня очень нравилась Рождественской и ее мужу, потому что ставили пластинку беспрестанно. А через какое-то время та же мелодия уже слетала с клавиш рояля, и Евгения Петровна с Владимиром Федоровичем распевали во весь голос незатейливые слова песни:
-
Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой,
Все для тебя — и любовь и мечты.
Счастье мое — это радость цветенья весной,
Все это ты, моя любимая, все ты...
-
- Юна постучала в дверь, просясь в гости.
- — Входи, входи,— услышала она приглашение Евгении Петровны.
- Юна вошла, села на кожаный диван с валиками. Рядом с ней сел Курбаши, и она уже вместе со всеми звонким голоском старательно выводила «Счастье мое» под аккомпанемент Евгении Петровны и Владимира Федоровича. Рождественская обучила мужа брать два аккорда этой самой песенки. Они считали, что «музицируют в четыре руки».
- И тут Юна увидела, как Владимир Федорович, одной рукой взяв аккорд, другой прижал к себе жену и склонил голову на ее плечо.
- Смущенная присутствием Юны, Рождественская отстранилась от него:
- — Ну что ты, Зайчик!
- В этот момент послышался ехидный голос Пани, требовательно стучащей в дверь:
- — Чайник-то твой тово... Весь уж. Второй тащу.
- Не натаскаешься-то водицы...
- Поправляя прическу, раскрасневшая Евгения Петровна выбежала в кухню и убавила огонь в примусе. Счастливо улыбаясь, сказала Пане:
- — Знаете Прасковья... Зайчик мои... почти всю песню разучил! — неожиданно привлекла к себе шупленькую Паню, словно собиралась сказать ей что-то важное, и тихонько допела: — «Все это ты, моя любимая, все ты...»
- Паня неестественно громко загоготала, будто причастилась к радости Евгении Петровны.
- — Молодец, Женька! Типерича ты молодец!
- Евгения Петровна вдруг стряхнула с себя веселье и стала серьезной. Устремив взгляд куда-то поверх головы Пани и вышедшей из ее комнаты Юны, она неожиданно каким-то не своим, чужим голосом произнесла:
- — А все-таки всех королей на свете я сильней.
- Паня и Юна недоуменно посмотрели на нее: какие, мол, еще короли?! А Евгения Петровна, заметив их замешательство, вдруг заливисто рассмеялась и, будто в нее вселились черти, стиснула Юну, затормошила.
- — Счастье он мне принес, прямо на блюдечке! — Евгения Петровна еще сильнее сжала Юну и поцеловала в лоб.— Жизнь замечательную и очень красивую!
- «Когда вырасту, у меня тоже будет свой Зайчик,— решила Юна,— принесет нам с мамой на блюдечке жизнь счастливую и красивую».
- В чем эта «красивая жизнь» должна выражаться, Юна, конечно, не знала. Ей было просто приятно чувствовать, что, хотя она и обидела «тетю Женю», та все равно счастлива. В памяти девочки страшное слово «сволочь» отзывалось больнее, чем удары Паниной веревки.
-
- ...Позже Юна поняла, что предала Евгению Петровну просто так, «за компанию». Ведь она уже знала, Фрося ей объяснила, что это слово относится а дурным — она так и сказала: дурным — женщинам, а она, Фрося, с такими не знакома. И еще пояснила, что, когда хотят кому-то сделать больно, говорят это слово. Значит, Юна заведомо понимала, что Рождественской будет больно, и ради общего азарта она забыла, что Евгения Петровна учила ее играть на своем рояле, забыла о кровати, на которой спала и прыгала, о письменном столе, служившем им с Фросей и обеденным. Обо всем ей напомнила в тот вечей простая дворничиха, не умевшая складно говорить. Давно нет в живых Пани, а бельевая веревка в eе жилистой руке нет-нет возникает перед глазами Юны.
-
- Поздно задумалась Юна о том, что Фрося в житейском понимании не устроила свою жизнь.
- В раннем детстве Юна считала, что так и должно быть, что им двоим, Юне и маме, хорошо и больше никого им не надо. Юна готова была терпеть лишения, ходить в магазины, делать все по дому и обязательно хорошо учиться, только чтобы Фрося была довольна.
- Однажды она услышала разговор Фроси с Рождественской.
- — Пора тебе, Фросенька, замуж,— томно ворковала Евгения Петровна.— Посмотри на себя. Ты царевна-лебедь, настоящая русская красавица! Знаешь, у Володи есть сослуживец. Вдовец и не очень молодой. Да ты не смотри на это. Ему дашь уход — он опорой будет. У тебя сил много, и на него и на Юну — на всех хватит.
- — Не, не надо мне такого,— зарделась, потупившись в смущении, Фрося.— Василек у меня в сердце живет,— нежно сказала она.
- Юна не выдержала и влетела в кухню.
- — Ma, — с ревом бросилась к Фросе, обхватила ее за шею.— Не надо еще мужа! Нам и так хорошо. Не надо вдовца! Я работать пойду.
- Рождественская, чтобы сгладить неловкость, перевела разговор на другую тему — заговорила о будущем Юны:
- — Фросенька, надо же что-то делать с Юночкой. Пора показать специалистам по музыке...
- — Все время не хватает,— Фрося растерянно развела руками.— Не знаю, как и быть.
- Но при первом же удобном случае отвела девочку в музыкальную школу. Оказалось, что у нее действительно есть способности. Тогда все «подвальное общество» стало думать, как помочь Ребковым. Паня вызвалась провожать Юну в музыкальную школу, а Евгения Петровна предложила для занятий свой старинный «Беккер», хотя очень дорожила им. Ведь на нем играл когда-то сам Глазунов.
- — Вот, играй! — торжественно произнесла Евгения Петровна, открыв крышку рояля.— Всегда помни. Этих клавиш касался Александр Константинович.
- У Юны заколотилось сердце и рука непроизвольно потянулась к позолоченным подсвечникам. Дотронулась и тут же отдернула руку — будто током ее ударило. Через мгновение потянулась опять — холодок меди вдруг наполнил ее душу радостью.
- Юна была ребенком своего «подвала» и своего двора, своей улицы и своего города. И как это ни звучит высокопарно, но она всегда ощущала себя ребенком своей страны. У нее не было нянек и домашних учителей-репетиторов, ее не обучали хорошим манерам. Правильно держать вилку и нож она научилась позже. Дома пользовались «татуированными» алюминиевыми ложками, сохранившими имена своих бывших владельцев.
-
- Мчится машина по шоссе... Мелькают деревья по обочине, дома... изгороди...
- — Не жми сильно на газ!
- Увидев искаженное лицо мужа, Юна оторвалась от воспоминаний. Она уже давно не следила за дорогой. Теперь машину заносило вбок. Юна резко вывернула руль в противоположную сторону. Выписывая «восьмерки», «Москвич» выносило на полосу встречного движения. Повезло, что не было транспорта. Юна растерялась. Забыв о всех предосторожностях на скользкой дороге, она начала то резко тормозить, то газовать.
- — Дура, не выключай сцепления! — последнее что услышала она.
- Машину снесло в кювет и перевернуло колесам вверх. Юна и ее муж повисли на ремнях. Мотор продолжал работать.
- — Выключи зажигание! — крикнул муж.
- Она недоуменно смотрела на его запрокинуто лицо, похожее на маску, еще не сознавая, что случилось.
- — Зажигание выключи! Взорвемся же! — снова крикнул он.
- И только сейчас в четком постукивании двигателя Юна услышала угрозу катастрофы. Муж попытался дотянуться рукой до ключа зажигания.
- — Мне удобнее,— спокойно произнесла Юна и выключила зажигание. И вдруг новая волна неприязни к нему опять овладела ею, и она отвернулась.
- — Как будем вылезать?! У меня стекло заклинило.
- — Отстегни ремень.
- Наконец они выбрались из машины.
- — Я же просил: «Не гони! Не гони!» — ворчал муж присев на корточки, осматривая машину.— Все люди к празднику готовятся, а мы куда-то едем. Зачем? Почему? Ну что с тобой? Что за сюрприз ты приготовила? Может, вот это и есть твой сюрприз? — и он показал на перевернутую машину.
- Юна стояла в оцепенении. При слове «сюрприз» словно пробудилась. Много лет назад она тоже пыталась сделать сюрприз.
-
- ...Тогда ей шел семнадцатый год. Она как-то по-особому ощущала запахи и краски осени. Запустила занятия и целыми днями бродила по московским паркам, аллеям, возвращалась домой умиротворенная, расслабленная.
- Однажды, выходя из метро «Сокольники», Юна заметила незнакомого молодого человека, направившегося в ее сторону. Он явно шел за ней. Ей казалось — он идет след в след и она слышит его дыхание... Странно в лесу... без Фроси... чужие шаги. В красной перине из опавших кленовых листьев утопали ноги. Безмолвие. Лишь шуршание листьев. Небо с огромным заходящим солнцем и... чужие шаги.
- И вдруг легчайшее касание его руки — будто мотылек сел на ладонь. Улыбка, чуть приподнявшая уголки его губ. И голос зазвучал тихо, доверительно: «Меня зовут Гена, а вас?»
- Юна остановилась. Страшно было шелохнуться, спугнуть чудо...
- Весь день, взявшись за руки, они гуляли по парку, потом по улицам...
- От того дня осталось в душе чувство прозрачной радости, заключавшей в себе шуршание парка, птичьи пересуды, запахи и краски прелой листвы...
- Следующая встреча произошла только через полгода, в булочной. Была короткой, напряженной, несколько неловкой. Почему не виделись? Кто его знает — не виделись, и все. Шла весна, Юна уже заканчивала школу, когда короткая непредвиденная встреча в булочной толкнула их с Геной друг к дрдгу.
- В тот год Москва жила предстоящим Всемирны фестивалем молодежи. Обновлялись дома, открывались новые станции метро, сиял огромными стеклами только что законченный спорткомплекс в Лужниках. Сколько красивых девушек той весной увидел Москва — тонкие талии, модные юбки солнце-клещ! Девушки ходили в туфельках, каблуки которых называли «гвоздики» или «шпильки». Муар и тафта шурша, переливались на солнце.
- Рождественская сказала Фросе:
- — Фрося, а ты не находишь, что с девочкой что-то происходит? Может быть, она влюблена? Чего доброго, экзамены завалит, с аттестатом будут неприятности. Хочешь, я с ней поговорю?
- — Не, не надо,— смущенно ответила Фрося. — Я сама.
- Ведь почти в этом же возрасте Фрося была пераполнена любовью к Василию. Василий особый, нет больше таких на свете. А нынешние — разные. Оградить бы дочку от нежданных печалей. Да как? Деликатность помешала. Помешала заговорить первой. Ждала, что Юна сама все расскажет.
-
- ...Слово «горе» можно обозначить словом «беда» Оно такое маленькое, коротенькое, юркое, может пролезть в малейшую щель, укрепиться, прочно обосноваться в твоей жизни и разрастись в то, что означается длинным словом «бедствие». Беда приходит в различном облике — в болезни и оговоре, проваленном экзамене или несчастье у близких людей. К Юне она явилась через мужской костюм.
- У Геннадия был приятель-танцор, недавно вернувшийся из гастрольной поездки за рубеж. Однажды он пригласил в гости Геннадия с Юной. Они пили чай, слушали пластинки. Потом приятель предложил купить у него заграничный костюм. Как сидел костюм на Гене!
- — Сколько стоит? — небрежно спросила Юна. Можно было подумать, что она часто покупает костюмы.
- — Тысяча двести,— ответил приятель Гены.
- А Гена, словно ребенок, никак не мог расстаться с этим костюмом — то прикладывал к поясу брюки, то вновь накидывал на плечи пиджак. Но было ясно, что денег у него нет.
- — Подождите несколько дней,— неожиданно для самой себя сказала Юна,— мы берем!
- Когда они вышли на улицу, Юна не дала Геннадию даже рот открыть.
- — Я достану,— заявила она.
- — Пятьсот мне дадут дома...— пробормотал Геннадий.
- Юне нужно было достать семьсот рублей.
- «Это больше, чем мамина получка,— прикидывала она в уме.— Но ведь у мамы есть несколько сот рублей — копили ж мы на переезд».
- Недавно Фросе в больнице выделили освободившуюся комнату на пятом этаже в доме на улице Горького. Переезд Фрося отложила до тех пор, пока Юна не сдаст выпускные экзамены.
- «Сто двадцать получу за кровь,— соображала Юна.— Сто двадцать — это почти четвертая часть накопленных мамой денег».
- Что донорам платят деньги, она услышала от Курбаши, который рассказывал, как его «мужики» из сапожной мастерской, где он теперь работал, сдают кровь и получают много денег.
- Через три дня она получила деньги за кровь и вместе с Фросиными собрала нужную сумму. От приятеля Гена ушел в новом костюме. Проходя мимо витрины магазина, Гена загляделся на свое отражение, приосанился, подтянулся и перевел взгляд на Юну. Платье ее, скомбинированное из трех материй, разных по фактуре, походило скорее на жакет, пристегнутый к сарафану. Кроме всего прочего, оно было велико Юне. Плечи съезжали вниз, и Юне приходилось то и дело их поддергивать. Да и туфли со сбитыми каблуками, с ободранными носками тоже выглядели неприглядно. Какое-то едва уловимое пренебрежение уловила Юна во взгляде Геннадия, обращенном к ней...
- — Это мой сюрприз,— сказала она почти заискивающе.
- Но Гена ничего не слышал, видя только себя, приосанившегося в стекле витрины.
- Тогда Юна стала отступать. Толпа оттеснила их друг от друга. Издалека Юна увидела, как, посмотрев вокруг и не отыскав ее взглядом, Гена спокойно пошел дальше.
- Фрося в тот же день заметила пропажу денег. Надо было принести в больницу свидетельство об окончании курсов медсестер. И она, открыв футляр патефона, увидела, что большей части денег нет на месте. Подозревать соседей в краже она не могла, а чужие люди к ним не заходили...
- «Зачем Юне понадобились деньги? Надо спросить. Нет, лучше подожду, когда сама скажет», — подумала Фрося.
- Но так было угодно судьбе, что вскоре Фросе потребовалась копия ордера на комнату. Отпечатать копию могла Симкина Мать. Фрося поручила Юне пойти к ним, попросить об услуге. Юне идти не хотелось — из-за Симки. Она всегда обходила его стороной — считала стилягой. Про таких часто передавали в радиоспектаклях, да и на улицах на стиляг оглядывались с презрением. Но отказать Фросе Юна не могла.
- — А, Юночка, проходи,— проговорила соседка, открывая дверь. — Лизы дома нет, один Симка с рузьями. Слышь, шум какой?
- Из комнаты выскочил Симка. Узнав, зачем она пришла, сказал небрежно:
- — Оставь бумаженцию. Мама отпечатает. Завтра зайдешь.
- Тут в приоткрытую дверь Юна увидела Гену! Он привлек к себе темноволосую девушку и что-то нашептывал ей на ухо. Та улыбалась и льнула к нему.
- Юна, видно, переменилась в лице, потому что Симка, проследив за ее взглядом, удивленно спросил:
- — Ты что, знаешь Геннадия?
- — Тебе-то что за дело?! — Юна бросилась бежать.
- Домой Юна влетела осунувшаяся, губы у нее дрожали. Она бросилась к Фросе на шею, рыдания сотрясали ее.
- — Он... целовался... с ней... целовался...
- Тогда-то Фрося и заговорила с Юной о любви, озаряющей жизнь, когда и смерть не страшна, потому что даже смерть любимого не гасит воспоминаний о нем. Фрося поднялась, открыла тумбу стола, вытащила патефон. Юне показалось, что удары ее сердца слышны не только в комнате, а во всем подвале.
- — Ма-ма,— тихо позвала она.
- — Чево, доча? — от своего «чево» Фрося так и не збавилась.
- — Ма-ма,— Юна, задрожав всем телом, вновь разрыдалась,— я... я... деньги... на... костюм... ему украла...— больше сказать она ничего не могла. С ней началась истерика. Видно, кража денег, так долго ею скрываемая, и обманутая любовь вызвали такую реакцию.
- А Фрося была невозмутима.
- —Слышишь, успокойся,— она налила в стакан воды и стала по глоточку поить Юну.— Насчет денег я знала... Возьмем у Рождественской.
-
- Много времени спустя, вспоминая этот случай, Юна задавалась вопросом: если бы вдруг Фрося полезла в патефон, созналась бы она, Юна, в краже? Или Фросе самой все-таки пришлось бы спросить о пропаже? Ответить себе Юна не могла. Но тогда она искренне верила, что сумеет искупить свою вину и возместить урон.
- — Я пойду работать,— всхлипывая, говорила Юна.
- — Нет, не пойдешь. Тетя Женя сказала, что покажет тебя в Гнесинском училище, там у нее подруга работает. Не поступишь — тогда видно будет.
- Фрося вынула патефон, стала искать что-то.
- — Ради любви чево не сделаешь! Не только костюм купишь... Только не надо, чтобы во зло другим твоя любовь шла,— говорила она, роясь в бумагах.
- — А почему ты не вышла замуж? Даже ухажоров я у тебя никогда не видела,— ни с того ни с сего вдруг спросила Юна, успокаиваясь.
- — У меня их и не было,— ответила Фрося.— Как-то один больной предложение сделал. Конечно, возможно, к нему и притерпелась бы. Да не могла я Василька предать, он как бы и отцом тебе уже стал. К тому же одной мне, без тебя, предложение-то он сделал.
-
- Может, именно тогда Юна почувствовала, что она вроде звена в цепи, связующего прошлую Фросину жизнь с настоящей. Фрося, взявшая на себя добровольные обязательства перед прошлым, не могла забыть этого прошлого, отступиться от него. Поэтому, видно, и сосредоточилась вся ее жизнь на Юне. Чего она сама от жизни не получила — внимания, ласки, заботы,— Фрося старалась дать ребенку за мать и за отца. И если кому-то и казалось, что обделяла она свою жизнь, ограничивая себя в земных радостях, то это не так — радость у нее была: Юна.
— Только Пане про деньги не говори, ладно, мам?..— попросила Юна. Она отчетливо представила себе, как дворничиха может ее обругать словом «сволочь».
— Наконец-то нашла,— Фрося вытащила из патефона вчетверо сложенный пожелтевший листок ученической тетради.— Когда мы только в Москву приехали, Евгения Петровна книжку дала мне. Там стихи были. Кто написал — не помню, не наш писатель. А стихи очень хорошие. Один я себе на память переписала. Послушай, какой.
Когда в раздоре с миром и судьбой,
Припомнив годы, полные невзгод,
Тревожу я бесплодною мольбой
Глухой и равнодушный небосвод
И, жалуясь на горестный удел,
Готов меняться жребием своим
С тем, кто в искусстве больше преуспел,
Богат надеждой и людьми любим,—
Тогда, внезапно вспомнив о тебе,
Я малодушье жалкое кляну,
И жаворонком, вопреки судьбе,
Моя душа несется в вышину.
С твоей любовью, с памятью о ней
Всех королей на свете я сильней.
-
- Фрося умолкла, потом еще раз перечитала следнюю строку.
- — А ты спрашиваешь, почему я замуж не вышла! Его любовью я сильна была.
-
- Пустынно шоссе... Но вскоре появляется грузовичок и тормозит около перевернувшейся машины. Воспоминания отлетают от Юны. Она деятельно помогает мужу поставить машину на шасси.
- — Конечно, если уж нам повезло остаться в живых, то ремонт, что ни говори, ерунда по сравнению с этим фактом,— недовольно пробурчал Иван,— но рубликов пятьсот вылетит! И еще неизвестно, сколько времени с ним будут возиться в автосервисе. А жаль машинку, совсем новенькая! Черт бы тебя побрал с твоими вечными фантазиями! Надо же было мне пойти на поводу! Куда едем — непонятно, зачем — тоже непонятно. Ну что ты молчишь? Боже, как я устал от твоих многозначительных молчанок! У тебя хотя бы есть связи в автосервисе?
- Юне не хотелось отвечать. На нее вновь навалились воспоминания.
-
- — Нужны связи,— когда-то давно учил ее Серафим.— Мне лично одной любви мало. Любовь может утешить. А связи - что? Вознести. Надо знать, чего ты больше хочешь —утешения или славы?
- Весной пятьдесят седьмого Сима заканчивал факультет журналистики МГУ. Его фамилия стала иногда появляться на газетных полосах. И не было тогда более счастливого человека, чем его мать. Она гордилась тем, что у нее, машинистки, сын стал журналистом, которого знают не только во дворе, но и во всей стране. Ранним утром она бежала к киоску, чтобы первой купить газету, когда там была напечатана статья Симы.
- — Представьте,— с деланным удивлением говорила она всегда одну и ту же фразу киоскерше,— сын машинистки — и надо же! — журналист!
- Киоскерша тоже всегда удивленно поддакивала ей в ответ.
- А через несколько часов во дворе не оставалось почти ни одной квартиры, где бы не побывала Елизавета Николаевна. Она стучала или звонила и спрашивала: «У вас случайно нет сегодняшних «Известий»? Там статья моего Симочки».
- Сима становился знаменитостью, маленьким дворовым божком, перед которым многие заискивали, добиваясь внимания и покровительства. Так уж повелось считать, что популярный человек вхож к начальству и может многое сделать. А Сима, как ни взгляни,— уже знаменитость.
- Он был довольно смазливым молодым человеком. Высокий, с пепельными волосами, с мелкими, аккуратными чертами лица, Сима и впрямь походил на сизокрылое божество. Только циничная усмешечка портила его «ангельский» облик. Вокруг Серафима теперь всегда вились модно одетые девушки. Их родители чаще всего могли представить для Симы какой-то интерес в упрочении его будущей деятельности. В те годы Серафим точно наметил и прочертил схему своей жизни. Репутация талантливого, перспективного журналиста делала его и перспективным женихом. Поэтому с выбором невесты, боясь продешевить, он не спешил.
- И вдруг вся схема его жизни оказалась на волоске. Много лет встречая Юну, Серафим едва замечал ее. Он даже здоровался с Юной вроде бы свысока, словно нисходил до нее. Но месяц назад Сима открыл для себя, что Юна очень похорошела, прямо-таки расцвела.
- Он возвращался домой с очередного редакционного задания, продумывая, как позавлекательнее «закрутить» репортаж. Настроение у него было хорошее. Довольный собой, он насвистывал мелодию из арии тореадора.
- Впереди шла девушка, «тонкая, как струна», и было в ней, как показалось Симе, нечто очаровательно юное и в то же время женственное. Сима нагнал ее. С удивлением обнаружил, что это Юна, соседка...
- «А шея прямо... Черт подери, ее бы приодеть...» — подумал Серафим, а вслух произнес:
- — Приветик! Иду и никак не пойму, что за чувиха передо мной вышагивает.
- — Это у тебя чувихи. А я никакая не чувиха.
- Юна убыстрила шаг. Он изумленно посмотрел ей вслед.
- — Ну и ну! — так его еще никто не отшивал.
- На некоторое время Серафим забыл о существовании Юны. Но вот вчера она пришла с ордером... Как она смотрела на Геннадия! Любила, ненавидела одновременно! Это Юна-то, детская подружка, и вдруг такие страсти! И все из-за Геннадия?! Того самого, который пресмыкается перед ним, Серафимом, в рот ему глядит! А он его, Геночку, как «трепача» при себе держит. Хохотал, когда тот рассказывал, что одна девушка в его честь мелодию сочинила. Вчера Серафим поинтересовался, откуда у Мюнхгаузена такой шикарный костюм, а Генка под общий смех сообщил, что костюм подарила ему все та же девушка! И еще сказал, что девушка от радости из-за «сюрприза» стала тут же на улице отбивать чечетку.
- — Не набивай себе цену,— оборвал его тогда Серафим.— То же мне — Жорж Дюруа.
- — Кто-кто? — переспросил Гена.
- — Хорошие книги читать надо,— с издевкой проговорил Серафим.— И как такие олухи в институтах учатся?..
- И вот надо же, этого хвастуна и показушника любит пронзительно, до ненависти, такая интересная девушка! Его же, Серафима, который на десять голов выше Геннадия, даже взглядом не удостаивает.
- Серафим почувствовал зависть. Его волновало одухотворенное лицо Юны, оно стояло у него перед глазами.
- «Надо увидеть ее и видеть ежедневно,— решил Серафим.— Ну, а Генка хорош гусь! Знал, что я с Юнкой в одном дворе живу, и ни слова не сказал! О своих с ней делах...»
-
- Прошло несколько дней. Юна сидела в беседке университетского сада, готовясь к школьному выпускному экзамену. Учебник был раскрыт, но мысли ее витали далеко.
- — Кого я вижу! — перед ней стоял Серафим. Он говорил без умолку. Она слышала слова, фразы, но не понимала их смысла.— Почему ты никогда не придешь? — он попытался положить ей руку на плечо.— Повеселилась бы!
- — Не люблю узкобрючников,— Юна вызывающе посмотрела на него.— Вообще — стиляг. Все они — плесень.
- — Ты что, кроме газет, ничего не читаешь?
- — Вот смотри — читаю,— она указала на учебник литературы,— и даже учу наизусть.
- — В свое время Эпикур сказал, что суть нравственности заключается в том, чтобы не делать зла ни себе, ни другим — и наслаждаться. Раз все зло в брюках, то брюки снимем. Ведь первая заповедь для нас, рыцарей,— это служение даме своего сердца! Исполнять все ее желания. Оберегать ее,— он говорил серьезно.
- Но Юна насмешливо посмотрела на него:
- — Уж не ко мне ли это относится — «дама сердца»?
- — Почему же нет? Я хочу тебя уберечь...
- — От чего?
- — Видишь ли... Я скоро иду...— он немного замялся,— ну, на свадьбу. К одному другу. Может, догадаешься — к кому?
- Юна оцепенела от нехорошего предчувствия. Она, видимо, изменилась в лице так, что Сима стал говорить даже с каким-то участием в голосе:
- — Ну зачем он тебе? Он же не любит тебя. Я говорил с ним. Он просто гулял с тобой, понимаешь — гулял! Он так мне и сказал. И ничего у вас не было.
- — Не было...— повторила Юна. Она словно выходила из оцепенения, сковавшего ее. Перед глазами отчетливо появился уголок парка, где они встретились с Геной. Кленовые листья на аллее и солнце, лучи которого скользили меж ветвей деревьев. И стук дятла, и стук их сердец...— Не было...— еще раз повторила Юна.— Да врешь ты все! — вдруг выкрикнула она.— Что ты знаешь о любви?! — У нее стала пульсировать жилка на виске, глаза заблестели, на щеках выступил румянец.
- Симка никогда не видел ее такой красивой. Почувствовал, что ему страшно хочется смять ее, сломить, обладать ею. И если он этого не добьется, то, наверное, потеряет покой.
- — Вру?! — он с издевкой посмотрел на нее.— Да Генка в тебе даже женщину не видел,— с расстановкой, произнося каждое слово по слогам, отчеканил Серафим.— Сама к нему навязалась. В парке прилипла. И какую-то музыку в честь него сочинила. И костюм ему купила... И чечетку на улице отбивала. Генка хвалился! Деньги-то где достала?
- Юна давно уже не слышала его, находясь будто в прострации.
- — Какую женщину?! — она непонимающе уставилась на него.
- — Обыкновенную. Рождественскую, что ли забыла? Тебе-то уж ее офицеров лучше помнить. Тебя не добивался, потому что боялся! Заставят жениться... А приданое у тебя — Фрося да Паня, может, еще и сама Рождественская. Мою приятельницу Иру из кордебалета в жены берет. У нее мама... Так она его на всю жизнь обеспечит!
- Юна как-то вся поникла, нутром ощущая правду в словах Серафима и необратимость случившегося. Жалкая фигура девушки вдруг внезапно вызвала прилив нежности у Серафима.
- — Ну, хочешь, я на тебе женюсь, — вдруг виновато сказал Серафим.
- — Ненавижу тебя! — почти сорвавшийся до шепота голос Юны врезался в Серафима. — Ничтожество! Да я лучше за Курбаши выйду замуж, чем за такую дрянь... — Она не успела закончить фразу. Звонкая пощечина ошеломила ее. И тогда слезы хлынули из ее глаз. Впоследствии Юна никогда не позволяла себе плакать при людях.
- А тогда, недоумевая от пощечины, неожиданой для него самого, от слез, увиденных им, Сима упал на колени:
- — Юночка, родная, не надо. Я все наговорил. От злости. Нравишься ты мне...
- Но Юна уже взяла себя в руки, вытерла платком лицо и безразличным металлическим голосом отрубила:
- — Встань. Все это правда. Но лучше б ты сдох! — и, повернувшись, пошла.
-
- Спустя годы, когда Серафим и в самом деле стал знаменитостью, однажды он опубликовал хороший рассказ о любви, в котором описал встречу с Юной. Рассказ был одним из самых сильных, самых проникновенных его сочинений. Именно к этому времени он овладел мастерством чужие чувства выдавать за открытые им самим.
-
- ...Через несколько дней Юна встретила Гену. Она открыто, как учила ее Фрося, спросила:
- — Так ты что, не видишь во мне женщину?
- — Женщину? — усмехнулся он.— Ведь ты еща несовершеннолетняя.
- — Мне уже восемнадцатый...
- — Вот именно. Значит, сейчас-то семнадцать. Чтоб было все ясно, сообщаю... Мы с Ирой в июле расписываемся и едем в Ленинград. Медовый месяц. Светская девушка, светская жизнь. Ее мама дарит «Москвич»...— он еще продолжал что-то взахлеб рассказывать, а она уже бежала домой, не слыша его. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас — не узнал бы. Лицо осунулось, длинная шея еще больше вытянулась. Что-то в измененных чертах ее лица, в блеске глаз напоминало маленького затравленного зверька. Каждая клеточка в ней кричала от боли...
- И еще была встреча с Геной. Много лет спустя.
-
- Совсем недавно, когда Юна уже была на пороге сорокалетия, она столкнулась с Геннадием на улице подалеку от редакции газеты, где Юна числилась внештатным сотрудником. Еще в дни юности Серафим научил ее азам репортерского дела и иногда брал с собой на задания. Потом занималась на курсах рабкоров при Союзе журналистов, чтобы доказать тому человеку, которого любила, что и она на что-то способна. Теперь нет-нет на страницах городской газеты да и появлялась ее фамилия.
- Резко притормозив у дверей редакции, Юна выскочила из машины. Вдруг ее окликнули.
- — Юна?!
- Она обернулась. Геннадий. Белозубая улыбка, искрящиеся радостью глаза. Сердце ее екнуло.
- — Ты ли это, Юнка? — во взгляде сквозило недоумение.— Смотрю и думаю, что за светская дама? А ты все такая стройная, красивая. Ты здесь что делаешь? Работаешь?
- Он мало изменился за эти годы. Немного морщин на лице, немного седых волос. Элегантен, подтянут. Юна смотрела на него и ничего не могла понять. Сердце билось ровно, спокойно.
- — Как же я тогда не разглядел в тебе это камильфо? — продолжал быстро Геннадий.— Где же были мои глаза? Девочка из подвала на своей машине! Впрочем, я иногда встречал твою фамилию в газете. Но не думал, что... Ты что, не замужем?
- «Научился задавать вопросы»,— подумала Юна.
- — Как ты живешь? — продолжал он.
- А Юна поймала себя на мысли, что его жизнь ее совсем не интересует. И она вдруг поняла, что за все годы ни разу не вспомнила о нем. Подумала еще: «Боже, неужели я его любила?» Этого нестареющего мужчину, который тянулся к так называемой «светской жизни», и все у него было напоказ, даже женитьба.
- — Живу,— нехотя, едва слышно ответила она.— Ты извини, я тороплюсь. Мне некогда. Меня ждут,— и она повернулась, чтобы уйти.
- — Подожди! Как тебя можно разыскать?
- — Зачем?
- — Ты единственная, кто остался у меня в сердце навсегда! — выспренно воскликнул Геннадий.— Я только сейчас это понял! Помнишь чечетку на улице? — он попытался задержать ее воспоминаниями.
- — Мне некогда,— повторила она и вошла в здание редакции.
- Чечетку Юна — нет, не вспомнила: та чечетка жила в ней подспудно всегда. В ней жил и тот день, когда Геннадий сказал ей о своей женитьбе, и вечер того дня тоже, когда она сумела не только справиться, но и расправиться со своей любовью. Растоптать ее...
-
- Юна очень нравилась себе в довольно свободном крепдешиновом платье довоенного фасона, по белому полю которого были разбросаны мелкие цветы.
- Месяца два назад Рождественская, перебирая свои туалеты, отдала платье Фросе, чтобы та переделала его по себе. Фрося была ненамного полнее Юны, поэтому платье перешила с таким расчетом, чтобы и дочке сгодилось для выпускного вечера.
- Юна решила пойти к Серафиму и быть такой же нарядной, как его знакомые девушки. Он ведь ее приглашал? Вот она и пойдет. Терпеть его не может, но пойдет. Назло. Кому это назло? Назло всем, всем! Ему, Геннадию. Назло своей несчастной любви.
- Надела новое платье — знала, оно ей идет. Фросины босоножки на каблуке — хотелось быть повыше. Чтобы выглядеть старше, впервые распустила волосы — расплела косы.
- Переминаясь с ноги на ногу, Юна стояла на пороге Симкиной квартиры, держа за спиной руку с маленьким букетиком незабудок. Наконец, решившись, она позвонила в дверь.
- Увидев ее, Серафим растерялся.
- — Чем обязан? — и знакомая ей с детства усмешечка подернула его губы.
- — Решила тебя поздравить. С наступающей самостоятельностью, — иронически, в тон его усмешечке сказала Юна и протянула ему букетик.— Не знаю, понравятся ли тебе цветы, но я их очень люблю. Они помогают забыть о весне и напоминают, что впереди — лето! С жарким солнцем, омытое дождями...
- Эту фразу она придумала заранее и выучила наизусть.
- — Ну даешь! Ты прямо лирик! — снова усмехнулся Серафим.— Но кто же мужчинам дарит цветы? (В то время, если цветы дарили женщинам, то наглухо завертывали их в бумагу или газету, чтобы никто не догадался об этом даре.)
- В этот момент девушка, которая сидела за столом, очевидно около Симы, выскочила в коридор.
- — Фи, разве это цветы! — она выхватила из рук Симы незабудки и замахнулась было, чтобы выбросить их в окно.
- Но Юна успела схватить ее за руку:
- — Не надо. Они ведь живые.— И, обернувшись к Серафиму, произнесла: — Если тебе не нравятся, я оставлю их себе,— и начала прилаживать цветы возле небольшого выреза в платье на груди. Выпустив из рук сумочку, нагнулась, чтобы поднять ее.
- Сима тоже нагнулся, и нечаянно его взгляд упал на декольте. Он смутился и быстро выпрямился.
- — Ну что?! Ты приглашаешь меня войти или нет? — спросила Юна деланно равнодушным тоном.
- Серафим гостеприимно раскинул руки:
- — Заходи, конечно, милости просим. И отдай мне, пожалуйста, цветы. Это первые в жизни цветы, которые мне дарят. Обещаю, что сохраню их навсегда. Они будут мне напоминать о сегодняшнем вечере.— Это было произнесено гаерским тоном, но Юна почувствовала, что говорит он серьезно.
- Потом, взяв Юну за руку, он повел ее в комнату. Юна впервые оказалась у него в комнате — раньше дальше коридора она не заглядывала в эту квартиру. Комната выглядела совсем скромно. Мебель была только самая необходимая. На тумбочке умостилась старинная машинка «Рейнметалл». Юна отметила про себя: у них с Фросей стоял письменный стол вместо обеденного, а Симке письменным — служил обеденный. Чего только на свете не бывает!
- За небольшим круглым столом сидели гости — человек десять сокурсников и просто знакомых.
- — Будем знакомиться! — шумно объявил Сима. Он многозначительно помолчал, затем, подмигнув Юне, сообщил: — Эта девушка — мой адъютант.
- За столом поднялся галдеж.
- — Ну, положим, когда это было... — вставила Юна.
- — В детстве, в детстве, — поправился Симка,— теперь времена изменились, она больше уже не мой адъютант.
- — А чей же? — раздался игривый голосок кареглазой девушки.
- Юна посмотрела на Серафима настороженно, ожидая, что он еще выкинет.
- «Если скажет — Генкин, я за себя не ручаюсь,— подумала она,— только пусть попробует».
- — Так все-таки чей? — настаивала кареглазая девушка.
- Серафим вместо ответа только развел руками. А Юна сказала:
- — За последние десять лет женскому полу дали другие роли.
- Гости засмеялись, зашумели, а Юна уже держала стакан с шампанским. Она вообще в первый раз пила вино. То ли от шампанского, то ли от веселья и возбуждения, то ли от внимания, обрушившегося вдруг на нее, она почувствовала себя увереннее. Глаза ее заблестели, щеки запылали. Она танцевала непрестанно, не пропуская ни одного танца.
- Серафим весь вечер не сводил с нее глаз. Чувствуя это, Юна все больше и больше заводилась, отдавалась танцу, отрешившись от всего вокруг. Еще крутилась пластинка на диске радиолы, еще Юна пыталась что-то изобразить в своем танце, когда нечаянно кем-то брошенное имя «Гена» вернуло ее на землю. Один из гостей спрашивал о нем у Серафима. Сердце Юны учащенно забилось, краска сошла с лица, глаза потухли...
- «Я сейчас умру»,— подумала она. Хотела присесть. Потом, раздумав, бросилась к радиоле и включила ее на полную громкость. Хотелось ничего не слышать, оглушить себя...
- — Поздно уже,— подошел к ней Серафим и нежно взял за руку.
- Юна хотела выдернуть руку, но не выдернула.
- — Выгони всех,— вдруг сказала она,— я останусь у тебя.
- Серафим опешил:
- — Ты что, серьезно?
- — Фрося на дежурстве,— она впервые назвала маму по имени.
- — Ты что, серьезно? — еще раз переспросил Серафим.
- — Я так хочу.
- Она даже не видела, как разошлись гости. И вот Симка стоял перед ней на коленях, целовал каждые ее пальчик и бормотал нежные слова. А в сознании Юны горели слова: «Уничтожу! Уничтожу!»
- ...Ей казалось, что только так она должна поступить, чтобы никогда к Геннадию не возвращаться, даже в мыслях!
- Уже позно ночью Серафим вышел в кухню. Юная соскочила с кровати и спешно натянула платье.
- — Надо домой,— пряча глаза, сказала она спокойно вошедшему Симке и удивилась своему спокойствию.
- А у меня в одиннадцать утра самолет,— улыбнулся он.— Наша группа летит в Крым.
- Он нервно зашагал по комнате. Затем приблизился к ней, обвил руками ее шею и прижал Юну к себе:
- — Я никогда не видел моря. Понимаешь, первый раз!
- Юна стояла с безразлично повисшими руками. Серафим приподнял ее подбородок, попытавшись заглянуть в глаза. Юна отвернулась, отстранилась.
- — Ну, хочешь, я не полечу? Останусь в Москве, с тобой?
- Но Юна, высвободившись из его объятий, быстро заплела распущенные волосы, так, как ее научила Фрося. И неожиданно произнесла не без хвастовства:
- — А мы через две недели переезжаем. Завтра я в музыкальное училище пойду. С тетей Женей. Покажемся. Вопрос о приеме решен...
- Зачем ей нужно было хвастать? И хвастовство ли это было? Вероятно, ей просто захотелось самоутвердиться, показать, что произошедшему она, Юна, особого значения не придает.
- Утро того же дня изменило все в ее жизни.
- Ни голоса, ни выстрелы, ни грохот проходящих танков — ничто не доносилось сюда, в этот уголок, отстраненный от мира. Небольшая поляна была залита утренним солнцем, ласковые, мягкие лучи которого пробивались сквозь густые ветви деревьев и кустарника. Солнечные блики скользили по желтым чашечкам куриной слепоты, выцветшим незабудкам, клеверу. Тихо перешептывались травы, испарялась утренняя роса. Всюду был покой. Его не нарушали короткие трели дрозда и привычная суета муравьев. Открывавшаяся им голубизна неба казалась бездонной — ни облачка на нем.
- — Как я скучала без тебя!.. — шептала Фрося.
- Ее голова покоилась у Василия на плече, а он травинкой осторожно водил по ее лицу.
- — Как же я скучала!..— повторяла она снова и снова.
- Он молча улыбался, продолжая водить травинкой. Фрося взяла его руку, поднесла к губам:
- — Люблю твои руки, твое дыхание люблю.— Она приложила голову к его груди.— Хочу улететь с тобой. К звездам подняться... Обними меня... Не отпускай больше... Ты жив, мой любимый.
- Вдруг Фрося почувствовала удар и услышала грохот. Василий исчез, она перестала его ощущать. Его не было теперь рядом.
- — Не уходи, — крикнула Фрося, — я так счастлива с тобой! — но образ Василия растворился в небесной голубизне.— Я еще не все сказала,— уже шептала Фрося.— Наша дочь стала взрослой. Она...
- Грохот разорвал безмолвие. Языки огня, пожара, чернота разверзшейся земли и неподвижная голубизна неба смешались. Ее сердце остановилось.
-
- Еще совсем недавно, разморенная от монотонного покачивания автобуса, солнца, бьющего в лицо, Фрося, прикрыв глаза, прислонилась к окну. А теперь она медленно безжизненно валилась на бок. Тонкая красная ниточка струилась по ее лицу.
- Автобус стоял, уткнувшись в фонарный столб. Солнечные лучи больше не отражались от нагретого стекла. Его не было — несколько острых осколков торчало в проеме окна.
- У грузовика, врезавшегося в автобус, не сработали тормоза.
- — Какая нелепая смерть,— говорили соседи по дому.— Надо же: пережить войну — и погибнуть в автобусе.
- Хоронили Фросю всем домом. Ни одной слезы не уронила Юна. После кладбища она сразу пошла в парикмахерскую.
- — Отрежьте мне косы,— сказала она сухо.
- Когда увидела одну косу в руке мастера, поняла — детство кончилось. До этого была одна жизнь. Была жива мама. Теперь все другое, теперь все решения надо принимать самой. На улице Юна стала запихивать косы в сумку. Потом поспешно вернулась в парикмахерскую.
- — Вот, возьмите. Мне они не нужны,— и она протянула парикмахерше косы.
-
- Что заставило ее тогда их остричь? Воспоминание с годами теряют свои четкие очертания, расплываются в дымке времени. Может быть, таким образом попыталась тогда очиститься перед памятью Фроси? Или, может быть, надеялась утвердиться в своей самостоятельности? На эти вопросы уже не ответить — ушло, истаяло.
- На новую квартиру перевозили Юну Паня, Рождественская с мужем и Курбаши.
- — Женька, ты куда ево ставишь? — покрикивала Паня на Рождественскую, когда та футляр от патефона поставила на коробку с посудой.— Ейное это приданое! А ты, девка, исть будешь у меня, если нечего,— обернулась она уже к Юне.— Сволочей много...
- И поняла тогда Юна, что Паня зовет остаться с ней, что всегда она ее накормит, когда будет трудно.
- — Да не на край земли отвозим,— ответила за Юну Рождественская, вскидывая заметно располневшие руки к вискам,— вот мебель перевезем, а Юночка пока у нас поживет. Что ей там одной делать?
- — На что одна,— всхлипнула Паня,— я одна остаюся? Бона ты, Женька, лыжи тоже навострила.— Она утерла кулаком катившуюся слезу.— Знаю, твой скоро получит комнату. В Песчаных улицах. Уедешь ты. Юнка пусть со мной пока останется, — твердо закончила дворничиха.— Не рассыпь меблю, осторожно ее! — кричала она уже Курбаши, тащившему спинку кровати.
-
- До сих пор сохранилась у Юны медная кровать Рождественской, та, на которой они с Фросей спали много лет.
-
- Дом, куда Юна переехала, был построен в семидесятых годах прошлого века. Кирпичный, с высокими потолками, венецианскими окнами, большими пролетами лестниц, перила которых были увиты замысловатыми металлическими цветами Дом создавал впечатление фундаментальности вечности... Некогда здесь жили купцы и инженеры, известные актеры. Рядом находились церковь, баня и неподалеку — резиденция губернатора. Со временем этот дом надстроили, в подъездах появились лифты, сменились и его обитатели, поселившиеся теперь в «апартаментах» — коммунальных квартирах. Та, в которую въехала Юна, в свое время принадлежал известной московской портнихе и служила одновременно салоном-мастерской. Все шесть комнат, потолки которых были украшены лепкой в стиле барокко, сообщались между собой широко раскрывавшимися дверями, создавая огромную анфиладу комнат. В то же время каждая комната имела свою боковую дверь в узкий коридор. При надобности любая комната могла стать изолированной.
- Такая надобность пришла. Смежные двери были забиты, прошиты досками, заштукатурены. И шесть семей поселились в квартире. Каждая из них жила обособленной жизнью. Объединяла жильцов кухня. Здесь решались все проблемы мировые и узкоквартирные. Ко времени вселения Юны старожилов в коммуналке осталось немного.
- Ближайшими соседями Юны оказались директор продуктового магазина, крупная женщина с выпученными глазами и всегда непромытыми волосами. Слоновьи ноги, широко расставленные, с трудом передвигали огромное туловище хозяйки. Оно было настолько велико и монолитно, что казалось, будто ее голова с сосульками слипшихся волос начинается прямо от лопаток.
- Ее муж, шофер продуктовой машины, был худ и походил на веревку, извивающуюся во все стороны. Муж любил подглядывать в замочные скважины соседских дверей. Не раз он ходил с шишкой на лбу!
- В самой дальней комнате жила семья слесаря. Тот в свободное время тачал обувь.
-
- В центре квартиры занимала комнату семья зубного техника. Его мать, расплывчатая седая женщина, повадками напоминала наседку. За глаза, а порой и в глаза ее называли «мамашка». И жила в этой комнате ангорская пушистая кошка, которую «мамашка» ежедневно утром и вечером выводила гулять, повязав на шею бантик, а к нему бечевку. Кошка выглядела кокетливой. Цвета лент на ее шее менялись ежедневно.
- Клиенты, ужимаясь в размерах, боком протискивались в комнату протезиста. Они-то и становились причиной скандалов между директоршей и «мамашкой». Директорша блюла порядок в квартире. Она зорко следила, чтобы, не дай бог, кто-то из жильцов мог манкировать своими общественными обязанностями, установленными квартирным «кодексом». «Мамашка» же, наоборот, стремилась провести блюстительницу порядка.
- В тот день, когда перевозили вещи Юны, у этих ее будущих соседей шла очередная баталия.
- Директорша, всей тяжестью навалившись на свой кухонный стол и скрестив руки на животе, под огромными грудями, выговаривала седой женщине:
- — Во всяком случае не позволим, чтоб они ходили...
- «Мамашка», что-то нервно передвигая на своем столе, оправдывалась:
- — У всех протезистов клиенты ходят домой. Почему-сь нам нельзя?
- — Тогда мойте после них пол. И за кошку вам надо мыть. Сколько раз с ней пройдете. Туда-сюда туда-сюда. Грязь волочёте, а мыть не хотите. В коммуналке должен быть порядок! А тут прямо под носом клиенты ходют. Написать бы на вас куда следует. Проверить — может быть, ворюги.
- — Почему-сь вдруг ворюги?! — заискивала «мамашка».— Вон Виктор туфли шьет. Может, из казенного материала... А у вас все чисто...
- Как и всегда, шум на кухне вдруг затих, и женщины разошлись по своим комнатам.
- Первые месяцы Юна на новой квартире почти не бывала. Она продолжала жить в семиметровке и спать на Панином матраце.
- В Гнесинское училище показываться ей не пришлось. Спустя месяц после смерти Фроси муж Евгении Петровны устроил Юну лаборанткой в один из НИИ.
- — Сейчас век техники. При НИИ есть вечерний техникум. Будет она специалистом,— убеждал он почему-то Евгению Петровну, а не Юну. Будто решалась дальнейшая судьба его жены.
- — Но Юночка же закончила музыкальную школу. И Фрося хотела...— возражала Рождественская:
- Но тут вмешалась в разговор Паня, без которой в подвальном обществе ни одно дело не решалось:
- — Пициальность типерича надо. Неужели так? Папанька привез. Рязани ехали. Нянькой была. Пициальность — всё.
- Новое слово, появившееся в ее обиходе, ей очень нравилось.
- — Пусть у Юнки будет...
- — Ну вот, вы снова Рязань, папаньку вспомнили. Еще Прохорова поминать будете. Здесь, можно сказать, судьба девочки решается, — недовольно пожала плечами Евгения Петровна.
- Но Владимир Федорович настаивал, чтоба Юна пошла работать в НИИ и за три года закончила техникум.
- Так решилась ее судьба. Она стала лаборанткой и студенткой техникума.
- Когда Серафим вернулся из поездки к морю, она работала и училась. О смерти Фроси он узнал из письма Елизаветы Николаевны. Ему захотелось написать Юне, нет, лететь к ней! Он ощутил чувство вины перед Юной... но — не полетел и не написал...
- В Москве стояла осень. Ветер обрывал листья деревьев, все сильнее задувал в оконные щели. Небо было свинцовым от тяжелых, низко нависших над землей облаков.
- К тому времени в НИИ, где работала Юна, у нее появился друг. Лаврушечка. Отслужив пять лет на фронте, Лаврушечка за несколько месяцев до Юны появился в том же отделе. Звали его — Анатолий Иванович, фамилия была Лавров. Он был ладно скроен, среднего роста, розовощекий крепыш с голливудской улыбкой. Когда сильно волновался, на лбу у него выступали мелкие капельки пота, которые он небрежно промокал носовым платком. Большинство мужчин носили брюки-дудочки, а Анатолий, отдавая должное морскому прошлому, продолжал ходить в черных клешах, подметая ими полы лаборатории и тротуары улиц.
- Жил он по соседству с Юной, в той самой гостинице «Север», где встречался Пушкин с Мицкевичем. Даже комната была тем самым номером, где два великих поэта и гражданина вели разговоры о судьбах своих народов...
- Войдя в лабораторию, куда ей помог поступить дядя Володя, первым Юна увидела Лаврушечку. Он стоял спиной к двери на верстаке. Головы его не было видно. Юна увидела клеши и прыснула со смеху. Лаврушечка соскочил с верстака.
- — Что это за фуфела свалилась к нам? — делая серьезное лицо, спросил он.
- Юна была в трехматерчатом своем комбинированном платье, плечи которого свисали то с одного, то с другого плеча. Она молчала, недоуменно смотря на него, моргая ресницами.
- — Ты чевой-то моргалки включила? Ну-ка выключи. Энергию нечего зазря тратить. Экономно надо жить,— все так же серьезно продолжал Лаврушечка.— Ты чья же будешь, фуфелка?
- — Лаборантка ваша. Ты, между прочим, тоже не Жан Марэ,— придя в себя, прыснула опять Юна. Она переняла манеру Евгении Петровны независимо от возраста ко всем незнакомым людям обращаться на «вы». А с ним почему-то сразу, не задумываясь, стала на «ты».
- В это время на экранах Москвы шел фильм «Опасное сходство». Многие женщины и девчонки были без ума от Жана Марэ, видели в нем эталон мужской доблести и красоты. Лаврушечке было далеко до Жана Марэ. Перед девушкой стоял парень с веселыми глазами.
- — Тебя как зовут, фуфелка?
- — А тебя, Швандя?
- — Это что же, огрызаться старшему по званию?! — Анатолий Лавров числился старшим техником.— Ну-ка говори, как зовут.
- Юна не может понять до сих пор, почему, никогда не вспоминая своего детского прозвища, вдруг выпалила:
- — Челюскин!
- — Не,— покачал головой Лаврушечка,— Челюскин был бравый мужик. А ты фуфелка. Ну, пожалуй, молоток! Подрастешь — кувалдой станешь. Да ладно. Твоя взяла. Я — Анатолий Иванович Лавров,— и он протянул Юне руку.
- — Юна Ребкова,— ответила она и тоже протянула руку, про себя решив называть его «Лаврушечка». Потом она узнала, что так его зовут многие в НИИ.
- — Юна... А что это значит?
- Юнона. Богиня плодородия. У римлян. А в Греции она Герой звалась. Неужели не знаешь?
- — Не, не помню. А Челюскин-то чего?
- И Юна, вдруг неожиданно для самой себя, рассказала ему о детдоме, о Фросе и про ее смерть, про музыкальную школу, которую закончила благодаря соседям.
- Во время ее исповеди в комнату вошел кто-то из сотрудников отдела — понадобился Анатолий.
- — Линяй отсюда. Не видишь, я занят,— грубовато сказал ему Лавров.
- — Ты что? Блатной? — удивилась Юна.
- — Не-а. Я морской, а тебя кто пасет?
- — Не-а,— в тон ему ответила Юна.
- — Значит, я буду твоим лоцманом. Со мной работать будешь. Мне лаборант как раз нужен. Когда шеф с обеда вернется, скажу ему, чтобы тебя ко мне отшвартовали. В одном фарватере ходить будем.
- — А ты почему не пошел обедать? — спросила Юна.
- — Я? Да, понимаешь, схему запорол! Ошибку ищу. Ну-ка бери паяльник, начнешь помогать. Сначала обмакни его в канифоль, потом олова немного зацепи,— он показал ей, как надо работать паяльником. Держа в руках фигурную лампу, сказал: — Это диод. У него два электрода. Положительный — анод, отрицательный — катод...
- — Мы в школе это проходили,— перебила его Юна.
- — Слушай, что я говорю! — приструнил ее Лаврушечка.
- — Есть слушаться!
- Он стал объяснять назначение тех или иных приборов, их деталей.
- В комнате, где работал Лавров, стояли еще два верстака и три письменных стола.
- — Это стол шефа. Шеф в нашей комнате сидит, — Анатолий показал на двухтумбовый стол, стоящий у окна.— А мой — вот этот. Ты будешь напротив. Рядом с нами сидит Демьян Клементьевич Галки. Мистер Икс нашей лаборатории. Дня не проходит, чтобы он не пел арии из этой оперетты.
- В лабораторию стали возвращаться отобедавшие сотрудники. Вошел довольно грузный седой человеи лет пятидесяти. У него был тяжелый, выдвинутый вперед подбородок, что придавало его лицу грубоватую значительность.
- — Вы наш новый сотрудник? — обратился он к Юне, еще державшей в руках паяльник.— Мне звонил кадровик.
- — Да, в отделе кадров меня направили сюда. Лаборанткой,— ответила Юна.
- Ну что ж, давайте познакомимся. Зотов Игорь Петрович, начальник лаборатории. Вы после десятилетки?
- — Да, закончила десять классов. Ребкова... Юна. Две недели уже учусь в вечернем техникуме вашего института.
- — Очень хорошо. Нам специалисты нужны...
- — Закрепите ее за мной, Игорь Петрович,— вмешался в разговор Лаврушечка.
- — Подождите, Анатолий Иванович. Разберемся, ведь Галкин тоже просил дать ему лаборанта, да и в другой группе, у Анны Павловны,— он показал глазами на смежную комнату,— не хватает технического персонала.
- — Простите, но вы ведь обещали, что первого нового отдадите мне! — настаивал Лавров.
- — Ладно, коли так уж нажимаете — берите девушку, хотя, мне помнится, вы просили лаборанта-парня.
- Пока парня дождешься — сколько воды утечет. А она уже здесь. Главное, чтобы была внимательной, усидчивой. А обучить делу — обучим.
- Так Юна начала свою трудовую жизнь в лаборатории под наблюдением «недремлющего ока» Анатолия Ивановича Лаврова.
-
- ... Юне нравилось вливаться по утрам в нескончаемый поток людей, спешащих на работу. Теперь и она — капелька в этом потоке. Как интересно приткнуться в уголке переполненного троллейбуса и рассматривать лица! Недоспавшие, хмурые, а порой теплые, молодые, веселые. Она внутренне улыбалась и переступала порог своей лаборатории легко и спокойно.
- Юне нравилась собственная самостоятельность, независимость. Она вдруг ощутила себя взрослым, сильным человеком, который многое может.
- И действительно у нее появились успехи. Прошло совсем немного времени, а она уже без помощи Лаврушечки может читать несложные схемы и сама их собирать. Даже самостоятельно разработала панель пульта проверки усилителя. Конечно, панель пульта — это слишком громко сказано. Всего-то два тумблера. Один включает-выключает сопротивление, а другой — конденсатор. Однако ведь еще недавно она и этого не умела. Ей так хотелось узнать как можно больше, чему-то научиться, что даже шеф заметил старания новой лаборантки. На собрании он отметил, что «с молодым сотрудником повезло». Лавров свое отношение к Юне скрывал, доброжелательно подсмеиваясь над ней:
- — Ну, фуфелка, ты и даешь! Женщина все может! Теперь понятно, почему из всех передряг Россия выходила невредимой. Бабы ее спасали, а не мы, мужики. Умеете вы работать, просто зависть берет. Небось и спутник вы запустили. Страну на весь мир прославили.
- Юна в ответ весело смеялась:
- — Я-то какое отношения к спутнику имею?
- — В стране живешь, где первый спутник запустили,— уже серьезно внушал ей Лаврушечка, — стало быть, имеешь.
- Миропонимание Юны было еще молодым, несформировавшимся. На какое-то мгновение слова Лаврушечки приковывали к себе ее внимание, но тут же обыденность отвлекала, и те слова казались высокопарными и не имеющими к ней отношения.
-
- Однажды в обеденный перерыв на опытный завод при НИИ приехала актерская бригада. И с ней Серафим. Он работал в редакции газеты и был разъездным корреспондентом. Вот ему и поручили подготовить репортаж о встрече артистов с рабочими. К тому времени Юна уже не вспоминала о Симке, о той ночи. Смерть Фроси, работа, учеба — все это отвлекло, увело в сторону.
- Серафим растерянно улыбался, недоуменно уставившись на нее.
- — Я здесь работаю, — отвечая на его немой вопрос, произнесла Юна.
- — А я, как приехал с юга, искал тебя...
- Она исподлобья посмотрела на него: «Зачем врет? Я ведь ничего от него не хочу, ни о чем не спрашиваю».
- — Тебя сразу не узнать,— продолжал Серафим.— Повзрослела. Косы отрезала. Как же ты живешь без Фроси?
- В его словах Юне послышалась участливость, и у Юны непроизвольно вырвалось:
- — Сама не знаю — как. Все кажется, вот-вот увижу ее. Недавно окликнула незнакомую женщину: «Мама». Мамин голос слышу...— Она замолчала, опустила глаза.
- А Сима увидел тень на щеках от длинных ресниц, почувствовал ее отрешенность и поймал себя на том, что эта девушка опять, как и несколько месяцев назад, волнует его.
- — Что делаешь сегодня после работы?
- — Иду учиться.
- — Жаль. Мы могли бы пойти куда-нибудь вместе. Я ведь соскучился по тебе.
- С этого дня Юна уже не жила в подвале. Она перебралась в новую комнату... Ночевать Сима у нее не оставался — беспокоился о ее репутации. Встречались они на квартите его товарища.
- Своего отношения к Серафиму Юна ясно определить не могла. Ей льстило, конечно, что он журналист, что у него есть маленькая слава, но теперь она еще видела в Серафиме то, чего в детстве порой не замечала: он умел подольститься к тем, кому хотел понравиться, и унизить даже товарища, если это было в его интересах.
- Однако встречаться с Серафимом Юна продолжала. Правда, в их отношениях она не чувствовала того дружеского участия, с каким относился к ней Лаврушечка.
- Однажды Юна попыталась рассказать Серафиму про тумблер и конденсатор, про панель пульта, рассказала, как Лаврушечка внушал ей, что она — «часть народа», «часть судьбы народа». Сима недоверчиво посмотрел на нее, а затем громко захохотал:
- — Ты что — свихнулась?! Первый класс заканчиваешь? Юнчик, от твоих лозунгов можно обалдеть!
- Сначала издевки Серафима приводили Юну в замешательство, она внутренне вся съеживалась, начиная чувствовать свою неполноценность. А потом просто перестала посвящать Серафима в свои мысли, в свои рабочие дела и все реже обращалась к торжественным высказываниям Лаврушечки.
- И все-таки с Серафимом ей было интересно: веда он, безусловно, умнее, образованнее, интеллектуальнее не только ее, но и столь почитаемого ею Лаврушечки.
- Бывая у Серафима дома, она любила рыться в книгах, купленных им по большей части у букинистов. От некоторых книг исходил аромат, напоминая Юне запах концертного платья Рождественской. Из многих фолиантов, перебираемых Юной, одна книга, в синем сафьяновом переплете, «Чтец-декламатор», с закладкой — воздушной балериной на ниточке — почему-то волновала ее особенно. Забравшись с ногами в старое, с одним подлокотником кресло, она внимательно разглядывала строки, выведенные чьим-то старательным почерком.
- Это были стихи, написанные на отдельном листочке... Стихи Игоря Северянина.
-
Где волнуется пена,
Где встречается редко городской экипаж,
Королева играла в старом замке Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
-
- Королева, экипаж представлялись ей атрибутами неизвестной красивой жизни, о которой она мечтала в детстве и о которой вдруг вспомнила при чтении этих строк. Королевой ей виделась Евгения Петровна...
- Назавтра Юна неслась в свою «лаб» к приборам. Она металась между дружбой с Лаврушечкой и встречами с Серафимом. Лабораторией, торжественными речами Анатолия и — вечерами — сатанинским, вкрадчивым пением Вертинского, интеллектуальностью и «престижностью» журналистской профессии Серафима.
- Приходя с Серафимом к кому-нибудь в гости, Юна не раз замечала, что он становится «гвоздем программы». Присутствующие с неподдельным интересом слушали его рассуждения, ловили каждое его слово, смотрели ему в рот. И ей это нравилось, даже как-то тешило ее самолюбие: «лучший парень» был с ней, а она вроде бы не очень-то за него и держится.
- В то же время Юна чувствовала, что, приглашая ее в гости, Сима ставит преграду между собой и возможной претенденткой на его свободу. Юна видела: самолюбие Симы задевает, что она не имеет на него серьезных видов, замуж за него не рвется. Симка это понимал и злился...
- В общем, Юна металась, и в этих метаниях Лаврушечка со своими «лозунгами» нет-нет да и начинал ей казаться примитивным человеком, а Серафим был не тот, кого она хотела бы видеть рядом в своей придуманной, еще не четко очерченной, счастливой и красивой жизни.
- Ей было двадцать с небольшим, когда она первый раз попробовала расстаться с Серафимом.
- Юна стояла у дверей квартиры приятеля Симы, собираясь уходить. Сима шарил в карманах, искал ключи, а ключи не находились. Юна равнодушно наблюдала за Серафимом, он же все больше и больше нервнича, озлобленный ее невозмутимым спокойствием, ее как бы непричастности к происходящему.
- — А ты порочная, — неожиданно сказал он сквозь зубы.
- — Почему? — спокойно сказала она.
- — Ведь от пустоты встречаешься со мной. Все еще ненавидишь.
- — Какие грехи замаливаешь?
- «Разве можно чем-нибудь замолить грех? Это только видимость, что его совершаешь против кого-то или чего-то. Потому что совершаешь ты его, в первую очередь, против себя»,— так думала Юна, выворачивая руль вправо, объезжая колдобину.
- — О чем мыслишь? — Иван пристально вглядывался в лицо жены.
- Голос мужа прозвучал неожиданно. Она была ещё там, далеко... с Симкой.
- — Ой, глянь-ка, конфетка какая едет!
- Их обогнал перламутровый «датсун». Заграничная машина сейчас тоже была неуместна в той, прошлой Юниной жизни.
- — Давай помолчим, — попросила Юна.
- Когда-то давно она прочитала, что никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнит совесть. Равноценен ли ее «сюрприз» тому порыву, что возник год назад?
- Мать Ивана жила в одной из южных областей Украины. Она часто болела, постоянно жаловалась на недомогание, Юна не придавала значения этим жалобам. Не любила свекровь за ее двуличие.
- Мария Дмитриевна плохо влияла на Ивана, и Юна старалась мешать его встречам с матерью. Год назад пришла телеграмма от соседей свекрови. Сообщали, что ее увезли в больницу с сердечным приступом. Иван собрался ехать к «мамуле», Юна решила помешать. Целый день она сидела на телефоне, дозваниваясь до сельской больницы. К вечеру дозвонилась. Свекровь звонку сына несказанно обрадовалась:
- — Не приезжай, сынок. Не надо. Я скоро сама выпишусь. Потом вместе приедете. Ванюша, сыночек, живи спокойно. Не нервничай. У тебя ведь столько дел. Соскучилась я, правда. Но ничего, бог даст — в этом году уж обязательно свидимся...
- Юна слышала ее слова в трубке параллельного телефона.
- — Вот видишь, у нее ничего страшного нет,— сказала она Ивану.— Сдам работу — дня на два туда съездим.
- Через неделю пришла вторая телеграмма — свекровь умерла.
- Иван не винил Юну, нет. Но как-то затих, отгородившись от Юны... Месяц назад она сказала ему, что едет в командировку. А на самом деле отправилась на родину Ивана и установила памятник на могиле свекрови.
- Кто бы только знал, что ей это стоило! Одному богу известно. Да и мысль поставить памятник Марии Дмитриевне пришла неожиданно и для самой Юны. Уже после смерти свекрови в редакции, где работала Юна, продавали итальянскую кофточку. Юне кофточка понравилась, и она решила ее примерить. Зайдя в туалет, она увидела в дальнем углу с сигаретами двух женщин из другого отдела. Одна из них, полноватая, рассказывала другой:
- — Я думала, памятник заказать просто, а столкнулась с этим — и испугалась. Такая очередища! Камней приличных нет.
- — Но ты ж поставила памятник, я слышала?
- Полноватая женщина засмеялась:
- — А как же! Поставила! Ты что, меня не знаешь? Я выход из любого положения найду.
- Юну как током пронзило: надо свекрови памятник поставить! «Я должна его поставить! Я!» В этот момент ей казалось, что таким жестом она как бы проведет черту, за которой свекровь больше для нее Юны, существовать не будет. Свекрови воздавалось сполна.
- Женщины потушили сигареты, собрались yxодить, а Юна никак не могла найти предлога, чтобы обратиться к полноватой женщине, узнать у нее, где та заказывала памятник. Женщина сама заговорила с Юной, заметив в руке кофточку:
- — Ой, какая прелесть! Продаете или покупаете?
- — Покупаю.
- — Мне бы такую...— вздохнула женщина. У племянницы свадьба, не знаю, что подарить.
- — У меня как раз с деньгами трудно,— соврали Юна,— могу уступить.
- С Татьяной Семеновной — так звали женщину — Юна встретилась через полчаса, когда та принесла деньги за кофточку, и разговор о памятнике завязался у них естественно и просто. Татьяна Семеновна дала Юне телефон какого-то Олежека, чтобы та перезвонила от ее имени, а уж Олежек парень золотой, он во всем поможет Юне, никаких забот у нее с памятиником не будет.
- — По-моему, он любит красивых женщин, — хохотнула Татьяна Семеновна,— а ты очень дажа пикантная.
- Юна поморщилась.
- — Да ты не кривись, не кривись,— смеялася Татьяна Семеновна,— Олежек парень замечательный!
- Два дня Юна никак не могла пересилить себя, чтобы набрать номер неведомого Олежека,— почему-то тот казался ей то помятым от алкоголя стариканом, то дешевым пижоном, одетым во все заграничное и ничего за душой не имеющим. Наконец она все же позвонила: из-за свекрови страдает, из-за той идет на унижение!
- Разговор с Олежеком был по-деловому короток. Татьяну Семеновну Олежек помнил (да и как ее забыть, такую энергичную женщину, такую компанейскую, «свою в доску»), помочь ее подруге был готов но, чтобы помочь, надо знать точно: какой памятник нужен подруге Татьяны Семеновны? Из габбро? Из лабрадора? Или из другого какого-нибудь гранита?
- — Честное слово, не знаю,— проговорила Юна.— А из чего можно сделать?
- — Из всего,— сказал Олежек.— Главное, чтобы ваши желания совпадали с возможностями.
- — Вы о деньгих?
- — О них самых. Понимаю, что на Тадж-Махал ваших денег не хватит, но некоторую сумму иметь надо.
- «Ну и Олежек! — удивилась про себя Юна.— Про индийский храм знает».
- — А сколько надо? — спросила Юна.
- — Ладно, приезжайте завтра к нам на участок, там поговорим.
- — Вы думаете, я представляю, где ваш участок?
- — Татьяна Семеновна расскажет. У нее спросите. Мне, извините, некогда объяснять, у меня гости,— не попрощавшись, Олежек положил трубку.
- На следующий день, отпросившись с работы, Юна поехала на встречу с Олежеком.
- Она не сразу его разыскала — пришлось пройти по участку. Кругом камни, камни, одни уже с надписями, другие — необработанные глыбы. На некоторых жирной масляной краской стоит огромная буква «П». Юна узнала, что это означает — продано. Она была оглушена лязгом и шумом, доносившимся со сторон. Невольно прикрыла рот и нос от зеленоватой пыли, стоявшей столбом.
- Взгляд Юны задержался на глыбе розового граната, сердце екнуло: такой бы памятник маме... И тут она одернула себя: нет, надо сперва с «мамулей» рассчитаться.
-
- Подошла к мужчине средних лет с бородкой эспаньолкой, в рваном ватнике и старенькой вязаной адидаске, который смотрел на эту красноватую глыбу, как бы примериваясь к ней.
- — Где мне найти Олежека?
- Мужчина вскинул на нее неглупые карие глаза:
- — Это я.
- — Олежеку фанеру отстегнули,— оскаблился сосед Олежека, тоже колдующий над глыбой розового гранита.
- — Заткнись, Клюква! — цыкнул на него Олежек.— Мадам таких слов не знает.
- — Ничего, узнает,— радостно загоготал Клюква,— если хочет, чтобы ее обслужили культурно.
- Разговаривали Юна и Олежек, прогуливаясь по участку, и Олежек то и дело с жаргона переходил на словарь, выдававший в нем человека, знакомого не только с технологией изготовления надгробий.
- Он объяснил Юне, что ему совсем не просто выполнить ее просьбу, что для провинции в Москве памятник заказать нельзя, но раз Юна подруга Татьяны Семеновны, то он, разумеется, приложит максимум усилий, чтобы все было сделано. Олежек говорил, а Юна гадала: «Кто он такой? Почему судьба привела его сюда?» Да, говорил между тем Олежек, он приложит максимум усилий, но не все зависит от простого каменотеса — ему тоже людей подзарядить надо, чтобы выполнить просьбу Юны.
- — Я на все готова,— сказала Юна.
- — На все никогда не надо быть готовым,— как-то двусмысленно улыбнулся Олежек.— Но к тому, что предстоят изрядные траты,— к этому будьте готовы.
- К ним Юна готова не была, но поднатужилась, засела за статьи и вскоре тайком от Ивана накопили семьсот рублей, которых ей хватило на надгробие свекрови. Пришлось даже кое-что продать из своих вещей.
- Памятник и был ее «сюрпризом». Установила — она, Юна, а не сыночек любимый.
- «Странное дело,— подумала Юна,— почему-то у тех, кого любим мы, и после их смерти в долгу... у свекрови памятник стоит, а у Фроси — нет. Двадцать с лишним лет прошло, а не собралась поставить. С чужими хочется поскорее, что ли, расквитаться, чтобы не чувствовать себя обязанным».
-
- — Какие грехи замаливаешь? — сквозь пелену времени голос Серафима едва слышно доносится до нее.— Будто дань чему-то отдаешь. И постоянство твое — иезуитское. Думаешь, не знаю...
- Хлопнула дверь. Она стоит у подъезда. И — будто гора с плеч, облегчение, определенность... Юна отправилась к Пане.
- Паня тогда часто хворала. Редкие приходы Юны становились праздником для нее. В те дни она ставила на стол традиционную четвертинку, горячие щи, которые Паня еще варила, по деревенской привычке, в чугунке. Дымящийся чугунок появился перед Юной на столе. Запах щей разносился по всему подвалу, а вконец усохшая Паня суетилась возле гостьи. Разливала по тарелкам щи, приговаривала старинную пословицу: «Щи да каша — пища наша».Юну разморило. Тепло и нега разлились по телу, и уже откуда-то издалека она слышала незатейливую Панину речь:
- — Всей семьей соберемся. Женька придет (пятидесятилетнюю Евгению Петровну Паня называла так же, как и в былые врмена), Курбаши с сапожником...
- Юна кивала ей. Она уже знала, что Рождественская добилась комнаты и для Пани поблизости от своей квартиры. Скоро Паня должна была переехать. Вещей у бывшей дворничихи было мало, но к переезду она готовилась обстоятельно и заблаговременно.
- Впервые за долгое время Юна не пошла домой. Она вдруг поняла, что дом у нее всегда был здесь, в подвале. Пускай в нем осталась только Паня, но пока хоть кто-то из его обитателей здесь — это место и будет ее домом. Юна открыла свою комнату, никому теперь не нужную, взяла у дворничихи матрац, простыню, подушку и пикейное одеяло, легла на спину. Неожиданно она поймала себя на мысли, что, когда Фрося взяла ее из детдома, маме было столько лет, сколько ей, Юне, сейчас.
- «А что я успела сделать? Ну, учусь. Скоро техниккум закончу. Еще немного — и получу диплом. Работаю. Пятый год пошел, как появилась в лаборатории. Только вот все реже и реже приходит ко мне радость «совместного труда». Может, устала? Спать ложусь поздно. Встаю рано, ни свет ни заря. Сколько сии нужно, чтобы не опоздать на работу. И никто этого не хочет понять. Вон Галкину как-то пожаловалась на недосыпание, так Демьян Клементьевич мне заявил, что «человек, преодолевая свои слабости, набирается мужества. Такому человеку легче жить и труд становится необходимостью». А Галкин все выговаривает, все наставляет: «Тебе, Юна, собраннее бы надо быть. Начала с таким жаром — просто сердце радовалось. И... остыла. Интерес в тебе к жизни, к работе, что ли, пропал. А без интереса ни жить, ни дружить нельзя».
- Но с Серафимом же я дружу... Безо всякого интереса... Хотя... только с ним мне и бывает интересно. Прав, видно, Симка, будто я грехи замаливаю, с ним встречаясь. А что, если взять и действительно расстаться? Почему бы нет? Жалко. Чего жалко? Его, Симку. А ведь в жалости есть что-то ущербное, кое-то увечье в ней есть. А как же мама пожалела меня? Выходит, жалость жалости рознь. Когда жалость — сострадание, действие, поступки, она возвышает, такая жалость становится величием духа. Вероятно, именно такой жалости — доброте — учила меня мама. Тут уж не до жалости к себе — надо видеть лучшее в других».
- Так размышляла Юна. И поняла, что если расстанется с Серафимом, то совсем пусто станет у нее на душе, что не грехи она замаливает, а отдает дань детству, как бы ставшим для них тем союзом, тем братством, членами которого они были. Ведь и он, Серафим, тоже нуждается в доброте...
-
- Может быть, даже скорее всего, так называемая «дань детству» находила свое место и в ее отношении к Евгении Петровне и Пане.
- Посещая их, Юна всегда старалась одарить каждую из них каким-нибудь сувениром. Подарки вызывали у бывших Юниных соседок радостное волнение. Ей было приятно слышать восклицания Евгении Петровны:
- — Господи, какое чудо! (А чудом была хрустальная солонка с серебряным ободком и ложечкой или шкатулочка.) Но зачем ты транжиришь деньги?! Посмотри на себя. Интересная девушка должна прежде всего заботиться о своем внешнем виде. Нет, с такими способностями раскидывать деньги ты никогда ничего себе не купишь! Ни пальто, ни туфель...
- А Паня, будто слышала, что говорила Рождественская, тоже по-своему призывала ее к бережливости:
- — Береги копейкю. Маленька... Своя.
-
- Однажды зимой Евгения Петровна сказала:
- — Вот что, девочка. В таком пальтеце на рыбьем меху больше ходить нельзя. Ты зябнешь в это ветродуе. Будем копить! Каждый месяц приноси мне сто рублей. А пока возьми,— и она достала из кованого сундука серенькую шубку из искусственной меха, которую, вероятно, носила давно. Может быть, еще до войны.
- Так Юне и скопили тогда на пальто...
-
- В то же время, вполне возможно, что эта сама «дань детству» в отношениях с Симой выхолащивала, опустошала Юну. И может быть, она не замачала или даже не хотела замечать, что здесь-то с Серафимом, в чем-то фальшивит, обманывает себя. «Видения красивой жизни», навеянные Симкиным обществом, не приносят желанного покоя и духовной удовлетворенности.
- Но случалось и так, что душа ее требовала очищения, и тогда Юна, захваченная благими эмоциями совершала то, что, по ее пониманию, могла сделать Фрося. Когда ее захлестнула очередная волна «очищения», Юна впервые рассталась с Симкой на долгое время.
-
- Как всегда, Юна выбежала из дома в последню минуту. Она едва успела проскочить через проходную и влететь в лабораторию, как тут же к ней кинулся Галкин. Всегда спокойный, солидный и обстоятельный, Демьян Клементьевич на этот раз выглядел по меньшей мере странно: волосы взлохмачены, глаза беспокойно бегают, губы трясутся.
- — Юна,— дрожащим голосом выговорил он, — Людочка... Щербак... погибает...
- — Как — погибает?! — испугалась Юна.
- — Операция была, большая потеря крови,— Демьян Клементьевич вдруг положил голову на плечо Юны. — Погибает она, понимаешь, погибает! Кровь нужна. У них в больнице резерва нет...
- Юна с трудом выяснила у Галкина, что сотрудница их лаборатории Люда Щербак была ранним утром госпитализирована «скорой помощью», определили — прободная язва. Галкин сказал также, что провел всю ночь у Люды, вызвал «скорую».
- — А где же ее муж?
- — Муж в командировке. А мы в одном доме живем. Люда мне ночью позвонила, что ей плохо...
- Тут-то Юна поняла, что свою привязанность к Щербак Галкин тщательно скрывал. Зная всю безнадежность своего чувства к Людочке, которая очень любила мужа и расставаться с ним не помышляла, он ради того, чтобы хоть видеть ее иногда вне работы, обменял свою квартиру — поселился в доме, где жила Щербак.
- — Вы давно там живете? — спросила Юна.
- — Ей же кровь нужна,— не отвечая на вопрос Юны, выкрикнул Галкин,— отрицательная!
- — Надо клич бросить,— забеспокоилась Юна.— Бегите на радиоузел. Пусть объявят. У меня точно резус отрицательный. Побегу в санчасть. А где Игорь Петрович, Лаврушечка, их надо только предупредить, чтобы меня не искали.
- — Кажется, Игорь Петрович на совещании у начальства, а Анатолий Иванович в цехе. Ты, Юночка, беги, беги. У тебя действительно отрицательный'?
- — Точно! — выпалила Юна. Про себя усмехнулась: полгода назад она сделала аборт ничего не сказав Симке. Почему? Сама не знает. То ли не захотела нарушать его покой, то ли понимала — в этой ситуации она должна сама принимать решения, независимо, правильны они или нет.
- Кровь в санчасти Юна предложила одной из первых...
- — А ты, Юночка, товарищ. Просто молодец! — сказал Галкин, когда она вернулась в лабораторию.
- Ее отпустили домой, так как у нее наступила слабость, кружилась голова и хотелось дремать.
- «Что случилось?» — спросили пружины, когда она, одетая, легла на старую кровать.
- «Хочу спать», — ответила про себя Юна.
- И сон сморил ее, будто провалилась в бездну. Глубокой ночью ее разбудил стук камешков о подоконник — один, другой. Подойдя к окну, Юна увидела Серафима. И вот впервые он оказался в ее комнате ночью. Значения этому она не придала. В квартире ведь его знали, видели, не раз читали его статьи.
- — Почему не подходила к телефону, я звонил несколько раз? — еще не переступив порога комнате спросил он.
- — Не слышала, спала...
- — Но я же слышал в трубку, как тебе в дверь стучали...
- — Не слышала, спала, — повторила Юна.
- — Все героиней хочешь быть,— не выдержал Серафим.— Новоиспеченный Гагарин. В космос, что ли, собралась? На выносливость себя проверяешь?
- — При чем тут героиня? — Юна, недоумевая, посмотрела на него.
- — Зачем тебе кровь сдавать надо было? Ее все равно не спасли.
- — Ужас... Откуда ты знаешь?
- — Звонил к тебе на работу. Там мне и рассказали о твоем «мужественном поступке». Кстати, я решил написать очерк. Даже название наметилось: «Связь поколений». Сначала о Фросе, а потом о тебе.
- — Не смей ничего обо мне писать. Нас было много.
- — Нет, все-таки зачем тебе было надо кровь сдавать?! — Его губы сложились в усмешечку.— Вас было двое, с отрицательным резусом. Может, еще у кого был, но те не пришли. Хватило двоих...
- — А долг? — Юна вопросительно посмотрела на него.
- — Долг? Ты кому-то должна?
- — Гражданский! Мама так же поступила бы.
- — Ах да, героиней захотела быть.
- Утром, когда закрывала входную дверь, Юна отчетливо услышала, как толстая директорша прошептала ей вслед: «Шлюха!»
- Серафим тоже услышал это слово, но сделал вид, что ничего не случилось. Он попытался взять ее под руку. Юна обернулась. Вспомнилось, как давно, в сорок седьмом, она бежит рядом с Серафимом и в лицо Рождественской летит ее собственный голос: «Шлюха, шлюха!»
- — Мерзость! — воскликнула Юна и бросилась бежать вниз по лестнице. Ей казалось, что это подлое слово прыгает вслед за ней по ступенькам.— Вот директоршу возьми в героини очерка! Почему о таких не пишешь?
- Вечером он встретил ее у проходной НИИ. Они шли рядом и долго молчали.
- — Выходи за меня замуж, — вдруг сказал Серафим.
- — Никогда. У меня нет ни любви к тебе, ни нужных для тебя связей — спокойно ответила Юна, хотя понимала: он делает предложение искренне. Но ведь не заступился за нее перед директоршей! — Кто я? Шлюха?! — во весь голос крикнула она. Ты-то знаешь, что это такое!
- На них оборачивались прохожие.
- С этого дня больше года Юна жила то у Рождественской, то у Пани в районе Песчаных улиц. Hа вопрос Рождественской: «Почему дома не хочешь ночевать?» — ответила: «Тоскую без вас». Ни о Симке, ни о директорше и словом не обмолвилась. Своим ответом она затронула «душевные струны» Рождественской. Так любила выражаться бывшая дворянка. А Паня, так та была просто счастлива, что «все опять всей семьей. Типерича можно. Типерича не страшно уходить... Юночка, девонька моя, тут». Рождественская и Юна прекрасно понимали, что хотела сказать Паня: ей хорошо, потому что собрались они всей семьей,— теперь ей и умирать не страшно. Да, Паня слабела все больше и уже редко вставала с постели.
- О Серафиме Юна почти не думала. Работа, забота о Пане, вечерние занятия отнимали все время. Кроме того, были у нее еще друзья — Лаврушечка и его жена Эмилия. Когда начала работать, осенью того же года Юна узнала, что у Толи есть девушка, в которую он «вкладывает душу». А весной Анатолия Иванович как-то подошел к Юне и сказал:
- — Ну что, пойдем жениться? — и протянул книгу.— Познакомься, моя невеста.
- — «Эмилия Бронте»,— прочитала Юна на обложке, ничего не понимая.
- — Вот между ними я кручусь! Поначалу с этой познакомился — в книге, понравилась, а когда узнал, что ту тоже Эмилия зовут, сразу решил — все, женюсь.
- — А сестры ее согласны? — хихикнула Юна.
- — Не, у нее сестер нету. Я еще на кладбище выяснил.
- — При чем здесь кладбище?
- — Это история длинная... Рассказать? Хорошо. Осенью пошел я на Ваганьково. Мамка велела могилу деда поправить. Только на кладбище вошел — тут же в людское море попал. К Есенину прямехонько все топают. Смотрю, посреди пути барышня стоит, симпапушечка. На церковь уставилась. Всем мешает, чуть ли не каждый ее оговаривает. Она на окрики внимания не обращает и слезы кулачком утирает. Ну, я приблизился к ней. Вопросов сразу ставить не стал: отчего, мол, слезы да кого хороните? Взял я ее за плечи и притянул к себе и тихонько на ухо говорю: «Не стесняйся, плачь вовсю. Я тебя прикрою». Она действительно прижалась ко мне и давай рыдать. Ну, думаю, конец нам приходит — так земля под нами трясется от ее рыданий. Надо, значит, отвлечь чем-нибудь, а не то впрямь земля разойдется. Спрашиваю: «Тебя как зовут, девица?» — «Эмилия». Я чуть не упал. Еще немного — и пришлось бы ей меня поддерживать. Эмилия, сокращенно Эмма, а по-нашему — Анна. Анютка, Нюрка,- значит. А мне мамка...
- — А как быть с Анной Бронте? — ехидно спросила Юна.
- — Опять перебиваешь. Продолжаю. А мамка моя мне всю жизнь говорила, что лучше «Анны» имени нету и что хорошо было бы, если бы мою жену Нюрой. Тут меня еще английская Нюра за душу взяла. «Ну, Нюра, — говорю я ей, — пойдем со мной. Умываться пора». Пока успокаивал — узнал, что это ее отца из церкви вынесли. Жил он с женой. Эмка же незаконнорожденная была. А что такое незаконнорожденная? Рождаются все по одному закону — закону любви. Мать у нее в войну умерла, осталась бабка. Потом и бабка дуба дала. За последний год привязалась Нюра к отцу. Он часто болел, все по больницам мотался. Тогда и понял, что дочка у него есть, прирос к ней душой. Других детей не имел, а жена об Эмке и слышать не хотела. Поэтому и рыдала Эмилия у меня на плече, что никого на свете у нее теперь не осталось. И пошла девица со мной. Идем и идем. Думаю, надо же поминки строить. Завел в кафе-мороженое. По полкило мороженого съели! Дальше пошли. Я незаметненько, так, между прочим, пытаю. Чем занимается, сколько лет на данный момент набрала? Выясняю, чуть старше тебя. Тебе сколько сейчас? Месяц, как восемнадцать исполнилось. Я-то помню, что восемнадцать. Тебя проверяю. Может, забыла. Продолжаю дальше. Гляжу, а мы к мамке моей пришли. Отчима нет, он на Север шоферить завербовался, а она с младшими, моими сводными. В квартире отчима места много — две комнаты! Пошевелил я извилинами, и показалось мне, что небось скучно мамке моей с малышней: сестренка в саду, брательник в интернате. Дай Нюру к ней определю. Значит, беру я Нюру за руку, а лицо у нее из-за слез словно тесто, в кастрюле поднявшееся, и ввожу в квартиру. У нее глаза испуганные. Никак не поймет, куда ее привел.
- «Вот, мама, познакомься,— заявляю,— Нюру тебе привел. Присмотрись к ней. Теперь вам двоим около меня всю жизнь быть. Привыкайте сразу друг к другу, чтобы потом дров не ломать».
- Эмилия моя совсем оторопела. Головку ко мне тянет, словно стебелек к солнцу, ресницами недоуменно шлепает. А мать — прямо каменной бабой стала, не шелохнется.
- «Вы что?! Уже сразу столковаться не можете?! — говорю ей.— Ты Нюру хотела? Вот тебе Нюра. Тебе тошно одной? — уже к Нюре вопрос— Вот тебе дом. Столкуетесь — хорошо. А нет — все равно придется притираться. Так что давайте сразу начинайте».— Лаврушечка, будто посмеиваясь над собой, весело улыбнулся Юне и продолжал рассказ: — А потом, у меня характер знаешь какой?! Я сам кого хочешь боюсь. Только виду не подаю — командую.
- С тех пор мать ее Нюрой и зовет. Эмилии не нравится — но терпит. Эмка любит по ночам книги читать, а мать злится — но тоже терпит... А я думаю: еще немного — и друг без друга они жить не смогут. Ну, а теперь пора. Пойдем. Свататься буду. Пора жениться...
- Дома у Лаврова дверь им открыла Нюра-Эмилия.
- — Это фуфелка,— сказал Лаврушечка, обращаясь к Эмилии.— А это — моя Эмилия...
- Слово «Эмилия» он произнес с неожиданной для Юны нежностью. Он не сказал — моя любимая, моя ненаглядная, моя единственная. Лишь произнес — Эмилия.
- С тех пор Юна жену Лаврова иначе, как Эмилией, не звала. Через год у них родился Андрюшка. Эмилия заставила своего Анатолия Ивановича поступить в заочный институт. Так с Паней и семьей Лаврушечки Юна почти забыла о Серафиме...
-
- Прошло полтора года. Февраль был на исходе. Она защитила диплом. Это событие отметили «всей семьей» у Пани, потому что была она прикована к постели и как говорила: «Здеся задержавшись. Последние минутки». Через пять дней эти минутки и впрямь оказались последними: Паня умерла. Юна решила позвонить Серафиму, предложить ему проводить бывшую дворничиху в последний путь. Хотелось показать новым соседям Прасковьи Яковлевны, каким уважением она пользовалась: даже известный журналист пришел на похороны.
- — Конечно, приду,— сказал Серафим Юне, узнав о смерти Пани.— Теперь у тебя только «Женька» и осталась.
- От слова «Женька» на нее дохнуло детством и таким родным, что она еле сдержалась, чтобы не разреветься.
- На поминках Серафим говорил о Пане те слова, которые казались Юне единственно верными:
- — У нее не было родственников. Но мне очень жаль Юну, Евгению Петровну, Николая, дядю Володю да и себя тоже, потому что мы больше никогда не услышим про «спальни», «типерича». Прасковь Яковлевна была для нас своего рода эпохой. В ней отражалась и доброта, и мудрость народная...
- После поминок Юна и Серафим сидели вдвоем и говорили о Пане, о Рождественской, о своем детстве, оставшемся в небольшом московском дворе. Вдруг Симка неожиданно спросил:
- — Ты почему коронку не поставишь? Сейчас делают прекрасные, белые.
- Юна ясно вспомнила снежную горку во дворе. Ребята притащили откуда-то дырявое корыто и, влезая в него парами, с грохотом скатывались с горки вниз. Юна должна была сесть в корыто с Вовкой Романцом, крупным, сильным мальчиком. Едва она нагнулась, чтобы сесть в корыто, как Вовка решил развернуть его поудобнее. Он со всей силы пнул корыто ногой. Оно подскочило и задело девочку по лицу. Юна упала. Она еще лежала в снегу, а дети, толкая друг друга, стараясь один опередить другого, перескакивали по ступенькам подвальной лестницы вниз и кричали, что Юнку Романец корытом убил. Услышав это, Фрося осела на пол, и Паня не знала, что делать. То ли бежать к Юне, то ли отхаживать Фросю.
- — Женька,— истошно закричала Паня,— выдь сюды. Хроську... убили. Да держи ее. Побигла на двор. Ой, что ж будет!
- — Да кого убили?
- — Ой! Корытом. Девку нашу. Корытом.
- Евгения Петровна терла Фросе виски нашатырем, а сухонькая Паня, как молодая, поскакала вверх по лестнице вслед за детьми.
- И как же она обрадовалась, когда, ощупав вставшую Юну, выяснила, что та жива и целехонька, что только-то ползуба всего и лишилась! Не проронив и слезинки, Юна вдруг оторвала сама повисший кусочек зуба и расхохоталась:
- — Теперь буду щербатая!..
- — Чево радуешься? Там Женька, Хроська лежит. Типерича делать-то что? Милок, а?
- И, взяв ее за шиворот, как провинившуюся, потащила в квартиру.
- — Вона она! Живая! Да очухнись ты,— затормошила она Фросю.— Вона — живая. Щербатая. Надо щи исть. Тащи, Женька, коняку. Водка моя вся вышла.
- «Воскресение» Юны было отпраздновано. Но коронку Юна так и не поставила — щербинка была заметна, только когда она улыбалась широко и открыто. Поэтому улыбаться она приучила себя сдержанно.
-
- Еще во время преддипломной практики Юны в лаборатории появился новый сотрудник — Нина Моисеева, маленькая белокурая женщина лет двадцати пяти — двадцати семи. Нина сразу вписалась в коллектив. Была услужлива, кому-то что-то доставала, приносила то торт, то пирожные. Для любого человека у нее находились комплименты. Можно было подумать, что только ласкательные суффиксы существуют в ее лексиконе. Кроме того, она как-то по-детски всему удивлялась. Наивно раскрыв глаза, неизменно тихо произносила: «Надо же!»—смотря по обстоятельствам, с различными оттенками.
- Нина говорила тихо, уверенно, с неким достоинством. Еле шелестящий голос Моисеевой приводил в замешательство Лаврова. Если Нина стояла рядом потупив глаза, а потом словно невзначай смотрела на него и говорила: «Ох, Толечка, какой ты лапушка!» — тридцатилетний Анатолий краснел, как мальчик.
- В общем, Юна заметила, что с Лаврушечкой творится что-то неладное.
- — Нинок, подружка ты моя ненаглядная, ты чтой-то к женатому человеку вяжешься? — однажды наигранно-шутливым тоном спросила ее Юна, а глаза так и сверлили Моисееву.
- — Что? Что такое? — Нина недоуменно посмотрела на Юну. Казалось, сама непосредственность, сама искренность...
- Нельзя сказать, что Юна подружилась с Моисеевой. Просто она чаще, чем другие, слушала ее незамысловатые истории. В них Нина всегда играла роль женщины доверчивой, обманутой, обиженной... То она теряла деньги, которые ей потом собирали всей лабораторией, то ломался замок, и она опаздывала на работу, то была жестоко брошена кавалером.
- — Представляешь...— едва слышно, потупив глаза, начинала рассказ Нина,— познакомилась я с журналистом...
- Тут она останавливалась. Еще секунда — и пепел с сигареты упадет на платье. И вдруг нет уже томности во взгляде, отрешенности человека, отдавшегося воспоминаниям. Она решительно гасит сигарету, угадав мгновение, когда горячий пепел мог упасть на платье. И затем продолжала так же доверительно, как и начала. Журналист этот, оказалось, работал курьером в редакции! Вечером же учился в мясомолочном техникуме. Вот, оказывается, в чем трагедия.
- — Ну, почему мне всегда так не везет? — говорила Нина, потупив глаза.— Вот познакомиться бы с красивым, умным, замечательным человеком...
- Но отчего с каждым днем нарастала тревога в Юнином сердце? Может быть, из-за этой тревоги она однажды намеренно унизила Лаврушечку, когда тот что-то объяснял Нине? Очевидно, Толя нервничал, лоб у него покрылся испариной.
- — Росу со лба утри,— язвительно произнесла Юна. Она понимала, что ему будет неприятно, но все же сказала. Он уже и сам в тот момент подносил платок ко лбу.
- — Юнона! Проверь схему усилителя,— необычным тоном приказа произнес в ответ Лаврушечка.
- Юна хотела возразить, но официальность обращения сломила ее. К тому же она еще никогда не слышала от других своего полного имени. Оно прозвучало каким-то чужим и незнакомым. Юна поняла, что Лавров ставит ее на место, отсылает ее из комнаты. У нее было такое чувство, будто на нее упал забор.
- С тех пор они с Лаврушечкой почти не разговаривали. Эмилия звонила, спрашивала, почему Юна не приходит. Она ссылалась на дипломную практику, да и Паня тогда находилась в тяжелом состоянии. Отговорки вроде бы выглядели убедительно.
- Холодок в отношениях с Лаврушечкой наступил впервые. Все размыто, неопределенно, тревожно. Юна словно пловец: заплыла далеко в море и возвращается обратно. Берег чуть виден, вдали он расплывчат. Но вдруг проглядывает солнце и делает очертания четкими. Кажется, еще немного — и достигнешь желанной земли. Один гребок, другой — вот он, берег! А встать во весь рост не можешь — нет дна. Так и сейчас — какую-то тревогу чувствует она, но объяснить не может. Неожиданно все встает на свое место. Вчера Юна случайно услышала жесткий голос Моисеевой:
- — Думаю, нечего с ней церемониться...
- Да, конечно, подслушивать нехорошо, но Юна уже вошла в комнату. Нина говорила по телефону, не замечая ее. Юна впервые услышала уверенность в ее голосе:
- — Понимаю, что вы больны. Но другого времени не будет,— говорила Нина.— Я точно знаю. Лебедева подделала справку о травме. Она сама мне сказала об этом. Да, я хочу занять ее место. Вы не ошиблись. Нет, я не шучу. Увольняйте ее. Иначе скажу, что вы покрываете ее, где надо. Нет, голубчик вы мой, это не шантаж! И еще я точно знаю, что она ваша любовница. Нет, никто не слышит. Но если понадобится —услышат все. У вас партийный билет в кармане. Подумайте...
- Дальше Юна слушать не стала и незаметно вышла из комнаты. Она была потрясена неожиданным открытием. Нина звонила шефу, Игорю Петровичу домой.
- «Он же с сердечным приступом»,— пронеслось у нее в голове. И Юна вспомнила, как Нина однажды пожаловалась ей на Веру Лебедеву:
- — Юнчик, право, не знаю, что мне делать? Был один кавалер — и того увели. Представляешь — кого? Курьера... И кто, думаешь? Верке он понадобился. Мало ей нашего начальника...
- — Откуда ты про шефа знаешь? — перебила ее тогда Юна.— Может, это вранье...
- — Когда мне надо, я все знаю! Здесь один Толечка — лапушка...
- Потом на собрании Игорь Петрович, глядя себе на живот, объявил о том, что Лебедева подделала правку о травме. Затем выступила Моисеева и тихо, но, казалось, убежденно говорила о необходимости бескомпромиссного отношения к любым нарушениям порядка и законов. И еще о принципиальности и честности. Стояла глубокая тишина. Вдруг прозвучала пощечина. Юна ударила закончившую говорить Нину. Вытирая руку носовым платком, Юна пошла к двери.
- — Ребкова, вернитесь,— Игорь Петрович пристально посмотрел на нее.— В чем дело? Что это за выходка? Позор...
- — Она знает.
- — Вот тебе и подруги,— сказал Лаврушечка.
- — Напишите докладную,— обратился Игорь Петрович к Моисеевой,— а вы, Ребкова, объяснительную. Придется обсуждать ваше поведение.
- — Никаких объяснений давать не буду,— резко ответила Юна.— Можете увольнять... Как Лебедеву.
- Никто ничего не мог понять, кроме, может быть, шефа...
- Юна Лебедеву не оправдывала, но ей было обидно, что подделка так бы и осталась никому не известна, если бы не злополучный курьер. Оказалось, что это было не первой подделкой Лебедевой и Моисеева знала об этом. Но говорить Юна никому не стала. После этого собрания Юна Моисееву не замечала. А тревога за Лаврушечку и Эмилию все нарастала. Что-то надо было делать. Но что? Лаврушечка тянется к этой ядовитой гадине, к этой зубастой щучке. Вот что не давало Юне покоя. Хотя они с Лаврушечкой еле здоровались, спасение его Юна считала своим святым долгом.
- «Хорошо, что вовремя остановилась и не позвонила Эмилии, не растревожила своими подозрениями. Надо с тетей Женей посоветоваться»,— решила Юна.
- Семья Лавровых была знакома Рождественской. Несколько раз Юна приводила их к Евгении Петровне в гости.
- — Может, тебе все это показалось? — разволновалась Рождественская.— Анатолий Иванович человек такой серьезный, умный,— сказала она, услышав о Нине.
- — Какой он серьезный?! Все шутит и балагурит.
- — Неправда. Он — человек, очень ответственно относящийся к жизни. Не могу я себе его другим представить.
- — А если он влюбился в эту щучку? Да, щучку, она даже щукой не станет! — Юна яростно спорила, переходя на крик, словно в комнате, кроме них, было полно народа и она хотела всех перекричать.
- — Не кричи. Я не глухая,— остановила ее Рождественская.
- —Я не кричу. Я просто возмущена! Эта щучка...
- — Что ты заладила «щучка да щучка»! Может, он в Нине увидел то, чего ты в ней не видишь? Может...
- — У нее, кроме желаний прекрасной жизни, ничего за душой и нет,— настаивала Юна.— Если бы не несчастный курьер, она о Лебедевой бы даже не вспомнила. И о чести, и о долге не вспомнила бы. Когда ей надо, она на все пойдет. На любую подлость, я знаю...
- — А может, ты ошибаешься?
- — В чем? В чем я ошибаюсь? В том, что она в чужую семью лезет? Или в том, что у нее эти понятия про черный день спрятаны? Ей, как она говорит, «экзотического» хочется! Спасать Лаврушечку надо...
- — Все-таки спасать, может быть, никого и не надо? — Евгения Петровна подмигнула Юне.
- — Ну как вы ничего понять не хотите! Он-то ведь на нее смотрит!
- — А она на него?
- Юна смутилась:
- — Думаю, она никак...
- — Но, может быть, он ей совсем и не нравится?! Может быть, ей кто-то другой нужен? А ты — «спасать».
- Но Юна-то знала: спасать надо!
- Юна решила: «Помирюсь с Ниной. Извинюсь перед ней, хотя она и безнравственная дрянь. А чем, собственно говоря, плоха Нина? С Лаврушечкой кокетничает, в себя его влюбляет? Если бы не Лаврушечка, а другой, то тогда что? Все в порядке? И Нина — нравственная?»
- «Тогда мне было бы на нее наплевать»,— сама себе ответила Юна.
- Она не подумала о том, что ее равнодушная связь с Серафимом может быть не менее безнравственна, чем поведение Нины Моисеевой. После смерти Пани отношения Юны и Серафима вернулись на круги своя.
- ...Теперь Юна ездила в собственную кооперативную квартиру Серафима в девятиэтажном блочном доме, находящемся в районе Текстильщиков.
- У нее мелькнула идея познакомить Моисееву с кем-нибудь из «блестящих парней», отвлечь ее таким образом от Лаврушечки. Но для этого по крайней мере надо с ней помириться. А как? Да еще найти такого, на которого Нина бы клюнула. Юна стала перебирать в уме Симкиных знакомых, работающих с ним в редакции. Во! Миша Ахрименко! Парень он видный, красивый. Ухаживать умеет. Недаром все бабы от него без ума! А главное — журналист. Моисеева наверняка обалдеет. Это не какой-нибудь студент мясо-молочного техникума. И день рождения у нее, Юны, скоро, так что можно пригласить Мишу и Моисееву. Отпраздновать у Симки. Но какой же найти повод?
- Повод нашелся сам собой. У каждого свои маленькие слабости. Была такая слабость и у Нины. Любила она грызть орешки. И надо же такому случиться — щелк — и передний зуб вместе с расколотым орешком лежит у Нины на ладошке.
- «Щучка обломала зубы»,— не без ехидства подумала Юна, а вслух сказала:
- — Не горюй. У меня сосед — протезист. Вечером поедем, он тебе за два дня все сделает. А то будешь месяц с дыркой во рту ходить.
- Моисеева удивленно вскинула на нее глаза, в которых стояли слезы.
- — Ты... после всего... предлагаешь помощь?..
- — Я давно хотела попросить прощения. Извини мою несдержанность. Я тогда погорячилась. За Лебедеву стало обидно, впрочем, она этого не стоит. А к врачу прямо сегодня давай свожу.
- Так и помирились.
- И наступил день рождения. Впервые Юна его отмечала вместе с Серафимом. В своей «порядочности» она не сомневалась и не видела схожести своего поступка с поведением Моисеевой, которая, по ее же разумению, «сподличала с Лебедевой». На вечере Нина не сводила глаз с Ахрименко. Клюнула! Да и вечер удался. Ахрименко рассказывал интересные истории. Симка тоже был в ударе. Он подливал Нине коньячку, срывался с места, протягивал к ее сигарете зажигалку. Нина хохотала и кокетливо острила.
- «Наверно, и сама не предполагала, что ей будет так весело и интересно здесь, когда спрашивала о гостях»,— подумала Юна.
- — Иди потанцуй с ней,— предложила Юна Симе увидев, что Моисеева остановилась у книжной полки.—Я'пока посуду помою.
- — Давай помогу.
- — Нет, иди потанцуй. Можешь продолжать за ней ухаживать! — она лукаво подмигнула.
- — Ревновать не будешь?
- — Еще чего! Правда-правда, поухаживай за ней.
- — Ну и порочная ты все-таки.
- — Опять?! — возмутилась Юна.
- — Не буду, не буду. Смотри, а вдруг и по правде начну за ней ухаживать?
- Нет, Юна знала, что сегодня он ни за кем по-настоящему ухаживать не будет. На ней было то же шерстяное черное платье, в котором она недавно была на похоронах Пани, на шее косынка цвета перванш. Косынку когда-то подарила ей Эмилия. Узкий блестящий поясок подчеркивал ее тоненькую талию. В маленькое кухонное зеркальце возле холодильника Юна мельком взглядывала на свое раскрасневшееся веселое лицо, слегка растрепанную «бабетту» и чувствовала, что хороша! Слегка опьянев, Симка вертелся рядом, признаваясь ей в любви. Наконец он ее уволок из кухни.
- — Надо вот так на всю жизнь,— одной рукой он нежно держал ее за талию, а другой менял пластинку.— Меня пугает... твое постоянство...— непонятно к чему произнес он, жарко дыша ей в ухо.
- Гости разошлись незаметно. Когда Юна, закончив уборку, вошла в комнату, то увидела Симку, который сидел в кресле, безжизненно свесив голову. Хмель взял свое. Постелив, Юна затащила его на тахту, раздела и накрыла одеялом. В тишине чужой комнаты тихо тикал будильник. Потушив свет, Юна легла рядом с Симкой, стараясь его не касаться.
- «Зачем я здесь?» — вдруг подумала она.
-
- ...— А Нина такой хорошенькой стала,— неожиданно сказал Лаврушечка сам себе. В комнате, кроме него, была Юна.
- — Еще бы! Она ведь влюбилась,— притворно безразличным голосом произнесла Юна, искоса посмотрев на Анатолия.
- — В кого же? — с трудом, как-то запинаясь, спросил Анатолий.
- — В одного журналиста,— Юна увидела его растерянность, и чувство торжества у нее пропало.— Я пошутила,— сказала она.
- Но Лаврушечка. очевидно, ей не поверил.
- Спустя два месяца после дня рождения Нина сама внезапно ушла из НИИ, да и вообще уехала из Москвы. Всякие отношения между Юной и Ниной оборвались, а точнее, рассеялась видимость всяких отношений. Увольнение Моисеевой Юну даже обрадовало — Лаврушечка теперь был спасен.
- Юне казалось, что все у Лаврушечки идет наилучшим образом. Его повысили, дали ему группу. Теперь — он руководитель. Вот-вот станет дипломированным инженером. Однажды Лаврушечка предложил Юне перейти к нему в группу и заняться расчетами. Она отказалась, сказав, что у Галкина ей будет интереснее, что и так утомляется на работе, а расчеты — тоска зеленая, уснуть можно.
- — Нет, уж лучше я с паяльником в руках работать буду, чем с ЭВМ. К тому же и тебе самому пока надо освоиться. Дело новое...
- — Как хочешь,— ответил Лаврушечка,— но только сама знаешь: Галкин — не я. Ошибки он тебе не простит. И у него не посачкуешь...
- — Ничего. Как-нибудь притремся друг к другу. Не первый год работаем в одной лаборатории, — ответила Юна.— А не сработаемся, так...
- Как в таком случае поступит, она не знала, поэтому и не договорила.
- ...Прошло четыре года. Однажды Юна проспала, позвонила Галкину и попросила написать от ее имени заявление об освобождении на три часа. Галкин что-то недовольно пробурчал, однако заявление такое написал. Через неделю она утром задержалась у Серафима, помогая ему собираться в командировку. И опять позвонила Галкину.
- — Демьян Клементьевич, а я снова проспала! — сообщила ему об этом Юна как о чем-то радостном.— Я в одном доме нахожусь. Отсюда далеко ехать. Вовремя на работу не успею. Не подведите, голубчик! Сделайте одолжение, напишите еще раз заявление. Юна чувствовала, что явно фамильярничает, но уже остановиться не могла.
- — Это безобразие! Халатность! Просто недобросовестность! Я не могу потворствовать разгильдяйству! — закричал в ответ Галкин.— Ты, Юна, в последнее время изменилась до неузнаваемости!
- — Так вы напишете заявление или нет? — перебила его Юна.
- — Нет!..— и Галкин бросил трубку.
- Юна спросила у Серафима:
- — Как быть?
- Тот пожал плечами:
- — Откуда я знаю? — И спросил в свою очередь: — Не помнишь, электробритву мы положили? — А потом как-то рассеянно добавил: — Придумай что-нибудь.
- Юна прогуляла целый день. Через неделю на собрании обсуждался не только ее прогул, но и, как сформулировал Галкин, «недобросовестное, халатное отношение к работе».
- Юна смотрела на сотрудников и ничего не могла понять: «Неужели все эти десять лет у меня не было ничего хорошего? Даже Моисееву с пощечиной не забыли. Значит, невыдержанная я, грубая. Большого мнения о себе, а оснований для этого нет никаких»,— Юна возбужденно переводила взгляд с одного сотрудника лаборатории на другого, ища поддержки. Тут слово взял Игорь Петрович:
- — В общем, учитывая долголетнюю работу Ребковой и то, что такое с ней произошло впервые, предлагаю ограничиться постановкой на вид.
- — Ребкова человек неглупый. Должна понять, что все к ней относятся хорошо, доброжелательно. Просто она что-то с катушек сорвалась! — выкрикнул с места Галкин.
- Шеф заметил ему громко, на всю комнату:
- — А вам, Демьян Клементьевич, не мешало бы вникать, интересоваться, что происходит с вашими подопечными не только на работе, но и дома. Нельзя быть таким сухарем...
- Через два дня после собрания Галкин, ни о чем не предупредив Юну, вместе с Анной Павловной, руководителем другой группы, заявились к Юне домой. Вероятно, они полагали, что разговор с соседями прояснит для них личную жизнь сотрудницы. Но ничего, кроме того, что у Юны «есть кавалер», как выразился слесарь-сапожник, они не выяснили. Лишь Тамара Владимировна, директорша, добавила, что соседка их «имеет привычку скрываться неизвестно где по ночам». А когда Юна пришла домой, Тамара Владимировна с презрением ей бросила: «Достукалась! Приходили с работы твоей... Допрашивали нас...»
- Юна озлобилась, оскорбилась, высказала свое мнение по поводу «подлости Галкина» Игорю Петровичу и написала заявление об увольнении. Когда оформляла «бегунок», ее встретил в коридоре и отозвал в сторону Лавров.
- — Меня все время мучает вопрос...— сказал он. — Но не знаю, как начать разговор...
- — А так с него и начни,— улыбнулась Юна.
- — Зачем ты совратила Нину? (Юна непонимающе посмотрела на него.) Не делай вид, что не знаешь, о чем я говорю. Зачем ты ее познакомила с тем журналистом?
- Юна растерялась: «Откуда он знает? Я же ему никогда не говорила о своих кознях».
- Между тем Лавров продолжал:
- — Нина была очень чистым человеком. Теперь — уехала... Я ее провожал. Она мне на прощание знаешь что сказала?
- — Произнесла цитату откуда-нибудь...— усмехнулась Юна.
- — Она мне сказала... твоя Юнона надломила мне душу.
- — Она была щучка! — вырвалось у Юны. — Мелкотравчатая щучка!
- Как щука могла быть «мелкотравчатой», Юна и сама не знала. Но, когда она хотела сказать, что какой-то человек мелок в своих помыслах, поступках, она всегда называла его мелкотравчатым.
- — Откуда ты знаешь? Ты интересовалась ее жизнью? Взяла и подсунула ей журналиста!..
- — Я тебя, дурака, спасала! Чтобы ты мог всегда говорить «Эмилия» так же, как когда нас познакомил! Нина была и сплыла! А вы есть! И Андрейка есть! И я с вами есть!
- — Откуда в тебе такая жестокость! — удивился Лаврушечка.— Ты же добрый человек. Неужели ты не понимаешь, что толкнула ее в среду, которая ей была чужда? Нина сначала не поняла, думала — там свет и радость, а на самом деле — все обман, мишура! И потом, ты спросила у меня — нужно ли меня спасать? Может быть, спасать никого не надо было, может быть, тогда я Эмилию любил еще больше! Ведь она понимала, что со мной что-то творится, но не трогала меня! От Эмки я никогда в жизни не ушел бы! Понимаешь? Она у меня навсегда. И Нину бы не совратил. Я к ней как к ребенку относился. К тому же не нравился я ей, кретинка ты стоеросовая!
- Юна была ошеломлена. Но взяла себя в руки и быстро заговорила:
- — А меня тебе не было жалко? А? Когда аборт делала от Симки? Не жалко, что я десять лет жила с человеком, которого не любила? Вспомни, когда кровь для Люды Щербак сдавала, ты ведь уже догадывался, что у меня аборт был! Ведь о резусе раньше только в роддомах говорили!
- Говоришь сейчас — чистая, светлая Нина. Я, мол, ей душу надломила! Да не о душе ты ее печалишься. О себе! Неприятно, что сорвалась рыбка-то. Нет, о ней я не думаю хуже, чем она есть на самом деле. И о тебе не думаю плохо. Но с тобой можно дружить, а с ней — нет! Знал бы ты, какие подлости она делала Ахрименко: этот мужик еле спасся от нее. Она его чуть вконец не зашантажировала. Знал бы ты, почему Лебедеву уволили! Да ту, четыре года назад! Думаешь, за подделку документов? Нет — это для официального сообщения. А на самом деле — увела у Моисеевой курьера, которого ты всерьез не воспринимал. Да, вот такие-то дела... Нет, не душа у нее надломилась, а планы полетели к черту, когда Ахримен-ко ее раскусил и сорвал с нее маску...
- Не всегда все складывается, как тебе хочется. Бывает и на старуху проруха. Надо же такому случиться, чтобы меня мамин однополчанин разыскал — из ее бывших раненых. У него и сейчас на теле живого места нет, весь в осколках... Один даже в легком застрял. Врачи удивляются, а извлекать не советуют, боятся навредить, да и организм уже приспособился. Пришел он к маме, как к родной. Событие у него радостное. Женится он в сорок лет. В первый раз. Все боялся в тягость быть. А здесь нашлась молодая, кроткая, очень милая женщина. Расстроился очень, что нет мамы в живых, что нелепо погибла в аварии. И вытаскивает мне из кармана пиджака фотографию женщины той кроткой. Смотрю — глазам не верю: Моисеева улыбается. Я ахнула, все маминому однополчанину рассказала. Нисколько не жалею, что сделала. Узнай я все снова — сделала бы то же самое.
- С того дня Юна рассталась с Лаврушечкой на долгие годы...
-
- В том же году она окончательно рассталась и с Серафимом.
- Говорят, что человек может привыкнуть к любым жизненным обстоятельствам, но полюбить Симу Юна так и не смогла. Она привыкла к тому, что он всегда есть. Да и его это устраивало: Юна ему не изменяет, несмотря на его другие связи и увлечения. Юна была удобной возлюбленной. Хотя непонятное ее постоянство, непонятная покорность судьбе порой бесили его и настораживали. Он как будто все время ожидал взрыва. Но шли годы, и все оставалось по-прежнему. Она стала необходимым предметом его бытия.
- И вдруг она ушла от него.
- Прошло несколько дней, как Сима вернулся из командировки, но голоса не подавал. О его возвращении Юна узнала нечаянно — обмолвился один из сотрудников редакции, когда она позвонила Серафиму на работу. Она поняла, что Серафим избегает ее: вероятно, у него очередное увлечение. Он всегда себя вел подобным образом, когда у него появлялась новая женщина. Юна решила зайти к нему без предупреждения. У нее был свой ключ от его квартиры, который он ей доверял — на всякий случай, присмотреть за квартирой.
- — Что еще за наваждение! Почему без звонка? — раздраженно встретил ее Сима.
- — Принесла тебе ключи. Они мне больше не нужны. Вот и все...
- — Получила отдельную квартиру? — насмешливо спросил он.
- — Нет. Квартиры я не получила. Я получила больше. Полюбила!.. Не тебя!..
- Серафим недоуменно поглядел на нее. Он был так уверен в ее постоянстве. Но сейчас понял — это все, точка...
- — Я решил жениться! — Серафиму захотелось сделать ей больно, уязвить.— Знаешь, пора обзаводиться семьей. Как-никак достиг возвраста Христа! Женился бы на тебе. Да у тебя не может быть детей.
- И все-таки он сильно волновался. Чтобы совладать с собой, вышел в кухню. Оттуда донесся звук воды, лившейся в стакан.
- Юна села в кресло перед письменным столом. На столе лежала знакомая ей синяя папка. Серафим вынимал эту папку в редких случаях, когда требовались какие-то документы. Юна стала осторожно перебирать бумаги, и вдруг ее пальцы коснулись маленького поблекшего букетика незабудок.
- «А он все-таки сентиментален,— подумала Юна, вертя букетик в руках.— Интересно, где сентиментальность в нем пряталась? Может быть, этот букетик был для него своеобразным талисманом? Но теперь мне это уже все равно». Она положила букетик на место и закрыла папку.
- В этот момент Серафим вернулся в комнату.
- — Рожать я могу,— сказала она ему спокойно. — Пять лет назад представился случай проверить. Я сделала аборт. От тебя. Не хотела тебя связывать. И замуж за тебя выходить. А теперь — прощай, Сима...
- Юна подошла к нему, приподнялась на цыпочки и поцеловала в щеку.
- — В общем, я на тебя не сержусь!
- Когда за ее спиной щелкнул замок, Юна поняла, что захлопнулась дверь за их юностью.
- В скором времени Серафим опубликовал свой первый рассказ, где прообразом героини была Юна.
-
- Много лет спустя, читая произведения Серафима, Юна увидела, что она присутствовала почти во всех его романах и рассказах. (Как и букетик засушенных незабудок в папке с особо важными для него бумагами.) Она была, оказывается, всю жизнь рядом... почти тридцать лет.
- А в тот день она, Юна Ребкова, поняла, что такое любовь!
-
| Олег | 23:48 26.08.2011 |
| спасибо большое .....Инночка пишите ещё..... | |
| Наталья | 17:39 02.04.2013 |
| Эта книга из моего детства. Как старый друг. Память о маме, мы отдыхали в санатории и я от нечего делать начала читать и не могла остановиться. Спасибо за Юнону . | |
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





