ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

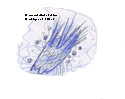
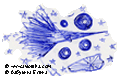
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Чуковская Лидия
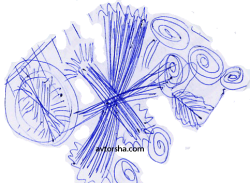
- Ну, вот вам и Литвиновка ваша,— сказал шофер, еще раз круто повернув лес и лиловый снег перед моими глазами. Когда я увидела финские домики, летящие навстречу, мне сделалось не по себе. После трех часов холода в поезде и часа в машине не такого конца путешествия мне хотелось. Там, верно, рукомойники в сенях, пахнет кухней, мокрые дрова возле печек — убогий, не любимый мною, дачный зимний уклад. Дует от дверей и от окон...
- — Приехали!..—
Мой случайный спутник по санаторной
машине, Николай Александрович Билибин,
распахнул тяжелую шубу и нашарил у ног
шофера портфель. Но машина шла дальше,
стайка финских домиков, расступившись,
убежала назад; еще поворот — и машина
остановилась у подъезда большого
каменного двухэтажного дома.
Девушки в белых халатах поверх ватников выскочили на мороз нам навстречу.
Мы переступили порог. Девушки уже несли чемоданы.
— Сюда, пожалуйста... Раздевайтесь, пожалуйста...— говорила нам полная дама с крашеными волосами и мушкой на розовом лице.— Аня, помоги же снять пальто. Видишь, товарищи замерзли... Чемоданы в 14-ю и 8-ю... Очень замерзли? Ничего, сейчас мы вас отогреем. Теперь вы дома... Сейчас мы вас зарегистрируем.
После регистрации документов полная дама — видимо, сестра-хозяйка,— плавно ступая впереди, повела нас обоих наверх по широкой, в два марша, лестнице. Ковры в гостиной, сверкающий рояль, сверкающий паркет — нет, это не дача, скорее благоустроенная гостиница. Тепло, тихо, гудит и позвякивает чуть слышно паровое отопление. Красная дорожка вытянулась во всю длину коридора. Тут, наверху, важная тишина, не нарушаемая звуками шагов.
Сестра-хозяйка открыла перед Билибиным одну дверь, передо мной — подальше — другую.
И вот я у себя дома. Из гостиной донесся мелодичный, глубокий звон часов, и сразу стало слышно мерное, трудолюбивое тиканье электростанции. Наконец я буду жить одна в комнате, впервые после войны. Как будто у себя дома, в Ленинграде. Сидеть за письменным столом, который не надо три раза в день превращать в обеденный. Работать в тишине. И мысль или догадка не будет переехана, изувечена чьими-то словами на кухне... Я приложила ладонь к синей трубе парового отопления: горячо.
В этих чужих стенах можно наконец опомниться, встретиться с самой собой.
Но по-видимому, встреча предстоит мне нелегкая, потому что я сразу же начинаю ее избегать. Сколько лет может быть этой даме?— лениво раздумываю я. Глаза с поволокой, золотая модная прическа, на пальцах кольца с зелеными квадратными камнями... Я думаю, она презирает коммунальные квартиры и служба в таком нарядном доме ей очень по душе. «Писатели — такой интересный народ! Конечно, есть и среди них грубияны, но в общем — свободная профессия, что ни говорите, облагораживает...» Сколько нашей хозяйке лет? Двадцать восемь? Тридцать восемь? Только по Москве она, вероятно, скучает и со случайной машиной все норовит съездить туда, сделать маникюр, побывать в театре. Наверное, здешний чистый воздух и лес в снегу надоели ей до смерти.
Я осторожно заглянула в окно. Сумерки. Лес спускается в овраг — там плотный, улежавшийся снег — за оврагом пригорок и на него выбежали елочки, еще молоденькие, с желтизной, как цыплята, а впереди всех, наверху, самая хорошенькая, стройная и молодая. Добежала первая до самого верха и стоит. А там, за елочкой — деревня. «Кузьминское» — говорил шофер. Домишки словно нарисованы неуверенной детской рукой: две кривые линии крест-накрест — крыша, косой квадрат побольше — стены, косые квадратики поменьше — двери и окна.
Я зажгла свет. За окном все исчезло — и снег и домики.
Я задернула шторы и обернулась. Теперь я с комнатой лицом к лицу. Вот где я буду жить 26 суток. Я оглядывалась медленно, с опаской, исподлобья. Синие стены, синие трубы, низкая широкая кровать, тумбочка, коврик, письменный стол... Я поскорее поставила на стол мою чернильницу и Катенькину карточку — водрузила свои знамена... Здесь, значит, и состоится встреча. В присутствии этого стола, этих темных штор и белых занавесок на окнах — наивных, как елочки за окном.
— Пора ужинать,— произнес молодой голос в коридоре. И более повелительно: — Ужинать пожалуйте!
Но я осталась у себя.
...II 49 г.
Я легла вчера рано и спала беспробудно, глубоко, до тех пор, пока свет не начал просачиваться сквозь шторы. Вскочила, боясь опоздать к завтраку. И правда, уже 8. Но когда я, умывшись, спустилась в столовую, там было еще пусто. Длинная комната с небольшими ясными окошками и круглыми столами. Скатерти накрахмаленной тугой белизною перекликались с коркой снега в овраге за окном. Столики сверкали посудой и пирамидками салфеток, но в столовой — никого. Кажется, я первая. Нет, за дальним столиком в углу сидит молодая, тоненькая, темноглазая дама в брюках и изящно ложечкой разбивает яйцо.
Подавальщица, румяная на зависть, приветливо указала мне мое место, внимательно расспросила, что я буду есть, и быстро подала. Я вглядывалась в сверкающее чистотой окно: это все мое! Моя елка стояла на холме, такая трогательная в своей серьезности,— не может того быть, чтобы она сама не знала, какая она прелесть! Крыши домов, нарисованных детской рукой на пригорке, сегодня побелели и прижались к земле.
За моим столом было накрыто еще на два прибора, но я не стала дожидаться своих неведомых сотрапезников, быстро поела и марш на воздух, которым я не дышала сто лет.
Я оделась и пошла куда глаза глядят, прямо перед собой. У дома месиво грязи, дальше — рыхлый больной снег и только совсем вдали, в полях, ровная скатерть наста. Синий, как украинская хата, домик директора, сарай, собака на цепи. Заброшенность, промозглость, никчемность. Дальше! Серые тучи, серая даль, и сквозь черные сучья — желтое небо. Как это было бы пророчески страшно в Ленинграде — желтое небо и черные сучья,— а здесь это не знамение судьбы, а просто желтая заря. Я дальше, не глядя под ноги, мимо каких-то кур и чьего-то мерзнущего на веревке белья... Ах, вот оно что там! Березовая роща!
Будто и не было грязи возле дома. Тут снег лежит богатый, плотный, как в овраге под моим окном. И из глубокого снега тянутся к облакам березы...
Я перебралась через сугроб и пошла по тропинке. Кругом все было серое, зыбкое, насыщенное влагой. Березы росли семьями — по три, по две из одного корня, устремляясь вверх и чем выше, тем дальше отклоняясь друг от друга, как в неподвижном, но стремительном вальсе. Я закинула голову, остановившись, и сразу голова пошла кругом от этих ровно колеблющихся вершин и медленно движущихся серых набухших туч. Тучи обложили небо плотно, будто там, на небесной земле, они были сугробами. Я шла по тропинке, пьянея от мелькания, от кружения серо-белых стройных стволов, и меня мучила грусть, как во все минуты слишком ощутимого счастья... Ведь это отнимут. Я это отдам. Никто и отнимать не станет, а просто пройдет что-то непостижимое, что мы называем «время», на листке календаря окажется какая-то четверка или девятка, и по ее приказу будет подана к крыльцу машина, я начну укладывать чемодан, а роща станет больше не моя, вход в нее мне будет запрещен... Так же в уютном доме будет в тишине слышно тиканье электростанции с пригорка, так же будут наливаться то убывающим, то крепнущим светом люстры и лампы, так же будут тянуться от снега к тучам березы, отдавая вершины ветру,— и это уже будет не мое. Кончено! Нельзя! Четыре на календаре. Пора.
Только что встретившись с рощей, я уже начала тосковать от неизбежной разлуки с нею.
Тропинка вилась и петляла. Березы послушно расступались, но это только для вида, чтобы заманить, а на самом деле тесней и тесней обступали меня, и тропинка вынуждена была пускаться на хитрости, чтобы, петляя, обходить их круглые семьи. Вверху шумел ветер. На ветках перекатывались и сверкали сияющие шарики почек. Почки? Зимою?.. Я вгляделась. Это были капли воды.
— Гуляете?
Мне навстречу шла крупная дама в брюках из-под шубы и с большой, окованной металлом сумкой под мышкой. От холода ее напудренное лицо полиловело, кожа под выщипанными бровями набухла. За ней лениво шел смуглый, томный мужчина в лыжном костюме. В его красиво подстриженной бороде было что-то восточное.
— Ну, как Москва? — спросил он у меня, чуть поклонившись.— Стоит, слава богу?.. Вы, кажется, только сегодня приехали? А здесь такая дохлая скука...
— Это нелюбезно, Ладо! — сказала дама, щелкнув сумкой, как выстрелив, и я догадалась, что передо мной знаменитый кинорежиссер, недавно получивший Сталинскую премию за картину о родине Сталина, Гори,— Ладо Канчели.
Мы стояли на узкой тропинке, тесно сгрудившись, чтобы не оступиться в снег. Мне было стыдно за свой облезлый рукав. Меня спросили, как мне нравится здесь и кто это приехал вместе со мной — такой широкоплечий, в тяжелой шубе? и в какой меня поместили комнате? И, наконец, прошли.
Благополучные, нарядные люди! Я сразу подумала о своей старой шубе, о незавитых волосах и незакрашенной седине. Оказывается, здесь буду не только я со своей памятью и работой, наедине с лесом, небом и книгами, а я и чужие люди, да еще такие, которым скучновато и хочется поразвлечься. Я как-то не думала раньше об этом, когда ехала сюда — в одиночество. Не предусмотрела существования людей.
Я шла и шла вперед, а березы все кружились. Вот-вот и меня закружат. Плотный, видимый воздух стоял между стволами. Чем-то эта роща напоминала мне Голландию, в которой я никогда не была. Все набухшее влагой, мутное, тяжелое, расплывчатое. На выставке картин Остроумовой-Лебедевой такой увидела я Голландию — тяжелой, размытой, влажной. И в Ленинграде бывают такие дни: не разглядишь с Университетской набережной золотого Исаакия на другой стороне реки.
Я повернула. Мне есть куда идти: сегодня я буду работать без телефонных звонков, без разговоров за стенкой, без обиды за Катю, которой негде приткнуться.
Я уехала — и теперь, вернувшись из школы, она может, не стесняя меня, решать задачи за столом.
Вон вдали уже веревка и корчащиеся рубахи. А за бельем ели и освещенное крыльцо дома.
Я остановилась прислушаться: жива ли тревога?.. Да, видно, от материнской тревоги не бывает отдыха: я могу и сейчас, под этот добрый круглый шум, пальцем показать, в каком месте сердца она живет. Здорова ли Катюша? Не поскользнулась ли, возвращаясь из школы? Не довела ли ее до слез учительница, которая требует, чтобы всё зубрили наизусть: «Надо выучить так, чтобы от зубов отскакивало». А Елизавета Николаевна... Но о Елизавете Николаевне лучше не думать...
Дом сиял мне навстречу огнями, раздевалка пахнула теплом, девушка-гардеробщица отложила книгу и помогла мне раздеться. Вся я была пропитана воздухом насквозь, с головы до пят. Нет, не только шапка, галоши, шуба, но и щеки, и грудь, и ноги — вся. Дом встретил меня городским надежным теплом труб, блеском паркетов и медицинскими заботами. Меня позвали к врачу. Потом — принять хвойную ванну. Потом принесли мне лекарство. И врач, и медицинская сестра, и беленькая курносая девушка, которую я застала у себя в комнате за уборкой,— все с сердечным участием относились к моим болезням, процедурам, питанию, плечикам в шкафу для моего единственного платья, цвету чернил, которыми я предпочитаю писать... Конечно, на самом деле все это их мало трогало, но хорошо, что ласковое притворство входит в их обязанности.
Это не то, что в миру.
Стоишь в домоуправлении, ожидаешь справки. Стула нет, сесть некуда. А девушка беседует с ухажером: обсуждается вопрос, пойдут ли они сегодня в кино. Паренек сбоку навалился на стол, дышит ей прямо в лицо, поигрывая бровями. Плененная этой игрой, она портит четвертый бланк,— а я все стою.
— Почему у вас нет стула для посетителей?
— Вы здоровый человек, можете и постоять.— И пареньку, передавая ему фотографическую карточку:
Ты поглядишь
на это фото
И сразу вспомнишь оргинал.
— Но я не желаю стоять перед вами.
— Хоть лежите, мне все равно!
Нет, здесь не так.
Девушка,
вытирающая на столе несуществующую
пыль, осведомилась, не прийти ли ей
убирать потом? Не мешает ли она мне
сейчас? Ей, наверное, лет семнадцать —
годика на три она старше Кати.
Такая она тоненькая, беленькая, испуганная
— с опаской вытирает чернильницу: чужая,
писательская чернильница, разобьешь
— хлопот не оберешься. Да и велено: когда
пишут, не мешать. Курносым, круглым
личиком она похожа на купидона — того,
бронзового, что выглядывает из-за стола
лампы на рояле в гостиной. «Я
вам не мешаю? Я могу опосля»,— лепечет
она.
...II 49 г.
До сих пор мне удавалось приходить в
столовую раньше всех и я успевала поесть
в одиночестве, но сейчас, когда, сделав
утреннюю порцию перевода в
тишине своей комнаты, я спустилась в
столовую, за моим столиком сидели
еще двое.
— Видите, как я о
вас забочусь,— сказала мне Людмила
Павловна совершенно с той интонацией,
которую я придумала, идя в день приезда
по коридору следом за ней.— Я посадила
вас между двух интересных мужчин.
Интонация так точно совпадала с
придуманной мною, что я ждала: не
произнесет ли она также и изобретенные
мною слова насчет облагораживающего
воздействия свободной профессии?
Но нет. Она расспросила меня, что я
ем, чего не ем.
В столовой
пышность Людмилы Павловны облечена в
белый накрахмаленный халат. На минуточку
она присела на свободный стул за нашим
столиком, и при ясном свете чисто вымытого
окна я увидела, что ей отнюдь не двадцать
восемь и не тридцать восемь, а, наверное,
все пятьдесят, что она страстно хочет
выглядеть стройной, затягивается,
но скрыть избыток жира не в силах.
Двое «интересных мужчин» — мой спутник
по санаторной машине, Николай Александрович
Билибин, и молодой лысеющий журналист,
сотрудник «Литературной газеты», Сергей
Дмитриевич Саблин.
Какие
они? Сразу не поймешь, но веселые,
приветливые. Во всяком случае, они
безусловно достойны более молодой и
элегантной дамы, чем я. Но и со мной
они были вполне любезны, особенно
Билибин.
Он сказал:
— Мы ведь с вами, хотите не хотите, Нина
Сергеевна, близнецы: приехали в один
день, доставлены с вокзала в одной
машине, да и комнаты наши
на одном этаже.
Что-то
в его наступательной, развязной
любезности мне не совсем приятно. Я
еще в машине жалась от нее в угол,
прислушиваясь к низкому, красивому,
актерскому голосу. Он тогда все
заговаривал с шофером, но я слышала, что
он говорит для меня. И потому не
отзывалась.
— На
Украинском фронте,— рассказывал
он теперь журналисту,— мы
весною совершенно увязали в грязи.
Развезло глину, нету хода машинам,
что будешь делать? Завидовали
колхозникам, те на волах отлично
передвигались. Шоферы, как увидят
волов, говорят: это, говорят, Му-Му-2...
Машина марки Му-Му-2...
Журналист рассмеялся. Я — нет. Но Билибину
непременно надо было добраться до
меня.
— Над чем работаете
сейчас? — спросил он, передавая мне
капусту...— Кушайте, в ней много
витаминов...
— Да так...—
ответила я неопределенно,—
перевожу.
У Билибина
потертый пиджак, на ногах — валенки, но
выглядит он, пожалуй, элегантнее молодого
журналиста в светлом костюме и заграничном
галстуке. Что-то в его медленных, ленивых
движениях, в крупных плечах чувствуется
барское, холеное. У него широкие руки
рабочего человека, а ногти отточенные,
длинные.
Мужчины вежливо
поджидали, пока я покончу с кремом. За
соседним столиком слышалось щелканье
сумки, хлопанье пробок и смех. Это
кинорежиссер, несмотря на ранний час,
угощал свою даму вином. Белый большой
воротник на ее платье и пышные золотые
кудри были гораздо свежее лица.
— Мало народу сегодня в столовой,—
сказала дама, обводя комнату глазами.—
Верно, спустились еще не все, кто
живет.
— С кем живет?
— нехотя спросил кинорежиссер.
Билибин рассказывал мне и журналисту
о своем новом романе. (Я не читала и
старых.) Роман посвящен сибирским
угольным шахтам, технически прогрессивным
способам разработки породы, внедрению
механизации. С производственным
конфликтом тесно переплетается семейный
разлад. Роман уже почти принят в
«Знамени» — просили только
слегка расширить парторга...
— Вот сижу по шесть часов в день и
расширяю парторга,— сказал Билибин,
повернув ко мне большое лицо с высоким
лбом и тонким носом и взглянув мне прямо
в глаза спокойными желтыми глазами.—
За тем и приехал.
Усмешки
у него в глазах не было, но, хотя они и
были открыты и глядели прямо на меня,
мне показалось, что они прикрыты
чем-то.
Я встала из-за
стола. Мои собеседники проводили меня
до дверей.
— А вы уже
заметно посвежели, право,— сказал
Билибин тоненькой темноглазой даме,
которая шла нам навстречу. Она
улыбнулась, показывая мелкие ровные
зубы.— Не бойтесь, не бойтесь, не сглажу!
У меня глаз добрый.
Я
поднялась к себе.
...II 49 г.
Ночью я проснулась от стука сердца.
Слезы текли по волосам и
щекотали ухо.
Что-то
случилось ужасное, но что — я не могла
вспомнить. Вспоминался не самый сон, а
лишь испытанный ужас.
Я
лежу на широкой мягкой постели. Кровь
толкается в уши, сердце все не может
прийти в себя после обрыва.
Ночная тишина, плотная, черная, стоит
кругом. Ее хочется тронуть рукой,
попробовать на ощупь, как материю.
Света не зажжешь — электростанция по
ночам не работает. Да и с этим ужасом в
груди легче существовать так, без
света.
Что это было?
Сердце стучит в горле, в ушах, в висках,
наполняет горячим стуком грудь
и, кажется, комнату. Наверное, я снова
видела Алешину смерть.
Но которую? Какую? В дороге? В лагере? На
допросе?
Я ничего не знаю
о его конце, и потому всякий
пригоден для моего воображения.
Но с того разговора на каменной лестнице
возле воды, того, осеннего, ко мне
повадился сон про Алешину смерть на
допросе. Сколько уж раз я видела во сне
его смерть? Можно было бы точно сосчитать
по дневнику, да с дневником я ведь
всегда в разлуке... Можно и так сосчитать:
началось это в сороковом году осенью,
под мелким дождиком, когда одна моя
подруга назначила мне внезапно свидание
на набережной и мы спустились по
ступенькам к черной воде, дышащей
стужей,— тут, внизу, на этих плоских
гранитных плитках у воды, тут надежно,
никого, ничего,— и она рассказала мне
про допрос со слов своей двоюродной
сестры, а той под клятвой рассказал один
человек, выпущенный в тридцать девятом.
До тех пор мы, конечно, тоже догадывались,
но не смели своим догадкам верить, а
теперь догадка оказалась правдой, и мы
узнали наверняка, почему все признаются
и оговаривают друг друга. (Я еще спросила
у нее в тот раз про палец: — Как ты
думаешь, сколько минут ты можешь
выдержать, если тебе дверью прищемят
палец?..— И она спросила в ответ: — А
ты?) И вот с тех пор, вот уже, значит, скоро
десять лет, и поселился в моих ночах
этот сон: допрос и Алешина смерть на
допросе.
Но сегодня было
не то. Я вглядываюсь в глубокую тьму
комнаты, будто в ней еще могут храниться
очертания ускользнувшего сна.
Сегодня мне приснился другой какой-то
Алешин конец. Какой же? В вагоне? Нет, не
то.
И почему это мне все
снится конец на допросе? Наверное,
у них, у снов, уж такая повадка:
привидится один раз — жди его
опять и опять. Почему же всегда конец
на допросе, Алешу ведь еще везли,
отправляли куда-то... Как мне памятны
числа! У окошечка тюрьмы, 5 января
38-го года, мне ответили: «Выбыл!»
— «Куда?» — «Он напишет вам сам». А
в прокуратуре через двое суток:
«10 лет без права переписки, с конфискацией...
Освободится — пришлет письмо».
Значит, после всех допросов было еще
какое-то продолжение, а мне все снится
допрос и допрос. Наверное, это потому,
что во сне нельзя увидеть неизвестное:
этап, лагерь. А я еще никого оттуда не
встречала. Из лагеря. Это для меня ужас
без цвета и запаха. Впрочем, для сна это
не помеха. В сказках всегда являются
сны и рассказывают. На то они и сны. У
снов ведь свой обычай. Приходят, когда
хотят, и показывают, что хотят. Взять,
например, этот самый сон «Алешина смерть
на допросе». Хоть мне и было рассказано,
что это такое на самом деле, а вижу я
совсем не то. Надо бы видеть так:
стол, бумага, следователь, стул, лампа,
ночь, и входят двое парней, чтобы
бить. А вижу я каждый раз тяжелую
черную воду, источающую холод,—
воду и молчание. Да, вижу молчание: оно
клубится, как пар. Клубы молчания. Это
и есть Алеша на допросе. Какие-то люди
палками подталкивают его к воде. Тоже
молча. Он все ближе и ближе к краю гранита.
Вот уже одна его нога сорвалась — сейчас
сорвется вторая — и это и есть
«Алешина смерть на допросе». Я вскрикиваю
и просыпаюсь. Сердце грохочет, как колеса
на железнодорожных стыках.
Но сегодня был какой-то другой
Алешин конец. Другой ужас.
Я перевернулась на спину, и слезы потекли
уже в оба уха.
Какая
непроглядная тьма. Это она спрятала
в свою утробу мой ускользнувший
сон.
И вдруг он
из темноты высунулся. Я
вспомнила, отчего я проснулась.
Сон был еще здесь, недалеко, еще
не ушел из комнаты, потому, вероятно,
я и успела схватить его.
Это не смерть Алешина, а возвращение.
Ужас от его возвращения. Он возвращается,
но не ко мне.
Такой
сон тоже уже был раза
два.
Оказывается, Алеша
жив. Я узнаю об этом от постороннего
человека, от какого-то неизвестного мне
Алешиного друга. Я его не знаю, только
знаю, что он Алешин друг. Мы стоим в
Катенькиной детской — там розово-желтым
пятном блестит паркет, и я во сне думаю,
что это няня Эльви по случаю праздника
натерла его сегодня суконкой. Алешин
друг глядит не в лицо мне, а куда-то в
сторону, и я по этому взгляду понимаю,
что Алеша жив, друзьям известно, где он,
но меня он видеть не хочет. Я виновата.
Алеша меня осудил, приговорил к вечной
разлуке. За что же?
Я ли о
нем не старалась?
Я ли жалела чего?
Я
ему молвить боялась,
Как я любила его!
Я лежу на низкой мягкой кровати. Черная
глубокая тишина. Сердце стучит, словно
я работала под куполом цирка,
сорвалась — и упала в сетку.
Сегодня я поняла, в чем моя вина. Во сне
поняла. Я жива. Вот в чем. Я живу, продолжаю
жить, когда его палками затолкали в
воду. Он воротился на минуту, чтобы
меня упрекнуть. Вот про что я увидела
сон.
...II 49 г.
В гостиной играют в карты и в
шахматы, флиртуют, читают газеты и
слушают радио.
«При
своих»,— доносится в коридор сквозь
настойчивые интонации дикторской
речи,— «Без одной». «Мизер». «Распасовка».
«Еще партию?».
Я зашла
туда прочитать газеты. Надо же газеты
читать!
Билибин сразу
оторвался от карт и подставил мне
глубокое кресло. Я взяла «Правду». Сам
он, кинорежиссер, темноглазая дама и
журналист играли в преферанс. Приятельница
режиссера сидела поодаль на низеньком
кресле у приемника и делала вид, будто
слушает радио. «Каждый новый том сочинений
товарища Сталина входит неоценимым
вкладом в идейное богатство человечества»,—
говорил диктор.
Что-то
трогательное и наивное чудилось мне в
тонкой шее темноглазой дамы, в золотой
цепочке с камешком, уходившей в вырез
платья... Такая хорошенькая, веселая,
нарядная. Это не писательница. Это,
верно, чья-нибудь жена.
Из чтения газет, как всегда, ничего у
меня не вышло. Странное дело: я тщетно
стараюсь читать их. Прочесть я могу, но
узнать что-нибудь — нет. Буквы
складываются в слова, слова в строки,
строки в абзацы, абзацы в статьи, но
ничто — в мысли, чувства и образы.
«Советская власть и победа колхозного
строя избавили крестьян от бедствий,
связанных с засухой. Партия и правительство
придали борьбе с засухой всенародное
значение. Великий план преобразования
природы — новое проявление отеческой
заботы большевистской партии, Советской
власти о нашей Родине».
Читаю и вижу один только шрифт. Или
стенографические слитные формы.
«Всенародное значение» — два слова
очень удобно сливаются в одно. Слитная
форма «Великий план преобразования
природы» — эти четыре слова тоже можно
изобразить одним значком. Сколько уже
лет я стенографисткой не работаю, но
все еще невольно черчу в уме или на
колене слитные слова и предложения...
Ничего не узнав о борьбе с засухой, я
попробовала было почитать о
шахматах.
«Как неотъемлемый
элемент социалистической культуры,
шахматы стали средством культурного
воспитания колхозных масс».
Я попыталась вообразить себе
каких-нибудь мальчиков и стариков и
шахматные доски в избах, но мне это
не удалось. Рука машинально чертила
слитные формы: «неотъемлемый элемент»
и «средство культурного воспитания».
Значки. Термины. За ними ни избы, ни
сугроба... Я отложила газету.
А может быть, я потому ничего не могу
узнать никогда из газет, что, в сущности,
хочу узнать только одно, а про это одно
там как раз не пишут?
— Весною все-таки в санатории
лучше,— сказала темноглазая дама,
принимая от Билибина карты (он
сдавал),— нет, не говорите, веселее
все-таки, когда тепло. Каждую весну я
чувствую, как во мне, вместе со всей
природой, пробуждаются какие-то
буйные силы...
Шея
перестала казаться мне
трогательной. Просто белая шея. Зато
кинорежиссер очень оживился.
— В самом деле? — спросил он
с интересом.— Что же именно вы
чувствуете каждую весну?
Дама, сидящая возле приемника,
повернула регулятор, и приемник
резко взвыл, как сирена.— О, боже! —
вскричал Ладо.— Не трогали бы лучше,
если не умеете!
Я развернула
«Литературную газету». Билибин собирал
карты. Видимо, они кончили играть.
«Советская литература на подъеме»,—
прочитала я заголовок на первой
полосе.
После списка
«произведений, любимых народом»,
«обладающих огромной силой воздействия»,
я прочла абзац о Пастернаке, который
чуждается великих свершений
народа и предпочитает заниматься
самокопанием.
—
Ну, вот, видите, кроме карт, теперь и
делать нечего,— говорила капризно
темноглазая дама,— а весною — красота.
— Вы редко заглядываете
в гостиную,— вкрадчиво сказал мне
Билибин, поблагодарив партнеров и
придвигая стул ко мне.— Все норовите в
свою комнату пробежать побыстрее
мимо нас, грешных. Нелюдимка.
Желтые глаза посмотрели на меня зорко,
приметливо, как окликнули взглядом. Но
в следующее мгновенье мне опять
показалось, будто они закрыты.
Я объяснила, что работаю над очень
трудоемким переводом, да и гулять
мне доктор велит побольше, да и
процедуры отнимают время. Просто
некогда сидеть в гостиной.
— Но вы и гулять норовите все
одна и одна,— сказал Билибин.— Вот, если
вы вправду не избегаете нас, возьмем с
собой нашего славного Сергея
Дмитриевича и пойдемте после
ужина все вместе. Хорошо?
Нечего делать, после ужина мы так и
отправились всем столом: Билибин,
журналист и я... Вот, оказывается, чья
была щегольская палка с набалдашником
в виде волчьей головы и роскошная шуба
с воротником из выдры: журналиста. Я
много раз смотрела на нее, одеваясь, и
думала: чья бы это? Вот он, значит,
какой!
Мы зашагали по
широкой асфальтированной дороге, потому
что только вдоль дороги горят фонари.
Было холодно, мы спускались с горы
к ручью, взявшись под руки. Тихо, снежно,
по-деревенски мирно — и только
тиканье электростанции казалось
неуместно городским. Но скоро я перестала
его слышать. Тишиною были одеты темный
лес вдоль дороги, овраг внизу,
сверкающие звезды вверху. Мы шли в
ногу по склону горы, стараясь не
поскользнуться, спускаясь все ниже и
ниже, все ближе и ближе к ручью. Мне
хорошо было шагать с ними в лад, прятать
зябнущие руки под их рукава и слушать
их медленное тихое переговаривание.
«Спички не забыли?» — «Говорят, завтра
приедет много народу, мне Людмила
Павловна сказала».— «И будут пробовать
нового повара».— «Ну, надеюсь, крем, а
не повара». Молчание снега, деревьев,
неба было такое властное, что сначала
и нам хотелось молчать или если говорить,
то мало и тихо. «У вас ноги не мерзнут?»
Деревья подступали к дороге темным,
высоким, нестройным строем. Сплошная
стена елей, а над ними — блестящая
луна.
— Смотрите,
могила,— сказал журналист и легко
перепрыгнул через канаву, поближе к
лесу.
Мы с Билибиным
остановились.
Сергей
Дмитриевич наклонился и тронул рукою
— будто погладил по спине — белый,
аккуратно прикрытый снегом, невысокий,
овальный холмик.
—
Здесь были большие бои,— сказал Билибин.—
Зимою сорок первого... За столиком у окна
сидит еврейский поэт с орденами, за
третьим столиком. Видали? Такой седоватый,
плотный. Векслер. Он здесь воевал, немцев
выбивал из Быкова.
Мы
постояли. Маленький холмик, прикрытый
снегом, белел перед нами. Журналист
перепрыгнул через канаву на дорогу
обратно и снова взял меня под руку. Мы
пошли дальше в полутьме, к которой уже
привыкли глаза.
Под
ногами застучал мост. На перилах
ровненько и аккуратно длинной пухлой
полосой лежал снег.
— Прислушайтесь, ручей слышен,
не замерз,— сказал журналист.
Мы остановились. Я высвободила руки
из-под их рукавов. Мы, каждый порознь,
подошли к перилам.
—
Нет, не слышен, — сказал Билибин.
— Нет, прислушайтесь, слышен,— упрямо
повторил журналист.
Я
прислушалась. Жаль было портить скатерку
снега, но журналист уже все равно положил
на перила палку, и я решилась испортить
снег локтем. У журналиста, когда он,
прислушиваясь, снял для чего-то очки,
лицо оказалось доброе, ребяческое —
словно и не его были эта фатоватая
шуба и палка.
—
Да, слышу,— сказала я.
— То да, то пропадает,— согласился
Билибин.— Постоим немного.
Мы стояли, глядя на лес и друг на друга,
слушая стук электростанции и пробивающийся
сквозь него детский говорок
ручья.
— Что сегодня у
нас в газете? — спросил Сергей Дмитриевич.—
Вы, кажется, читали? А я не посмотрел.
Как отдых развращает! Собственную свою
газету не читаю. Уже дней десять, честное
слово.
— Ничего особенного,—
ответила я. Мне подумалось, что дело
тут, пожалуй, не в отдыхе. Присутствие
леса, снега, елочки на пригорке
— вот что запрещает читать газеты.
«— При музыке!» — вспомнилось мне.
— Кажется, Пастернака опять пробрали,—
как бы в ответ на эту строку произнес
Билибин. По его неопределенной
интонации нельзя было понять,
одобряет он, что поэта пробрали, нет
ли.
— Кто? — спросил
журналист.
— Не
припомню фамилии. Цитирует стихи и
говорит, что непонятно.
— И на самом деле он как-то очень
непонятно пишет,— с мягким укором
сказал журналист.— Мне недавно жена
вслух читала, так мы смеялись даже:
ничего не понять. Как-то очень негладко
у него получается. А уж если мы не
понимаем, мы! то как же народу? — Он
помолчал укоризненно.— Конечно, кто
спорит, Пастернак очень талантлив, и
аллитерации, и форма красивая, и все
такое — но о смысле не думает. Заумь.
Прочитайте хоть вот здешним девушкам
— Ане, Лизе — из Быкова или Кузьминского:
они ничего не поймут.
— Да, конечно,— быстро
согласился Билибин.
Я заговорила не сразу. Мне надо было
справиться с дыханием. Мне уже ненавистны
были и добрые близорукие глаза журналиста,
и осторожный голос Билибина, и
то, что мы только что вместе
молчали.
— А Баратынского,
вы думаете, они понимают? — стараясь
говорить медленно и тихо, сказала я.—
Девушки из деревни Быково? А Фета? Вряд
ли, ведь стихи для них совсем непривычная
форма мышления. Что же, выбросим и
классиков наших, немцам подарим их, что
ли?! Потому что их не понимают Аня и Лиза,
которые только вчера научились читать...
И которых воспитывают на Долматовском...
А вы-то сами понимаете так называемых
классиков — Пушкина, например? Вряд ли,
просто привыкли со школьных лет
думать, что он понятен...— Я не глядела
на своих спутников и обращалась
куда-то в пространство.— И почему
мы воображаем, что способны всегда и во
всем понимать поэта? Ведь он впереди
нас. Он создан этим лесом, этим языком,
этим народом и послан далеко вперед.
Так далеко, что исчезает из глаз пославших.
А наше назначение, тех, кто умеет читать,
по мере сил своих стараться понять его
и, поняв, донести это счастье до Ани, до
Лизы... Мы же уклоняемся от своего
долга и предаем... поэта и Аню... которая,
поняв, могла бы стать выше себя... не
она, так дети ее... Мы гордо говорим
«не понимают!»— а чем тут, собственно,
гордиться? «Надо быть заодно с гением»,—
писал Пушкин.
Я
повернулась и одна пошла в гору. Все это
как будто давно готовое бурлило у меня
внутри и вдруг вылилось наружу от слов
журналиста: «мы с женой читали вечером
и смеялись». Столько самодовольства в
этом «мы с женой»! Сотрудник «Литературной
газеты» — тоже мне, ценитель поэзии!
Мне было тяжко дышать от злости и от
подъема. Я остановилась, чтобы подождать
своих спутников и перевести дух. Издали
я видела большие темные фигуры, медленно,
словно в темной воде,
двигающиеся ко
мне от моста. Наверное, оставшись одни,
без меня, они пожали плечами и
улыбнулись друг другу... Минуту назад
смолчать мне казалось постыдной
предательской трусостью, а сейчас уже
стыдно было своих неумеренных слов.
С кем я говорю! Чужие люди. Что это меня
понесло откровенничать!
— Мы должны извиниться перед вами, Нина
Сергеевна,— бодро сказал Билибин и взял
меня под руку t— нехорошо было,
некрасиво с нашей стороны так говорить
о вашем любимом поэте. Но все-таки мы
достойны снисхождения: мы ведь не знали,
что вы его так любите... И я должен
признать, что в ваших словах много
верного.
Мне хотелось
скорее домой, к себе, в тишину своей
синей комнаты. Дом сиял нам навстречу
городскими огнями. Мне уже неприятно
было тепло их рукавов. Зачем я унизилась
откровенностью перед чужими людьми?
Мне хотелось быть одной. Я шла быстро,
и они вынуждены были вместе со мной
уторапливать шаг.
... II 49
г.
Сегодня счастливый
день.
Я глубоко спала и
утром, вскочив, еще босая, раздвинула
шторы. За окном все блестело. Маленькая
ель, взбежавшая на холм, была уже не
зеленая, а белая. Алмазная зима
началась!
Стараясь не
презирать себя за вчерашнюю глупость,
я быстро оделась и пошла завтракать.
Оба мои спутника, свежевыбритые, веселые,
уже сидели за столом. Сегодня они
обращаются со мною так, будто я заряженное
ружье: не задеть бы спуск. Это меня
смешило. Неподходящая им досталась
дама... Сегодня я изо всех сил вела
себя вяло, ни разу не выводя
разговора за границу таких тем, как
прическа Людмилы Павловны, погода и
меню. Мне передавали сливки, объясняли
их полезность, добывали перец с чужого
стола — и в каждом старательно любезном
движении я видела испуг перед вчерашним.
Не перед истиной моих вчерашних слов —
нет, а просто перед излишне порывистыми,
нервозными разговорами, которые в
санатории по меньшей мере неуместны.
Ведь все приехали сюда отдыхать, к чему
же споры? Будем дышать воздухом и
потреблять витамины! Достаточно мы все
нервничаем в городе!
Сразу же после завтрака, когда Билибин
и Сергей Дмитриевич погрузились в
гостиной в мягкие кресла — курить! — я
побежала в переднюю одеваться. Билибин
поглядел мне вслед, но не
встал.
Я одевалась быстро,
опасаясь погони. Мне хотелось скорее
туда, в сверкающую белизну — и одной.
Отпуская позади себя тяжелую входную
дверь на блоке, я уже слышала в передней
их голоса. Студеный воздух ожег мне лоб,
а когда я глотнула его, мне показалось,
что я проглотила острый кусочек льда.
Хотелось постоять на крыльце, чтобы
сразу охватить взглядом студеный блеск,
подаренный мне с такой удивительной
прямотой и щедростью, но сзади настигали
голоса, и я почти бегом перебежала
площадку перед домом и мимо домика
директора, мимо промерзшего белья —
туда, в рощу. Оказавшись на тропинке
между высоких пышных сугробов, я наконец
остановилась и поглядела кругом. Хрупкое
слово «сверканье» морщило мне губы. Как
оно точно соответствует этому обледенелому
узору ветвей! Сверканье. Слово ломкое,
как тонкая, острая веточка. Как крохотные
зеленые и синие искры, играющие
в снегу у подножия берез. От него
холодно зубам.
Я медленно
пошла по тропе. Сняла перчатку, прикоснулась
к сугробу. Сегодня он жесткий: колется
его затверделая сверкающая корка.
Словно вылепленные из белой
тишины стоят вокруг березы. Вершины
их уходят в небо. Кажется, хрупкие
белые ветви, прикасаясь к небесному
куполу, должны звенеть. Наверное, там,
наверху, стоит легкий, трепещущий
звон.
Скрип шагов испугал
меня: не мои ли приятели? Но нет, навстречу
мне, по тропинке, шла девушка в платке,
ватнике и валенках. От платка
лицо кажется круглым. Краснеют
яблоки щек.
—
Здравствуйте! — звонко выговорила
она и ступила в глубокий снег, отдавая
мне тропинку. Кажется, если бы сама
береза захотела поздороваться со мной,
она произнесла бы приветствие этим
морозным, звонким голосом.
Роща скоро кончилась. Далеко впереди
на гребне холма зарылось в снег Быково.
Перед ним снежной равниной лежали поля,
за ним стоял лес. Блестящие, накатанные
колеи саней бежали к деревне посреди
поля.
...И
навестим поля пустые,
Леса, недавно
столь густые,
И берег, милый для меня,—
-
догадалась я вдруг, и мне стало ясно, что я впервые поняла эти стихи. Вот они про что, вот про что! А этот берег — это берег счастья. Последняя строка вызвала слезы на глаза — слезы, как все сегодня, как воздух, которым я дышала, были колючие.
...милый для меня!
- Это о счастье он сказал, быть может, сегодняшнем, а может быть, уже утраченном, прошедшем.
Скользя по
утреннему снегу,
Друг милый, предадимся
бегу
Нетерпеливого коня
И навесгим
поля пустые,
Леса, недавно столь
густые,
И берег, милый для меня.
-
Эти ск и ст и сн — это скользкий блеск санного пути, пересекающий поле. Сверканье полозьев. А милый берег — это память о счастье.
А может, берег этот оттого ему мил, что сейчас они увидят его вместе?
Я пошла санным путем, щурясь от слюдяного блеска. И вдруг подумала: здесь были немцы. Здесь они ходили, по этой дороге, из этой деревни в эту рощу, восемь лет тому назад. Я это знала и раньше, но удивилась этому так, будто только сейчас узнала впервые.
«И навестим поля пустые» — они этой строки не понимали, какое же право они имели ходить здесь, оставляя свои следы на снегу? Для них это было не поле и лес, а территория, местность.
«Навестим» — ведь навещают друзей, а Пушкин сказал это о поле и лесе. Деревья и река были для него как любимые люди.
Внезапно я очень устала... наверное, от белого блеска. Повернула обратно и, сбиваясь с дороги в снег, поплелась домой. Я смотрела только себе под ноги, а не на березы, не на сугробы — сверкающая тишина была слишком обильна, мне стало не под силу владеть ею.
И белому
мертвому царству,
Бросавшему мысленно
в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты
больше, чем просят, даешь».
-
...II 49 г.
Теперь я уже знаю, когда здесь в доме наступает тишина — когда не слышно ни щелканья домино в гостиной, ни плавных шагов Людмилы Павловны, ни навязчивого голоса радио. Одно только доброе, неутомимое тиканье электростанции. Это бывает три раза в неделю, по вечерам, когда наш культурник привозит новую кинокартину. Все уходят смотреть. В эти часы можно рискнуть спуститься под воду, не опасаясь, что каким-нибудь звуком или словом — как бывало в городе — тебя насильно выволокут на поверхность. Звонок телефона — кого это? Звонок в передней — не четыре ли раза? Перебранка на кухне, возле самых моих дверей. Елизавета Николаевна снова пилит тетю Дусю. Словно за ноги тебя тащат по лестнице вверх и ты лбом ударяешься о каждую ступеньку. Чем глубже я успеваю погрузиться, тем больнее и дольше меня волокут.
— Вы какой любите перловый суп? — спрашивает тетя Дуся.— Погуще или пожиже?
— Суп должен быть такой, какой он должен быть,— отвечает Елизавета Николаевна, и от этого величественного ответа у меня сразу начинается сердцебиение. В каждом ее слове и в каждом шаге видна душа грубая и беспощадная, никогда себя не стыдящаяся. Не стыдящаяся ни жестокостей, ни пошлостей. «Борщ характеризуется свеклой»,— произнесла она однажды.
Всегда вспоминаю: была у меня как-то раз тяжелая мигрень, и Катенька просила тетю Дусю не греметь на кухне. Елизавета Николаевна обратилась за чем-то к Дусе, и та ответила шепотом.
— Что это вы все шепчете? — прикрикнула Елизавета Николаевна.— Говорите как человек.
Тетя Дуся объяснила ей: «Нина Сергеевна больна».
— У меня больных нет,— горделиво ответила Елизавета Николаевна, не понижая голоса. И пошла по коридору к себе в комнату, отчетливо стуча каблуками.
Никогда не забуду, как во время войны другая наша соседка, несчастная многодетная женщина, у которой убили мужа, начала продавать свои жалкие вещички. Сунулась к Елизавете Николаевне с какими-то своими рубашками.
— Я таких рубашек не ношу! — ответила Елизавета Николаевна: рубашки были не импортные и не экспортные, а самые обыкновенные.
Кажется, только здесь, издали, я начинаю понимать, на чем основана ее гордыня. Всю жизнь она была ничем не примечательной мужней женой, потом ничем не примечательной вдовой. Всю жизнь у нее было два занятия: ездить по комиссионным и угнетать домработницу. Откуда же самоуверенность, почему она всегда держалась так, словно знает за собой какие-то великие заслуги: Галина Уланова и Анна Ахматова в одном лице? И не сословная, не кастовая спесь академической дамы, а глубокая убежденность в величии собственной персоны: «Я таких рубашек не ношу».
Детей у нее никогда не было; разумно хозяйничать — то есть шить, чинить, печь пироги, вовремя закупать ягоды и сахар для варенья — она не умеет; хозяйничать в ее представлении означает: угнетать, преследовать и разоблачать домработницу.
— Что это вы принесли мне? — кричит она тете Дусе на кухне.— Ведь он пахнет— понюхайте! Глубже дышите, глубже! Ближе к носу, он не кусается! Я думала: посылаю на рынок опытную кухарку, а вы, как девчонка, приносите мне вонючего гуся...
— Я же не кухарка, Елизавета Николаевна, я вам наперед говорила. Я только так, по домашности умею. Я площади, сами знаете, нет, в войну лишилась. А то я разве бы пошла по людям... И ничего он не вонючий...
— Не кухарка? А кем вы у меня служите, профессоршей? Не знаю, я вас нанимала как кухарку... Ступайте на рынок, продайте вашего гуся и принесите мне деньги. И не реветь мне, я вам не Виктор Петрович...
Виктор Петрович! Пять лет, как скончался, а неутешную вдову все еще мучает память о его доброте и мягком обращении с людьми.
Он был совершенно под ее башмаком. Даже Катюша, бывало, удивлялась и шептала мне: «Я бы ее побила!» Иногда он пробовал бунтовать, бедняга наш Виктор Петрович, но быстро сдавался и каялся. И мы слышали отчетливый, не стыдящийся соседей голос :
— Не скулить мне! Лучше печенку свою полечи, чем скандальчики устраивать! — и Елизавета Николаевна уходила в парикмахерскую, строго приказывая тете Дусе не бегать в ее отсутствие вокруг Виктора Петровича с капельками и полотенечками, а заняться делом: приготовить за неделю счет... Здесь, в отдалении от нее, припоминая ее прямую спину и гордо откинутую назад голову, я поняла наконец, что именно эта постоянная, неминуемая, полная победа над одной душой внушала ей о самой себе такое высокое мнение. Ей покорялся один человек, всего лишь один, но зато целиком, без остатка, полностью. И этого для самоутверждения довольно.
Сколько спусков она испортила мне! Я потому и вспомнила о ней сегодня, что впервые после приезда попыталась спуститься. И даже здесь, за сто километров от нее, душа вспомнила насилие и грубость, и спускаться мне мешает уверенность, что там, в городе, Катюша, делая уроки, слышит из-за стены этот жесткий голос.
И все же сегодня первый спуск состоялся. Он был еще только пробный, недолгий. Я еще только примеривалась и убеждала себя не бояться. Я еще видела комнату. Я еще поглядывала на часы. Я еще вздрагивала оттого, что внизу хлопнула дверь. Непроницаемая толща воды, охраняющая душу от вторжения, еще не сомкнулась над моей головой, еще не стала между мною и миром.
Но теперь я уже верю: сомкнётся.
...Не странно ли, что это погружение на дно вместе с Ленинградом, Катенькой, ночной Невой, что этот тайный, внятный только мне звук, возникающий от скрещения тишины и памяти,— что потом он с помощью чернил, бумаги, типографии обретет плоть и получит такое обыденное, общепринятое, всем доступное наименование: книга?
— Вы еще не читали «Спуска под воду» ?
— Нет. А про что там: про работу водолазов?
— И не читайте: скучища.
— Неправда, непременно прочитайте! в этой книге что-то есть. Хотите, принесу? Там никаких водолазов.
Книга... Она будет стоять на полке вместе с другими, ее будут брать в руки, перелистывать, ставить на место. Вытирать пыль — пыль с этой вот сегодняшней здешней тишины, сквозь которую ко мне возвращается Алешин голос и плач Кати-маленькой...
Книга была мною, замиранием моего сердца, моей памятью, которая никому не видна, как не видна, например, мигрень, болевая точка у меня в глазу, а станет бумагой, переплетом, книжной новинкой и — если я бесстрашно буду совершать погружение — чьей-то новой душой. В эту душу проникнет, созидая ее, Алешин голос и Катенькин плач.
«Это то же самое,— подумалось мне сегодня,— что роща. Да, да, березовая роща, которая сейчас шумит вершинами в небе, а потом сделается дровами, потом сгорит в печи — а потом — потом согреет кого-то, кто станет глядеть в жаркий огонь...»
Впрочем, все это вздор. В мой огонь никто не станет глядеть. Зачем же я погружаюсь? Ведь если моя добыча и превратится в рукопись — в бумагу и в чернила,— то в книгу она не превратится никогда. Во всяком случае, до моей смерти.
Зачем же я спускаюсь? Чтобы уйти от себя?
Нет, там, куда я ухожу, мне еще страшнее, чем здесь, на поверхности. Там тяжелые шаги солдат, уводящих Алешу, там наша лестница, по которой он спускался легким, быстрым шагом между ними, оборачиваясь на ходу, улыбаясь мне, чтобы я не боялась, там наша обитая войлоком дверь, которую я почему-то старательно закрыла за ними на все замки и задвижки, когда шаги были уже не слышны. (А к чему было закрывать, если они уже увели его?..) Там Катя-маленькая, которая не проснулась, когда он вынул ее из постели и в последний раз прижал к себе. Там бесшумные машины одна за другой, одна за другой гасящие свои фары у ворот тюрьмы.
Там — мой неотступный, многолетний вопрос: каков был его последний миг? Как из живого они сделали его мертвым? Я уже не спрашиваю: за что? Я спрашиваю только: как? где? когда? И где сама я была в эту минуту? С ним ли? Думала ли о нем?
И где его могила? Что он видел, последнее, когда жизнь покидала его?
Вот он идет по нашей лестнице вниз, среди солдат, и, оборачиваясь, улыбается мне, чтобы я не боялась. Что было дальше? Ворота тюрьмы. Их я знаю. Я стояла возле них. Потом — допрос. Это я тоже знаю. Наяву и во сне. А потом?
Нет, моей памяти никто не позволит превратиться в книгу. И гложущему меня вопросу.
Зачем же я совершаю свой спуск?
Я хочу найти братьев — не теперь, так в будущем. Все живое ищет братства, и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев — хотя бы там, в неизвестной дали.
... II 49 г.
Сегодня тревожный день. Быть может, и радостный, но тревожный. Будто я снова в миру, а не здесь, под охраной маленькой зеленой ели, в этой мнимой жизни.
За чаем журналист рассказывал литературные новости (он только что громко и долго говорил с Москвой). В Союзе ожидаются большие перемены. Руководство недостаточно твердо вело борьбу с космополитизмом. Секретарем будет теперь не Беленький, а Земской. И в издательстве «Советский писатель» ожидается смена редакторов... На мгновение лицо у Билибина потемнело, в глазах мелькнул настоящий, непритворный интерес.
— Не знаете, Тукманов остается? — быстро спросил он. (Тукманов — его редактор.)
— Кажется, да,— ответил Сергей Дмитриевич.— Во всяком случае, о нем мне ничего не сказали... А как подвигается ваша книга?
— Да вот, каждое утро часиков с семи работаю... Исполняю задание редакции... Кое-где надо дожать, кое-где допроявить. Вот и стучу не покладая рук... Вам, Нина Сергеевна, не мешает стук машинки?
Ему непременно нужно добраться до меня — всякий раз.
— Нет, нисколько.
Странное у него лицо. В каждом повороте — другое. В профиль оно какое-то острое, ястребиное. En face — простоватое, даже чуть бабье. Сегодня я заметила, что у него две глубокие оспины — одна на подбородке, другая на щеке. Каждый раз нахожу что-нибудь новое. Брови у него короткие и косые, как ударения над глазами, придающие взгляду пристальность, зоркость.
Я поднялась и пошла одеваться. Мне пора было на прогулку — перед спуском. Обязательную ежедневную порцию перевода я сделала уже с утра, а когда все уйдут в кино, после чая, собиралась предпринять спуск. Если мне удастся донести до стола небо, снег и воздух, спуститься будет легко, скорее наступит счастливая ясность зрения. Но Билибин встал вместе со мною и отправился следом с такой неторопливой естественностью, как будто мы заранее сговорились идти гулять вместе. В передней он учтиво подал мне пальто. «Расширяешь парторга! — со злостью подумала я, снова заглянув в спокойные желтые глаза.— Довыявляешь... Шут».
— Я не помешаю вам, если пойду с вами? Мне врач настойчиво рекомендовал именно после чая, перед ужином.
— Нет, нисколько,— снова ответила я.
Мы пошли. Холодно, темно, скользко. Холод какой-то сырой. Ни звезд, ни луны. Билибин взял меня под руку. Мы молча шли по аллее к шоссе. Меня раздражало, что он молчит, и еще больше, что это молчание тревожит меня.
— А сказать по правде, Нина Сергеевна, я до сих пор не могу опомниться,— красивым голосом начал Билибин, когда мы, дойдя до фонарей на дороге, свернули направо и стали спускаться к мосту.
— От чего это? — спросила я, освобождая руку.
— От нашего тогдашнего разговора, здесь, на этом самом месте. Как вы тогда на нас с Сергеем Дмитриевичем сильно напали! Я потом хотел с моста в речку броситься с досады, что у нас с вами вкусы в поэзии не сходятся. Честное слово! Вы так любите этого Пастернака?
Голос его звучал очень сердечно и искренне. Только в каком-то звуке — даже не звуке, а призвуке — был чуть тронут педалью.
— Дело не в том, что я его так люблю,— терпеливо сказала я.— Мне не за него обидно, а за вас. Как легко вы отрекаетесь по чьему-то наущению от наших великих радостей...
— Но ведь, как говорится, на вкус и на цвет товарищей нет. О вкусах не спорят...
Я ожидала этого пустого возражения. И я не стала спорить — хотя на самом деле: о чем же людям и спорить, как не о вкусах? Разве любовь к поэту, или ненависть, или, скажем, равнодушие к нему не идет от основ нашей души, разве она случайна? Разве не здесь водораздел, граница? На чем же лучше определяется дружество и вражество, даль и близость, если не на том, какие стихи и какие строки в этих стихах ты любишь?
— Знаете что,— вдруг сказал Билибин,— свернемте-ка по этой тропинке в лес. Смотрите, луна вышла. Большая, полная. Не бойтесь, темно не будет.
Мы свернули. Он снова взял меня под руку — твердо, крепко. Тропинка была узкая, и нам приходилось идти близко друг к другу. Желто-голубая луна удобно расположилась на ветке ели, словно и век тут сидела. Лужицы света колебались на крутых сугробах. «Что за пошлейшая прогулка в лесу при луне,— подумала я, — с интересным мужчиной. Это и самой Людмиле Павловне впору... О чем он сейчас заговорит? О поэзии мы уже поговорили. Пора о любви. В отвлеченно-философском плане, конечно... для первого раза».
Но он заговорил совсем не о любви. Прогулка развивалась не по канонам санаторного флирта.
— Смотрите, как здесь испорчен лес,— сказал он.— Вот вы, городская жительница, идете и думаете, что перед вами густой и прекрасный лес. А на самом деле деревья тут съедены.
Он вдруг оставил меня, перепрыгнул через канаву и, по щиколотку в снегу, остановился под высокой елью. В лунном свете, с шубой, распахнутой на груди, он казался молодым. Лицо, освещенное луной, утратило морщины; исчезли оспины на подбородке и на щеке. Оно казалось одухотворенным, юношеским... Опять новое лицо.
Осторожно раздвигая ветки, чтобы не ссыпать на себя снег, он подошел к стволу. Потом снял с коры мох и растер его между ладонями.
— Видите? — сказал он, возвращаясь.— Это — решпигус. Лишайник такой. Сейчас его уже умеют истреблять, осыпая химикалиями с самолета. А раньше целые леса сводил. Видели вы когда-нибудь пень весь в пуху? Летом? Это оглодок, огрызок дерева, съеденного лишаем.
— Вы любите лес? — спросила я.— Или больше степь? А может быть, горы?
— Раньше любил лес...— Он, прищурясь, поглядел вокруг, на луну, на сугробы, на темные, не освещенные луной ветви елей — поглядел с наслаждением, медленно, словно папиросой затянулся...— И горы раньше любил.
— А теперь?
Он ничего не ответил.
— Кажется, уже пора домой,— сказал он.— Меня перед сном будут горчичниками обклеивать.
Мы повернули.
— А я и сейчас больше всего люблю лес,— заговорила я.— Но не такой и не ночью, а сосновый, в солнечный день. В сосновом лесу много неба — лес редкий и небо не только над головой, оно везде, куда ни глянь. Кажется, не сосны, а небо пахнет смолой.
Он молчал. Мы вступили в полосу темноты, и я не видала его лица.
— Живешь в городе, вечное сидение за столом, не видишь ни леса, ни неба,— жаловалась я, разговорившись.— Такая уж наша работа. А ведь трудно себе представить, какой прекрасной была бы жизнь, если бы вся наша работа была в лесу... или у моря, или в горах... если бы слова, которые мы пишем, рождались из кислорода... если бы бумага пахла хвоей... если бы кругом, когда работаешь, были рыжие валуны или рыжие сосны... Как у Толстого написано: «взглянешь кругом — горы... поднимешь голову — горы...» Подумайте: поднимешь голову от страницы — горы...
— А вы когда-нибудь трудились... в горах?
Он не изменил шага и так же твердо вел меня под руку. Но голос его изменил звук. Голос стал таким же беспримесно чистым и искренним, как в ту секунду, когда он спросил у журналиста, остался ли на месте тот редактор... Это был его голос, настоящий, непритворный.
— Вы когда-нибудь трудились в горах? — повторил он.— Нет, наверное. А я — годы. Хоть и лес кругом, а насчет кислорода там не очень. Неволей, конечно. В лагере. В шахтах. Вольнонаемные к верху ближе, в первых горизонтах, а мы в самой глуби — на девятом, десятом... У них вагонетки на электрической тяге, техника! А мы вручную откатывали. У них перфораторы, а мы кайлой рубили, по старинке. Они по шесть часов, а мы по двенадцать. Они ели, как люди, а нам хлеба четыреста в день — и все. Не выполнишь норму — получишь двести, еще не выполнишь — сто... и так до нуля. Порочный круг или, точнее сказать, смертельный. Чем меньше получишь, тем меньше можешь сработать, чем меньше сработаешь, тем меньше получишь... Да что! Мертвецов другие ели: отрежут мышцу, сварят... Осторожнее, сук.
Он помог мне переступить через ветку, лежавшую поперек тропы, и снова повел меня вперед ровным, прогулочным шагом. Я боялась: а вдруг не заговорит больше? И дверь в Алешину судьбу захлопнется опять. Я ждала голоса, слова, не видя ни луны, ни деревьев... Первый вестник оттуда! Мне хотелось поторопить, дернуть его за руку. Не молчи. Ты вестник. Я тебя слушаю. Не молчи!
— А дети! Там ведь и дети были — там рожденные. Иные до четырех лет ходить не выучивались, до пяти — говорить. Ручки, ножки — не как у людей. Да и мы, взрослые, тоже были на людей не похожи. Нарывы от голода, голодный понос. Скольких я там закопал! И Сашку. Три года я был бригадиром похоронной бригады. Сашка Соколянский — мне друг, брат. Мы с ним когда-то в гражданскую партизанили вместе, и вот — в тюрьме вместе. Если бы не он — мне бы конец: его как ни истязали, он на меня показаний не дал... Благодаря ему я пять лет получил, всего-то... Красавец, добряк, силач, только заикался немного. После следствия стал заикаться. Да и заиканье в нем милым казалось, детским...
Я с Сашкой хлебом делился. Грибы ему в черепушке варил. Там многие грибами отравлялись, особенно нацмены: они в грибах не разбираются, не лесные люди, наварят поганок — и на тот свет... Ну, а я старый лесовик, еще с партизанских времен в грибах понимаю, в травах... Я лесным варевом Сашку отпаивал... Да нет, не выходил... Своими руками бирку на ногу навязал, сам и похоронил его... Не в общей яме, а вот под такой старой елью в отдельной могиле, и знак вырезал на коре.
Я поглядела на ствол, освещенный луной, выискивая на нем знак.
Тропинка кончилась. Мы вышли на дорогу.
— У меня там муж погиб,— сказала я.— Не знаю где, не знаю отчего и когда. Он был ученый, специалист по крови. Врач. Объявили мне: «10 лет без права переписки», а вот уж 12, и никаких вестей! Может, вы его и хоронили, ваша бригада.
Мы стояли под фонарем на дороге и молча глядели друг на друга. Фонарь не луна, ничего таинственного нет в его свете. И снова стали видны морщины, впадины, складки на этом большом, лобастом лице. И оспины — нет, следы нарывов... Полуотвернувшись, он смахивал снег с тяжелого воротника шубы.
— В тридцать седьмом?
— Да. С конфискацией. За мной потом приходили тоже, но я успела убежать. Дочку оставила родным и уехала... Вернулась, когда жен уже не брали... А вы не встречали... Не знаете...— решилась я,— где расположены были такие особые лагеря... без права переписки?
— Нет,— ответил он быстро,— таких не встречал.
То ли ему больше не хотелось рассказывать, то ли он заметил кого-то поблизости.
Мы пошли к дому. Впереди медленно брел человек.
— Ну, как, взвешивались сегодня? — громко спросил Билибин у толстяка, с тяжелым сопением разматывавшего возле вешалки шарф.— Представьте себе, Нина Сергеевна, Илья Исаакович взвешивается каждый день: проверяет, не похудел ли наконец. Ну и что же
показали весы? Преуспели сегодня? Сбросили кило этак пять?
Шарфу не было конца. Толстяк застенчиво улыбался. Даже усы улыбались застенчиво.
— Спасибо, Нина Сергеевна, что прогулялись, поскучали со мной, стариком,— бархатно пропел Билибин, и я ушла к себе.
...Сейчас я лягу спать. Тихо и тепло у меня в комнате. Елочки не видно за окном — тьма. Да и была бы видна, ей уж не вернуть мне покоя.
Первая весть об Алеше — и какая! Пусть Саша Соколянский не похож на него, а все-таки это тоже он. Суп из поганок. Общие могилы, как в Ленинграде, в блокаду... Поставил ли кто-нибудь метку на той сосне? Увижу ли я ее когда-нибудь?
Тикает, тикает электростанция. А где сейчас, что сейчас — Билибин? Курит он сейчас? Играет в шахматы с Ильей Исааковичем? Рассказывает военные анекдоты в гостиной? Играет на бильярде с темноглазой дамой, которая начала учиться гонять шары, чтобы показывать гибкость своей талии? «Знаете, вы здесь прямо-таки расцвели,— говорит ей Билибин бархатным голосом,— есть такие цветы, которые расцветают зимой».
«И все это неправда, а настоящий голос знаю я одна»,— думаю я, прижимаясь щекой к подушке.
...II 49 г.
Сегодня все опало и растаяло. Из окна холм показался мне неблагообразным, пестрым, пегим— бывают такие коровы. Ель на холме потеряла свою торжественность. Но когда, умудрившись позавтракать одной раньше всех и одной удрать на прогулку, я пошла по дороге к деревне,— я убедилась, что за городом, на вольной воле и в оттепель хорошо. Теплый ветер льнул к щекам. Я сняла рукавицы, и ветер ласково тронул мне пальцы. Ласковость его понравилась мне, и я не пошла в рощу, чтобы не расставаться с ним. В глубоких колеях дороги на Быково, в подернутых рябью лужах, синело небо, и по небу, словно бумажные кораблики, плыли облака. Теплый ветер гулял дорогой, полем и улетал тормошить влажные, торчащие на другой стороне оврага семейки берез. Я представила себе, как он срывает круглые капли с ветвей, как они катятся за ворот, и дрожь пробрала меня между лопаток. Я дошла до мокрого стога сена и повернула назад, не зная, куда теперь. Если бы взять в руки этот стог, обнять и выжать, из него потекла бы вода, как из губки. Ветер меня утомил. Я подумала о голубой скамейке на одной из дорожек неподалеку от дома и пошла туда. Но скамья оказалась занята. Подостлав газету, на ней сидел Векслер — тот самый еврейский поэт, седой, с орденами, о котором мне говорили, что он воевал в этих краях. Ветер пошевеливал какие-то бумаги возле него на скамье.
По-видимому, по моей походке ясно было видно, что я намеревалась присесть,— поэт вскочил и маленькими красными руками стал торопливо убирать бумаги, освобождая мне место. Я ему помешала, конечно, но после такой доброжелательной торопливости невежливо было бы пройти мимо.
У него молодые быстрые глаза, резкая седина и узкий запавший рот старика. Старость и молодость явственно борются на этом лице.
— Это мои стихи,— сразу объяснил он, видя, что я гляжу, как он поспешно запихивает бумаги за борт пиджака, все не попадая в карман.— То есть переводы моих стихов.
— Вы, видно, работали, а я вам помешала,— сказала я. Мне понравилось, что руки у него дрожали, касаясь листков.— Почитайте, пожалуйста, если вам не трудно читать на улице, здесь. Я стихи люблю.
Он посмотрел на меня с сомнением — как это так читать неизвестно кому с бухты-барахты? — но вынул бумаги. Старчески пошевелились губы. Молодо сверкнули глаза. Он развернул один листок.
— Нет, вы сначала прочтите мне по-еврейски, потом перескажите по-русски, а потом только прочитайте стихотворный перевод,— сказала я.— Тогда я лучше пойму.
Он снова пожевал губами. Читать ему, видно, хотелось, но он вглядывался в меня и раздумывал, стоит ли.
Однако начал.
Старческий рот исчез, остались смелые глаза человека, решившегося на отважный поступок: рассказать чужому о себе! Он читал по-еврейски, на идиш. Язык, всегда казавшийся мне безобразным, был в этом чтении прекрасен, как всякий, вероятно, язык, когда его слышишь не в хаосе, а в строю... Запинаясь, не находя слов,— я снова увидела впалый рот и посиневшие пальцы,— он начал по-русски пересказывать мне прочитанное.
Это были стихи о войне. О ночи командира, коммуниста, который наутро, чуть рассветет, должен послать в бой восемнадцатилетних, только что прибывших на фронт. Он знает, что где-то, на другом участке фронта, другой командир — такой же пожилой человек, коммунист, как и он сам,— в это же утро пошлет в бой его восемнадцатилетнего сына... Пересказывая, подыскивая слова, Векслер, сам не заметив того, встал — и я вместе с ним,— и мы пошли мокрой колеей через поле к деревне. Он говорил — прозой пересказывая свои стихи — о предрассветной глубокой тьме и о лицах спящих; как прорезываются сквозь тьму на рассвете мальчишеские лбы, затылки, брови, скулы. И командир невольно среди этих лиц ищет сыновнее, хотя и знает, что сын за сотни километров. Я обходила лужи, а он, от волнения легко, хоть и неловко, перепрыгивал их. Произносил еврейскую строчку, потом подыскивал русские слова. Опять я оказалась у того же буро-зеленого мокрого стога. Мальчики построены, командир вглядывается в лица и в каждом пытается угадать судьбу и этого бойца, и своего далекого сына. Векслер видел, что рассказ его тронул меня, и, наверное, потому ходуном ходила его рука, когда он закуривал, отвернувшись от ветра.
— Ночь слышна в ваших стихах,— сказала я,— и горечь кануна. И даже сыновние черты проступают сквозь чужие лица. Хорошо очень, насколько я могу судить по звуку подлинника и по вашему пересказу. А теперь, пожалуйста, прочтите стихотворный перевод.
Он вынул листки. О, каким, оказывается, бывает некрасивым наш язык, как жестко напиханы в строки слова, как им не хочется стоять рядом! торчат в разные стороны! И ни ночи, ни отчаянья, ни надежды, ни спящих юношеских лиц,— одни корявые строчки. Всего лишь слова, насильно втиснутые в размер, а не ночь, лица, канун, пространство между ним и сыном, скорбь.
Крыши низеньких Быковских домишек приближались. Женщина в мужских сапогах, мокрая, в грязном платке, с хворостиной шла нам навстречу. Глядя на ее угловатое мокрое лицо, казалось, что солнца и ясной погоды уже никогда не будет. И снега не будет, и книг не может быть, и комнатного тепла... И никакие стихи не нужны.
Я взяла у него из рук листок и стала читать сама, объясняя ему уродство и бессилие каждой строки перевода. Мы повернули. Он жадно курил. Я попыталась сделать для него явственной сухость этого текста, тщетность точности, заставить расслышать мертвое стучание слов.
— Как вы говорите о стихах! — сказал он задумчиво и снова пожевал губами.— Вы, наверное, пишется сами.
— Нет, — солгала я.— Только люблю читать их.
— И никогда не писали?
— Никогда.
Он постоял.
— Вот бы мне такого редактора,— сказал он как-то хозяйственно и деловито.— Такого, как вы. По-еврейски мои стихи будут напечатаны в «Эмес», а по-русски— в «Новом мире», в «Знамени». Я и сам слышу, что у переводчиков выходит не то, а объяснить не могу... Недостаточно знаю русский... Видите эту могилу? — прервал он себя.— На этом месте погиб и здесь же похоронен мой друг, лейтенант Коптяев. Я хожу сюда каждый день.
Перепрыгнув через канавку, мы постояли возле ограды. Тут всюду могилы, куда ни пойдешь,— поначалу они незаметны, они неожиданно показывают свои круглые спины и треугольные обелиски из-за стволов берез или из-под ног, в поле. Эта была обнесена деревянной оградой, выкрашенной в голубенькую краску,— как перила мостика через реку, как беседка в дубняке возле дома. Вот почему, глядя издали, я не узнавала в ней могилы... За оградой стоял невысокий треугольник из дерева, такой же голубенький.
Мой новый знакомый снял шляпу. Лицо его, под шевелящейся от ветра сединой, приняло строгое выражение. Мне стало неловко. Сдвинув брови, я пыталась представить себе свист пуль, землю под коленями, под животом, под грудью, представить себе эту деревню, видную снизу, с земли, стук пулеметов — но мне не удавалось. Я видела только голубенький заборчик и смешноватого, рано постаревшего человека с напряженным лицом.
«А где Алешина могила? — подумала я, как всегда, как перед любым могильным холмом.— Там... где рассказывал Билибин?.. в горах?.. или в лесу?., а есть ли там холмик?»
Я подумала о том, как изменил меня возраст. В детстве и в юности я была уверена, что могилы не нужны. А теперь — а теперь мне кажется: самое для меня главное в жизни — найти Алешину могилу.
— Что вы? Идемте!— тревожно спросил Векслер, словно услыхав мои мысли. Мы шли рядом, и он все время поглядывал на меня боком, поворачивая шею быстрым птичьим движением.
— Расскажите, как вы воевали здесь,— попросила я, чтоб он ни о чем не догадался. Вдруг посмотрит на меня пристальнее и увидит — что внутри!
Он стал рассказывать, где была расположена артиллерия, откуда наступала пехота, об атаках, о разведке. Говорит он с акцентом, с неверными ударениями. Я слушала очень старательно, следя глазами за его пальцем, вглядываясь в холмы и рощицы и не понимая ровно ничего. Не из-за акцента, конечно, а из-за собственной глухоты к цифрам и топографии. Он говорил о километрах, о номерах частей и боевых операциях. Я кивала. И о сталинском плане разгрома немцев под Москвой, всю гениальность которого он осознал лишь недавно.
— У меня сын погиб,— сказал он наконец. Это я поняла.— На Украинском фронте. Восемнадцатилетний. Как раз в те дни, когда мы здесь возились с этим Быковым.
— Единственный?
— Да. Лютик. Имя такое жена придумала. Знаете, такой есть цветок.
Мы пошли к дому.
— Будете слушать еще мои стихи? — спросил он, когда мы вытирали грязные ноги о проволочный половик на крыльце.
— Буду. Непременно.
Гостиная гремела радиоприемником, оживленными голосами, щелканьем домино о столик. Моя комната встретила меня ровно застланной постелью, темным деревом за окном, тишиной — но тревога, пробужденная вчера, не улеглась.
После вчерашнего разговора я еще не видала Билибина. Каким голосом заговорит он со мною теперь? Прислушиваясь к мелодичному бою часов в гостиной, я ждала обеда. Все мешало мне читать: часы на руке, и шаги в коридоре, и отдаленные голоса,— все питало тревогу.
— Обедать пожалуйте! — сказала наконец Людмила Павловна сдержанным, но громким голосом где-то неподалеку от дверей.
В опустелой гостиной сидел кинорежиссер и, не мигая, смотрел в приемник, как в камин.
«Вредоносная деятельность последышей буржуазного эстетства,— услышала я,— свивших себе гнездо в кабинетах ленинградского ВТО, была разоблачена полностью».
Рядом со мною спускался по лестнице толстяк-гипертоник. Я увидела, что он вдруг поежился, передернул плечами (словно от холодных капель за шиворотом), и эта судорога невольно передалась и мне. Не знаю, от чего поежился он, а я от слов «свили себе гнездо»... Так и пахнуло на меня тридцать седьмым... Но на ходу я толком не разобрала, кто и где свил себе гнездо на этот раз.
Билибин и Сергей Дмитриевич уже сидели на своих местах. Билибин встал, поздоровался, отодвинул мой стул, сел опять.
— Гуляли? — спросил он любезно.— Ах, молодость, молодость... советую вам заняться этим салатом... не то что я, старикан: все больше в комнате отсиживаюсь.
Я смотрела на него во все глаза. Значит, опять, опять он со мной, как раньше, точно и не было вчерашнего вечера!
— Про каких это критиков-эстетов передавали сегодня? — спросила я.— Что-то не разберу.
— Про театральных,— ответил Сергей Дмитриевич, нахмурясь.— Группу там какую-то выискали... Знаете, у нас бывает, любят перегибать. По-моему, все это сильно раздуто. Среди театральных критиков есть настоящие марксисты, подлинные знатоки театра... Ничего порочного я в их статьях не нахожу. Зеленин, Самойлов... Знающие, талантливые люди. И они-то как раз и попали под удар... Безобразие!
Билибин поднес к моей тарелке салатницу: «Вы разрешите?» — и положил мне полную ложку.
Сергей Дмитриевич хотел еще что-то сказать возмущенное, но Билибин перебил его.
— Был у нас в полку повар,— быстро заговорил он, закладывая салфетку за ворот.— Просто артист, чудодей... Один раз подают мне на тарелке что-то непонятное. Нюхаю — вкусно, пробую — вкусно, а понять не могу. Спрашиваю: чем это, братец, ты меня кормишь сегодня? А это, говорит, товарищ майор, была еж...
Сергей Дмитриевич громко рассмеялся. Я — нет.
— Была еж,— повторил Билибин, глядя на меня желтыми глазами.
...II 49 г.
Сегодня в роще я увидела удивительную ель. Как я раньше не замечала ее! Она стоит величественная, могучая, в тесном кругу берез. В счастливом плену. Я рассмеялась вслух, увидев ее. Березы, будто нарядные девочки, водят хоровод вокруг елки. Всю свою жизнь справляют сочельник.
В роще нынче сыро, серо, вязко. Под ногами — голубоватая слякоть. Но здесь, на воздухе, даже слякоть красива — серебряная, жаль ее топтать. Оглядевшись и увидав, что я совсем одна, я начала читать стихи. Примерять звуки на эти березы, на этот ненадежный снег.
Я прикинула Пушкина, Пастернака, Некрасова, Ахматову. Да, всё отсюда. Всё сюда. «Всё так», как пишется при проверке телеграмм. Все слова растут из этой земли и, надышавшись здешним воздухом, тянутся к небу, как эти березы. Читая, я чувствовала не только прелесть стиха, но и то, как он изнемогает и радуется самому себе. Губы счастливы были встречаться со словами, слова с губами.
Сурово метелица
выла
И снегом кидала в окно,
Невесело
солнце всходило:
В то утро свидетелем
было
Печальной картины оно.
-
«Мороз, Красный нос» — сплошная музыка, потоки музыки,— не потому ли в детстве я плакала над каждой строкой? Взять обыкновенные слова «снегом кидала в окно» и сотворить из них симфонию!
Я услышала голоса позади и умолкла. Наверное, люди тоже слыхали меня — люди всегда слышат, когда я читаю стихи сама себе, и это им всегда смешно... Журналист с женой шли позади меня и нагнали.
Она приехала к нему на три дня погостить. Сегодня я уже видела ее издали. Высокая, сильная женщина, наверно, красивая, если красота — это стройные ноги и сильный стройный стан. Она казалась особенно крупной, белозубой, сильной рядом с узкоплечим журналистом в очках. Мне некуда было свернуть, и дальше мы пошли вместе. Радость погасла во мне, прогулка была испорчена. Дальше у Некрасова там такие чудеса! Я боюсь и не люблю чужих и чувствую их всегда сразу.
— Это вы читали стихи? — спросила жена журналиста.
— Я.
— Кому же вы их читали? — спросила она, не умеряя быстрого и легкого шага и идя впереди нашей цепочки.
— Себе,— сказала я, — кому же еще?
Журналист мешковато брел позади нас. С тех пор, как я увидела его лицо там, на мосту, я думала, что выдра и затейливый набалдашник, быть может, и случайны и не имеют к нему такого уж прямого отношения. Но теперь, когда я увидала ладную фигуру жены, сумку, надетую через плечо, услышала ее голос и смех,— я подумала: нет, и выдра и набалдашник не зря. Имеют.
Жена приостановилась, вынула из кармана горсть семечек и протянула их мне на ладони:
— Хотите?
— Нет. Спасибо. Ногтями открывать — руки мерзнут, а зубами я не способна.
— Что вы! Ртом — самый смак. И как можно дальше плюнуть! — и, засмеявшись, выплюнула перед собой на тропинку горсть шелухи. Две-три черные скорлупки прилипли к стволу березы.
— А что это вы декламировали? — осведомилась она.— Есенина?
— Нет, почему же Есенина. Пушкина, Пастернака, Некрасова.
— Пастернак очень неясно пишет. Мы недавно с Сережей читали — помнишь, Сергуля, у Степановых? — так даже обхохотались все. Ничего не понять.
Я оглянулась на журналиста. Он шел, робко ссутулясь... Он понапрасну боялся: спорить я не собиралась.
Какая, однако, разоблачающая вещь — жена, думала я, идя позади стройных бедер и веселых плевков. Вот «ртом самый смак» — это представляется ему остроумием; а лошадиная сила и легкость шага — красотой; этот тупой смех — чистосердечием. В этих плевках он видит что-то непосредственное, милое, детское, а может — и близость к народу.
Мы вошли в дом. Супруга зорко проследила, куда и как повесили пальто, поставили боты и палку. Я пошла к себе.
По коридору один, куря, бродил Билибин.
— Гуляли? — спросил он бархатным красивым голосом.— На щеках у вас розы.
Я поглядела на него. Зачем он так со мной говорит? После леса! После того вечера!
Он сразу догадался, что взял неверный тон, и перестал улыбаться.
— Пойдемте после чая. Я постучу к вам. Можно? — спросил он, отбрасывая папиросу, как улыбку.
— Пожалуйста.
Я торопилась в ванну. Какое это наслаждение — горячая ванна после студеного воздуха, блестящий кафель, мутно отражающий очертания тела, запах хвои, охватывающий тело вместе с упругой водой! Если бы еще тишина — наслаждение было бы полным.
Но нет, в соседней кабине, отделенной от моей зыблющимся суровым полотном, я услышала голос темноглазой дамы — Валентины Николаевны. Не голос, а голосок.
— Долго мне еще? — Она шлепнула ладошками по воде.— А если я больше не хочу?
Мне стало смешно. Я сразу услышала по ее голосу, что говорит она не для меня и не для Гали — дежурной по ванной. Иначе зачем ей было быть такой хрупкой, ребячливой, плескающейся? И в самом деле, где-то неподалеку от нас кашлянул кто-то баском. Кажется, кинорежиссер.
В двух соседних кабинах — одной смежной со мною и другой последней в нашем ряду — беседовали, принимая ванну, двое писателей-приключенцев. Один приключенец-фантаст, другой — приключенец просто. Я не раз видела их в гостиной, многозначительно молчащими над шахматной доской.
— У вас «Олимпия»? — спросил теперь один.
— Нет, «Корона» — новой серии, портативная.
Молчание. Сопение. Плеск воды.
— И сколько вы делаете страниц в день? — допрашивал приключенец просто.
— Ну, это зависит,— отвечал фантаст...— Если какие-нибудь описания природы — то можно и 15— 20 сделать... Или психология героев, тогда быстро. А вот если что-нибудь техническое... тогда, конечно, медленнее идет. Труднее.
Замолчали. Обдумывают новый вопрос из области литературной теории.
Я услышала в кабине Валентины Николаевны бульканье. Она, видимо, открыла кран и напускала в ванну воду.
— Доливать горячую нельзя. Доктор не разрешает. Холодную сколько хотите,— строго сказала Галя.
— А если я хочу горячую? — говорила Валентина Николаевна и плескалась.— Пусть себе доктор сам в такой холодной купается, а я люблю погорячее. У меня такой характер: люблю все горячее.
Я еле удерживалась от смеха.
Я уже знала, что Валентина Николаевна, бывшая служащая Союза писателей (она работала в отделе кадров), недавно вышла замуж за лауреата Сталинской премии Заборова. Он сейчас кончает переговоры с прежней женой: кому останется дача, кому квартира; договорится и тогда приедет за Валентиной Николаевной. А пока она принимает ванны и кружит головы приключениям и кинорежиссеру. Все они из-за нее уже променяли шахматы на бильярд; а фантаст даже обещал изобразить ее в виде женщины будущего в своем романе.
— Люблю все горячее,— повторила Валентина Николаевна.
Однако приключенцы, занятые проблемами творчества, не отозвались на ее призывы. Подал голос только Ладо. Слов его я не расслышала, но Валентина Николаевна радостно закричала: «Ах, нахалитэ!»
— Ну а когда кончаете рукопись,— расспрашивал приключенец просто,— показываете кому-нибудь или сразу в печать? Из литераторов кому-нибудь?
— Никому,— строго отвечал фантаст.— Все они эстеты, все до единого, уверяю вас. Массовый читатель — другое дело... Я сразу проверяю на массовой аудитории.
— А я показываю жене,— сообщил просто,— ни в каких этих институтах она не училась, но у нее от природы абсолютный вкус.
Я вернулась к себе. За окном метель штрихует воздух, мою елочку на холме и, наверное, ту ель в лесу — пленницу берез. Очень деловитым движением, все в одну сторону, в одну, в одну. «Хорошо, что метель,— думала я,— а не слякоть. Нам хорошо будет идти по снегу».
Я прилегла после ванны и мгновенно уснула. Проснулась — метель утихла, заря розовеет на своем месте за окном. Скоро и она померкнет. Тогда настанет время, когда мы отправимся.
Чай пить я не пошла. Уселась за стол читать и ждать. И так как я не сомневалась, что он непременно придет, ожидание мое было легким. Я читала с интересом. И прислушивалась к шагам в коридоре. И одно не мешало другому.
Он придет сюда, в эту комнату, и сразу станет опять таким, каким был в лесу. И расскажет мне о потусторонней жизни еще и еще. Вестник! И как он мог — как у него хватило сил — пережить это! Спрошу, что помогло ему выдержать.
Шагов было много, но все не его. Я удивилась, что, оказывается, уже так хорошо знаю его шаги: тяжелые, но проворные и какие-то вкрадчивые.
Один раз мне почудилось — это они. Скрипнула половица у самой двери, и вместе со скрипом у меня упало сердце. Сюда? Нет, мимо.
Мне стало стыдно, что сердце упало.
Я взяла муфту, перчатки, шарф и пошла вниз одеваться. Пойду одна. Ему, значит, не хочется рассказывать дальше, или он просто забыл про наш уговор... Что ж, это понятно. Такие рассказы не радость.
По дороге я заглянула в гостиную — может быть, он там? Нету. Я сделала два шага вниз по лестнице — и вдруг, сама того не ожидая, вернулась и пошла по коридору к комнате № 8...
Одинаковые двери. Я вглядывалась в номера: 4, 5, 6. А вот и 8.
Я постучала.
Ответа не было.
Может быть, номер не тот? Я отступила на шаг, подняла голову, глянула... Нет, тот.
Постучала еще раз.
Ответа не было.
Но изнутри мне послышался какой-то странный звук.
Я толкнула дверь и вошла.
На низкой широкой постели, поверх одеяла, одетый, грузно лежал Билибин. Настольная лампа лунным светом освещала его лицо и широкую грудь. Подойдя ближе, я увидала, что глаза у него раскрыты и во всю силу глядят на меня, а одна рука свисает с постели. Он не двинулся, когда я подошла и остановилась над ним. Мне померещилось, что глядит он не на меня, а просто перед собой. Глаза казались неподвижными, черными.
Нет, на меня. Не шевеля головой, он следил за мной глазами, когда я ближе и ближе подходила к постели.
— Вам плохо?
Что-то дрогнуло в его синих губах. Он что-то сказал мне, он произнес несколько слов, но не было слышно — каких. Он даже улыбнулся и, как мне показалось,— насмешливо. И от того, что при полной неподвижности он что-то силился сказать мне губами, и от неудачности этих попыток — мне было страшнее, чем если бы он застонал.
И этот лунный свет лампы у него на лице и руке!
Я взяла тяжелую руку и, осторожно согнув, положила ее ему на грудь. И сама испугалась своего движения : так складывают руки мертвым.
Я кинулась вниз, в дежурку, к врачу. Застала и докторшу и сестру. По тому, как, после моих слов, обе они сразу, словно наперегонки, побежали вверх по лестнице, я поняла, что они гораздо лучше осведомлены о его болезни, чем я. «Отчего же это у него звонок в неисправности! — сказала одна другой на бегу.— Надо же, как раз у него».
Я уселась в гостиной — ждать. Так и сидела с муфтой на коленях, ожидая выхода врача. Сестра выбежала, потом вернулась — снова бегом! неся с собою металлическую коробку, какие-то ампулы, шприц,— я все сидела, ожидая, когда выйдет врач.
«Зеленин (Зеликсон),— помолчав, сказало радио,— третирует советскую драматургию на том основании, что она преподносит якобы историю «смягченной и трогательной». Советская литература не устраивает этих тонких эстетов своим якобы примитивизмом».
Диктор мешал мне прислушиваться к звукам из комнаты напротив, но я не догадывалась выключить радио и сидела, машинально чертя пальцем на муфте слитные стенографические формы готовых понятий.
«Советский патриотизм, принципы социалистического реализма,— продолжал диктор,— не по нутру этим выученикам гнилого штукарства».
«Гнилого штукарства» — эти слова пришлось бы, пожалуй, написать каждое отдельно. Такой слитной формы еще не было.
Наконец докторша из его комнаты вышла.
— Что с ним?
— Приступ стенокардии. А звонок был испорчен... Ему повезло, что вы зашли как раз в ту минуту,— могло быть гораздо хуже. Сам он не мог шевельнуться... Камфару сделали, кордиамин сделали... Теперь нужен только покой. Сестра посидит у него, монтера я направлю. Вечером, если хотите, можете навестить, но с условием: не позволяйте ему много разговаривать.
Нет, я не позволю. Я только спрошу у него, что он пытался выговорить, когда я вошла.
Я вернулась к себе. Оставила наконец муфту, перчатки, кашне. Спустилась к ужину. За моим столиком сидел Сергей Дмитриевич с женой. «Что это с нашим соседом? Говорят, захворал, бедняга. Будете навещать— поклонитесь ему».— «И от меня привет передавайте,— сказала жена.— Я уж призналась Сергею: неравнодушна! Ногти полирует — такой стильный. Лоб — красота! Влюбилась в твоего писателя, хоть ты что».
Сергей Дмитриевич сообщил мне, что сам он, к сожалению, не сможет навестить больного: уезжает с женой через час в Москву.
— Что так? Ведь вы как будто не собирались.
— Да, знаете... совещание в редакции... Жена говорит: неловко. Надо выступать, хоть я и в отпуске. Редактор будет недоволен, если я отмолчусь.
— А совещание по какому вопросу?
— Да вот по поводу наших космополитических ошибок. Конечно, некоторые перегибают палку, но нельзя не признать, что космополитические ошибки были... И в частности, в нашем отделе.
В девять часов я снова постучала к Билибину. «Войдите!»— сказал голос сестры.
Он лежал уже под одеялом, раздетый и укрытый до пояса, в белой рубашке, делающей еще шире его широкую грудь. Лампа освещала уже другое, не серое, не синегубое лицо. Глаза смотрели спокойно и зорко. По-ястребиному.
Он обрадовался мне, пригласил сесть.
— Так вы уж подежурьте у нашего больного, а я пойду поужинать схожу,— сказала сестра и вышла. — Если что — звонок.
— Жаба у меня,— сказал Николай Александрович глуховато.— Здорово схватила. Если бы не вы — быть бы мне на том свете. По-старинному «каюк», а по-теперешнему называется «инфаркт». Второй бы уже. И нитроглицерин ведь был возле, но я не мог пошевелиться...
— Что вы сказали мне, когда я вошла к вам тогда? Хотели сказать?
— Вот до чего доводит работа в горах,— произнес он почти по складам.
Мы снова посмотрели друг на друга, как в лесу, на тропинке — прямо, не опуская глаз.
...II 49 г.
Сегодня все еще метет, метет и у метели трогательно озабоченный вид. Крестит, крестит, заметает следы. Будто говорит домишкам, елкам и нам: спите, дорогие, ничего, ничего, все пройдет, «все вздор один»...
Роща не хрустальная больше, а мягкая, уютная, разлапистая, пуховая. Вся в пышно взбитых сугробах.
На глубокой тропинке, усыпанной мягким, пушистым снегом, ни одного следа, и я ступала бережно, осторожно: первая. Снег обволакивает и душу, как тропинку, мягким. Колючки я отбрасывала, выкидывала: газетную галиматью о космополитах, память о Елизавете Николаевне, чей голос сейчас оскверняет воздух Катиного жилья. Покой сходит на душу от этой несверкающей, мягкой, пушистой белизны.
С утра, когда все еще спали, я легко спустилась под воду и работала долго. Уже труднее было не писать, чем писать. Память услужливо подавала мне лица, голоса, минуты. Потом, после завтрака, я отправилась в рощу. Писала я о страшном, а двигаться сегодня мне было легко; наверное, оттого, что я знала: в комнате № 8 лежит Билибин и ждет меня. Он ждет, а я приду еще не скоро. Его ожиданием была до краев полна роща, и, бережно ступая по тропинке, я слышала течение минут, которые он отсчитывает у себя в комнате. Что мне в этом человеке? Кто он мне? Я не знаю. Но я не сомневалась, что в часы, проведенные мною в роще, он чувствовал мое отсутствие — и от этого она сегодня такая затягивающая и мне так хорошо бродить. И думать — совсем не о нем. И даже не о вестях с того света.
Я остановилась посмотреть на березы. Они стояли в сероватом дыму, а вверху серое было нежно окрашено розовым. Я оглядела небо — может быть, где-нибудь еще лучится заря? Нет, откуда же ей оказаться здесь среди бела дня! Я вспомнила блоковское:
...Над тобой
загорается вдруг
Тот неяркий,
пурпурово-серый
И когда-то мной
виденный круг.
Читая эти стихи, я всегда удивлялась:
почему пурпурово-серый? Откуда? Разве
пурпурово-серый бывает в природе? И
сегодня увидела розовеющие, серые
вершины берез.
Отсюда я
начала думать о Блоке, уже не о его
русских березах, а о его русском
пути, на котором он встретился
со всеми нашими великими — с Толстым,
с Достоевским, с Некрасовым, с Гоголем,—
о том пути, который в России с небес
поэзии неизбежно низвергает
поэта на землю нравственности. За чертой
горизонта, там, вдали, сходятся это
небо и эта земля... Горе обретает там
музыку, а песня — правоту.
Недаром
славит каждый род
Смертельно
оскорбленный гений.
И все, как он,
оскорблены
В своих сердцах, в своих
певучих...
Это
Блок.
Я ж
с небес
поэзии
бросаюсь в
коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви, —
сказал Маяковский,
смертельно оскорбленный гений
следующего поколения. Слово «коммунизм»
означало, для него справедливость,
а без справедливости не могло
быть ни любви, ни искусства, ни самого
дыхания. Пути их похожи, как почти
все русские пути, и концы похожи:
земля, на которую оба они бросились с
небес поэзии, разверзлась под ними
пропастью и поглотила их.
Я глянула еще раз на березы. Серое
стало гуще, розовое померкло.
Дома, у себя, я посидела возле трубы
парового отопления, отогрела руки и
ноги. И пошла к Билибину.
Выйдя из своей комнаты, я нос к носу
столкнулась с Векслером. Мне не понравилась
та растерянная, даже чуть жалкая
улыбка, которой он встретил
меня.
— Ну как? — спросил
он.— Что это вас не видно? Вы
на прогулку?
— Нет,—
ответила я,— я уже вернулась. Теперь
иду навещать Николая Александровича.
— А мне нельзя с вами?
«Я иду слушать то, чего он при
тебе не расскажет! — хотела я ответить.—
Я иду слушать вести оттуда. Вести
об Алеше с другой планеты. При чем
тут ты? Это мне поверил Билибин,
а тебя он не знает».
— Доктор велел навещать его
поодиночке, чтобы он не
утомлялся,— придумала я.— У него
был тяжелый сердечный приступ,
вы знаете? Ему грозит инфаркт,
при этом — второй. Сейчас с ним
побуду я, а перед ужином вы
зайдите.
Векслер
отошел, маленький, старый, не то
поклонившись, не то пожав плечами.
Я постучала.
— Приветствую! — загудел он.—
Вспомнили-таки близнеца-соседа,
зашли наконец навестить? Ну как сегодня,
был мусс или нет? А мне не дают: желатин,
говорят, вам вреден. Верь врачам
— с голоду помрешь.
Я молчала, ожидая, когда светские
интонации иссякнут.
— Это что же, вы там нажили
болезнь сердца? — спросила я.
— Там. Инфаркт случился позднее,
на войне, но началось все там. А какой
я был здоровяк раньше! Вы бы
видели!
— И все
пять лет вы проработали в
шахте?
— Нет, первые
два — лесоповал,— проговорил он,
опасливо покосившись на дверь и
потом почему-то на: потолок.— Сначала
в лесу, а через два года шахта.
Спасла меня война. В армии был, Берлин
брал.
И шепотом начал
рассказывать.
Не про
Берлин. Не про Му-Му-2.
Наверное, о лагере ему не часто доводилось
разговаривать, потому что говорил он с
такою же ненасытною жадностью, с
какою я слушала.
Это не
был связный рассказ, а словно какие-то
пятна бродили у него в памяти, проступали
наружу и сейчас же делались зарубками
в моей.
Теплушка.
Сутками люди едут стоя. Мертвые
падают на плечи живым.
В пересыльной — это еще в Москве— был
знаменитый один надзиратель. Он
баловался тем, что мешал заключенным
спать. Толкнет кого-нибудь ночью в плечо,
разбудит и заставит поднять с полу
окурок. Или просто гаркнет над ухом.
Так, для потехи. Ни для чего. Чтоб
поглядеть, как человек подскочит.
Был один случай. Билибин тогда в лесу
работал. Их уже построили утром,
чтобы вести. Охраняли их солдаты и
еще собаки. Овчарки. Собаки обучены
бросаться на человека, если он сделает
шаг прочь из колонны. Заключенный —
был он, помнится, из Ленинграда — получил
накануне письмо от жены. И, наверхное,
в бараке не успел его прочесть
или перечесть хотел, я не поняла. Он
потихоньку вынул из кармана письмо и
начал читать. Когда уже стояли в строю.
Вдруг ветер выхватил у него из рук
листок и понес. Он за ним, вон из колонны...
тогда на него кинулась собака и
загрызла его.
Билибин
помолчал. Я тоже. Он устал сидеть,
лег и вытянулся на постели
во всю длину.
—
Хорошо, что мне не был известен Алешин
адрес,— сказала я.— «Без права переписки».
Он не мог выронить мой листок.
Его не могла из-за меня
загрызть собака.
—
Придвиньте ваше кресло сюда,—
вдруг попросил Билибин.
Я придвинула. Голова его все глубже
уходила в подушки. Я наклонилась.
Торопливо и жестко, боясь причинить
мне боль и жесткостью одолевая эту
боязнь, Билибин объяснил — каким-то
даже деловитым голосом,— что я
неверно представляю себе Алешин
конец. Его никуда не везли, ему не угрожали
ни теплушки, ни собаки. Все кончилось
гораздо раньше. По мнению Николая
Александровича, «10 лет без права
переписки» — это просто условное
наименование расстрела. Чтобы не
произносить у окошечек слишком часто
«расстрелян», «расстрелян» и чтобы
в очереди не поднимался
плач.
— Всюду
не очень-то нам позволяли
переписываться, — сказал он. — Но
лагерей таких особых — «1 бы0 лет
без права переписки» — вовсе не
было. И приговора такого. За
это я вам ручаюсь.
Он опустил веки.
— Так лучше,— сказала я.— Без
овчарок. Все равно там он не
выжил бы. Он был очень сильный
человек, и смелый но неприспособленный...
к... лесоповалу. Сильный, но слабый.
Билибин молчал.
Не знаю,
что видел он, а я видела стену. Алешины
последние шаги и солдат, ожидающих
команды.
Ночью это было?
Днем, при солнце? Где я была в эту
минуту? Провожала ли его
мыслью?
Только, кажется,
сейчас все это делается совсем
не так. Это что-то из XIX века: солдаты,
стена. Сейчас по-другому.
Билибин открыл глаза. Услышав мои мысли,
он сказал:
—
Это делается внезапно. На
переходе. В затылок.
Говоря, он уминал головой
подушки. Наверное, он чувствовал в
эту минуту свой затылок, как и я. Берега
подушки расступились, и теперь
лицо его лежало в глубине.
— Вот и все,— сказал он. — Все.
— Спасибо вам, что не пощадили
себя и меня.
— Вы
не плачете?
— Нет.
Если вы... и другие люди... могли
это пережить, то мне не пристало
плакать.
— Приходите
завтра пораньше.
Я
протянула ему руку. Он медленно, трудно
приподнялся на локте, тяжело
поворотил на бок свое грузное
тело и взял мою руку в свою.
Поцеловал ее, потом посмотрел
на меня и поцеловал еще
раз.
Я ушла.
… III
49 г.
Итак, они
его просто убили. И все мои
тогдашние очереди в Ленинграде и
в Москве были зря. И заявления.
И письма. И просьбы о пересмотре
дела. Все было — поздно. Когда я еще
моталась от одного окошка к другому.
Алеша давно уже лежал в земле.
Где они его закопали?
Убив его, они продолжали лгать
мне долгие годы.
«Оснований для пересмотра
нет». «Кончится срок, он напишет
вам сам». «Сведений о смерти не
поступало». И в последний раз, два года
назад: «Может, жив, может, умер, а я почем
знаю? Мы вам не ЗАГС, гражданка. Нам
о смерти не сообщают. Обратитесь
в ЗАГС»
Как это
ни странно, ночь я спала.
Может, для Алеши и в самом деле
так было лучше?
День выдался нерабочий, тревожный. Он,
как на блюде, подавал мне все новые и
новые тревоги — и в газете, которую
я прочла за завтраком, и на прогулке, и
дома. Спуск сегодня не состоялся,
встреча с Билибиным оказалась
пустая... Тревожило все.
По дороге в столовую я разыскала в
гостиной последнюю «Литературку» и,
завтракая в одиночестве, прочитала
ее от строки до строки.
Передовая: «Выше знамя большевистской
партийности!»
«Надо
признать, что журнал «Знамя» снизил
идейно-художественное качество
публикуемых материалов и напечатал ряд
идейно-порочных и неполноценных в
художественном отношении произведений
с космополитическим душком
и формалистическими вывихами».
Отчет о собрании в «Литературной газете»,
и там, среди других выступлений,
выступление милого, мягкого Сергея
Дмитриевича:
«Товарищи,
я должен по-прямому, по-партийному
признать, что с большим запозданием,
только в последние дни, благодаря острой
критике со стороны партийной печати,
спала с моих глаз пелена, возникшая
благодаря приятельству».
Вторая полоса: «Космополиты
из журнала «Театр» :
«Идеалист и формалист, матерый
представитель компаративистской школы,
яростный сторонник всего иноземного,
профессор Шумилов (Шнеерман) злостно,
на протяжении всей своей жизни протаскивал
унижающие достоинство советского
человека теорийки, засорял головы
нашей молодежи антипатриотическими,
антинаучными утверждениями».
На третьей полосе: «Космополит о
замечательном советском
актере»...
Сквозь чистое
стекло я поглядела на маленькую елку,
на сверкающую отлогую скатерть снегов
— словно перекрестилась, прося
защиты и помощи. Но слова статей
кололи мозг, как давно застрявшие
там занозы, впивавшиеся теперь глубже
и глубже. «Идейка», «школка» — я все это
уже читала. И «Выше знамя!» — только
тогда было «бдительности». И «матерый»
— только тогда чаще всего это был
«двурушник» или «враг» (слитные формы:
«Выше знамя большевистской бдительности!»
и «матерый двурушник»). И этот до ужаса
примелькавшийся дефис в определении
«идейно-порочный» — даже этот дефис —
оттуда... Слитные формы, кувыркающиеся
в пустоте.
Я с трудом
глотала творог. Мне казалось, что,
если я отнесу газету обратно в гостиную,
оставлю ее там, а сама уйду в рощу и
надышусь чистым воздухом — отрава
уйдет из меня, как уходит угар. Но в роще
— встреча за встречей, одна горше
другой. Все разные и все твердящие
о чем-то одном, словно какой-то
режиссер нарочно поставил
их, желая усилить мою
тревогу.
Мне навстречу
шла девушка, которую я часто
видела в коридоре,— уборщица или
санитарка, не знаю. Совсем молоденькая,
но постоянная хмурость старит ее. Сейчас
перед нею, быстро семеня ногами,
рысцой бежала девочка лет
шести-семи. Все на девчонке не впору, с
чужого плеча, с чужой ноги: большие
валенки, большой, не по росту, засаленный,
с оборванными пуговицами ватник, большой
черный платок, повязанный
крест-накрест, так, что узел
приходится впереди, чуть повыше
колен. Платок налезал ей на щеки,
на лоб, то справа, то слева, и я, щурясь
и вглядываясь, никак не могла
разглядеть ее лицо... Обе они, взрослая
и маленькая, увидав меня, сошли в
снег, уступая мне тропку, и
маленькая совсем провалилась.
— Теперь домой пошла! — приказала
сурово старшая девочке и быстро
зашагала по тропинке к санаторию.—
Напровожалась! Кому говорю — домой! Там
Витька твой орет уже! Домой иди,
слышишь?
Маленькая
заморгала глазами, потянула носом,
попробовала рукавом отодвинуть
со лба платок.
Я
взяла ее под мышки и переставила обратно
на тропинку. Она смотрела вслед старшей,
быстро шагавшей между берез.
— Сестра? — спросила я, наклонившись.
— Двоюродная, — охотно ответила
девочка.— Наше фамилие Симаковы, а ихнее
Ласточкины.
— А зовут
тебя как?
— Лелька.
Она все стояла, глядя в спину сестре.
Та уже подходила к корпусу. Лицо у девочки
было синеватое, цвета снятого
молока.
— Ну что же, давай
знакомиться, Лелька,— сказала я.— Ты
что же никогда не приходишь
к нам? В гости? Твоя двоюродная
где работает? Привела бы тебя в кино,
у нас интересные картины бывают.
— На складу... А нам в корпус нельзя.
Она повернула и зашагала по
тропинке обратно, и я за ней следом.
Среди снегов в черном платке, нескладная,
спотыкающаяся, в огромных валенках она
была похожа на маленькое ожившее
огородное чучело.
— А почему вам в
корпус нельзя?
Лелька
ответила, продолжая шагать и
не поворачивая ко мне головы:
— Там писатели живут... А мы грязи
натопчем. Людмила Павловна сказала:
«увижу — уши оборву!» А Тонька сказала:
«не бегай ты ко мне, еще
из-за тебя с места сгонят».
— А твоя мама где?
— На картонажной работает. В
Загорянке.
—
А отец?
— Без вести.
Я постояла, посмотрела ей вслед.
Она шла, черная среди берез, как
маленький пенек.
—
Леля, до свиданья! — крикнула я. Она
попыталась повернуться, но
запуталась в платке и крикнула
не мне, а вперед: — До свиданьица!
Я пошла по боковой тропе. Белые пушистые
подушки уютно разместились на черных
ветвях. Иногда не понять было, на
чем они держатся там: тоненькие
голые ветки, и на этих прутиках целый
пушистый шар! Расположился, едва
прикасаясь к ветвям, и лежит как ни в
чем не бывало. Маленькие елочки, тепло
укутанные снегом, были похожи на детский
сад, заботливо выведенный на прогулку...
«А мы грязи натопчем!» занозой торчало
у меня в сердце. И я со злобой
посмотрела на полную даму в модном
черном пальто и пуховом платке, которая
двигалась мне навстречу. Это была
Людмила Павловна.
«Вот
легка на помине! Интересно, а
из лесу она их не гоняет?» —
подумала я.
Глядя на ее
плавную походку, я вспомнила, как она
недавно помешала мне работать. Когда
все ушли в кино и наступила надежная
тишина, которая продержится, я знала,
около двух часов,— я села за стол
«спускаться». И вдруг, когда ясно встал
передо мною тот день, который я хотела
вызвать из прошлого,— все зачеркнуло
щелканье дверных замков в коридоре.
Кто-то открывал двери комнат, входил
внутрь, потом выходил обратно,
запирал комнату и шел в другую.
Щелкали запираемые и отпираемые
замки.
С пером в
руке я вышла в коридор.
В комнате напротив (где жила приятельница
Ладо), перед зеркалом, во всем величии
золотой прически, пышного бюста и
необъятных боков, поворачиваясь то так,
то этак, вполоборота ко мне стояла
Людмила Павловна.
Хозяйки в комнате не было.
— Ах, я думала, вы тоже ушли,— сказала
Людмила Павловна, слегка смутившись.—
Сегодня интересное кино, все там,
только тяжелое очень, я
не пошла, я слишком переживаю...
А у меня в жизни и так слишком
много переживаний...
Она вышла в коридор и заперла
за собой дверь.
— Запуталась я совсем,—
пояснила она в ответ на мой
вопросительный взгляд.— Тут в
какой-то комнате зеркало есть, где
я выглядываю потоньше немного,
не такая солидная... Пока все кино
смотрят, я хожу, ищу... Смешно, правда?
Но женщина всегда женщина, даже в
сорок лет, не правда
ли, Нина Сергеевна?
«Не сорок тебе, а пятьдесят пять,—
подумала я тогда.— И не только глядеться
заходишь ты в комнаты, отпирая их
своим ключом, когда хозяев
нет дома».
Все это я
вспомнила теперь, глядя на приближающуюся
Людмилу Павловну. «Не худеешь, жиреешь»,—
злорадничала я. Но когда она оказалась
шагах в десяти от меня, злость моя
исчезла. Людмила Павловна плакала. Под
одной рукой она несла какой-то тяжелый
ящик, а другою утирала глаза, сжимая
в комок маленький мокрый
платочек... Наверное, она думала, что в
роще не встретит никого, и дала
волю слезам. А тут я. Снега, снега по
обе стороны тропинки... Никуда
не свернешь.
А ящик был,
видно, тяжелый и неудобный, она еле
тащила его, он колотит ее по
толстому боку, а слезы текут
обильно, и краска от ресниц
прокладывает черные дорожки на
бело-розовом лице.
—
Что с вами, Людмила Павловна? Дайте, я
понесу немного... Ну, хоть подержу... А вы
отдохните... Вот, поставим его сюда,
на пень... Ничего ему не сделается... А
вы сядьте сюда... Вот тут... Я
смахну.
Я не знала, что
делать и что говорить. Сгребла с широкого
пня снег, бросила на него свою
муфту и усадила на муфту Людмилу Павловну.
Потом дала ей чистый платок. Она
высморкалась, вытерла слезы и,
испуганно глядя на меня, на тропинку,
на корпус, наконец заговорила. Шла она
с почты. Говорила нескладно, шепотом,
ерзая на своем пне и хватая меня за руки.
Из ее объяснений я поняла, что у нее была
младшая сестра («мы давно сироты, и я ее
любила, как дочь») и эта сестра необыкновенно
удачно вышла замуж («муж такой
интересный — теперь таких нет... и прямо
молился на нее... ревновал ее к стулу,
на котором она сидела...»), а в тридцать
седьмом его арестовали («вы
слышали — тогда многих посадили
профессоров, а он был профессор
невероятно культурный, теперь таких
нет») и пропал, а ее отправили в
лагерь. В прошлом году она
вернулась,— не в Москву, правда, в Москве
им прописки не было, а во Владимир,
там устроилась на работу
(«специальности нет, так она в
ясли пошла») и жила прилично, тем
более что Людмила Павловна регулярно
посылала ей посылки. («Знаете, из Москвы
нельзя, а отсюда, со станции, можно».) И
вдруг вчера она получила повестку с
почты, и сегодня ей вернули посылку.
Надпись — «Адресат выбыл»... А одна
женщина в очереди — у нее во Владимире
мать — сказала, что там всех бывших
ссыльных в одну ночь переарестовали и
отправили куда-то на Север... («Она сказала
такое слово... я забыла... совсем ума
решишься от этих переживаний... как-то
похоже на вторник— ах да, «повторники»
— это значит во второй раз... тех, кто
уже один раз был».)
Людмила Павловна умолкла.
«Повторники»,— стучало у меня в
голове. Она молча сидела на моей
муфте, покрывая мой платок
черно-красными разводами.
— Вы здесь замерзнете,—
сказала я, не зная, что говорить.—
Идемте, я помогу вам донести
ящик.
«Повторники». Их,
тех же самых, выпустив, берут второй
раз. Туда же.
Мы пошли.
«Значит, и Билибина
могут...» — подумала я.
— Только несите адресом
к себе, вот так,— попросила
Людмила Павловна.— А то увидят
адрес и сразу догадаются... Владимир
— самое место ссыльных... В Москве
им прописки нет, а там
прописывали... А теперь всех
оттуда... Я в анкете не указываю.
Наш директор в прошлом году
санитарку уволил: она мужа
репрессированного не указала...
Как вы думаете, опять начнут
сильно сажать? И все из-за
этих евреев!
— Что
из-за евреев? — спросила я,
остановившись.
— Да вы
разве не читаете газет? — зашептала
Людмила Павловна. — Опять там какой-то
заговор, опять они что-то мутят,
какие-то открылись космополиты.
Они заговоры устраивают (родственники-то
у всех за границей), а из-за них
невинные люди мучаются.
Разобраться-то трудно. Лес рубят —
щепки летят... Из-за каких-то там
беспаспортных бродяг, предателей
родины, честные люди терпят. Вы
думаете, органам легко разобраться,
когда их так много?
Я чуть не швырнула ее ящик в снег, но что
сказать — не нашлась. Как извлечь этот
сор из ее бедного мозга? Вот, значит,
зачем изрыгают газеты и радио свое
навязчивое, тупое вранье. Ведь это
не стихийный антисемитизм, не тот,
заново прилетевший к нам из фашистской
Германии во время войны, когда в очередях
снова заговорили: «евреи-то сыты», «евреи
умеют устраиваться», и одна торжественная
старуха-узбечка сказала при мне
старухе-еврейке: «мои узбекские глаза
тебя не видят...» Это не стихийное безумие,
столько раз охватывавшее в прошлом
темных людей, это нарочито организуемый,
планомерно распределяемый бред, бред
с заранее обдуманным намерением. Я
только сказала беспомощно: «Ну при чем
тут евреи?» Мы дошли до крыльца одного
из финских домиков: здесь жили служащие.
Людмила Павловна плавно поднялась на
крыльцо, я передала ей ящик.
— Вы очень любезны! — громко
произнесла Людмила Павловна, будто
отпуская проводившего ее кавалера.
Я постояла немного, не зная, куда теперь.
Я так ясно увидела неизбежную связь:
снова ложь, из-под которой снова
хлынет кровь. Словно я рукой
потрогала и ту и другую.
«Повторники»... Снова Билибин. Я вспомнила,
что слышала это слово еще в Москве. Еще
в прошлом году.
Домой мне было рано. Я пошла по дороге
к шоссе. Я полагала, что на сегодня с
меня хватит, но тот режиссер, который
поставил мой сегодняшний
день, решил иначе.
На
середине спуска с горы меня нагнал и,
пыхтя, пошел со мной рядом унылый
толстяк-гипертоник. Нечего делать, я
пошла медленнее — ему нельзя быстро
ходить. Несколько шагов мы прошли
молча.
— Какое у вас
сегодня давление? — машинально
спросила я.
— Не снижается,—
ответил толстяк,— 190 на 110. Вот иду
навстречу Екатерине Ивановне. Она
обещала привезти из
Москвы новое лекарство.
Екатерина Ивановна — это
наш доктор.
—
Вам, наверное, лежать надо,— сказала я,
глядя на его уныло с висающие
усы. Мы спускались с той же горы, что
тогда, когда впервые пошли
гулять вместе — Билибин, я, журналист.
Только теперь было светло; лес,
осыпанный снегом, казался
приветливым, добрым; и потому
тот темный вечер отошел далеко
в прошлое. И еще потому, что тогда
я совсем не знала Билибина,
а
теперь...
Я посмотрела
на мягкий белый горб могилы, на мостик
внизу... Могильный обелиск был
увенчан большим снежным шаром.
— Вы читали сегодня газеты?
— посапывая, спросил толстяк.— Наш
Сергей Дмитриевич целую речь
произнес...
— Да, ужасная
гадость,— сказала я и попридержала
толстяка за рукав, потому что он чуть
не поскользнулся. — Вот обедаешь каждый
день с человеком, человек как человек,
и вдруг он начинает дудеть в одну
дуду с негодяями... И сам он говорил мне,
еще дня три назад, что эти критики
— отличные знатоки театра...
— Что поделаешь... Жена,
дети...— мирно, со вздохом, сказал
толстяк.— Знаете, человек семейный
не может рисковать...
Он остановился, задыхаясь, и начал
перематывать свой грубый рыжий шарф —
единственную теплую вещь на нем. Он
был в плохоньком осеннем пальтеце.
Короткие ручки подымались с трудом,
лицо побагровело, глаза вытаращились.
Мне хотелось помочь ему перевязать
шарф, как мальчику, но я не решилась.
«Как же он пойдет наверх, в гору, если
с горы задохнулся?» — подумала я.
— А ваша жена в Москве? — спросила я,
чтобы сказать что-нибудь.
— Нет,— толстяк справился с шарфом
и снова заковылял вниз.— Ее
немцы сожгли.
— Что?
— крикнула я.
— Да,
сожгли. В гетто. В Минске. И двоих детей.
У нас было трое детей. Два мальчика и
девочка. Гриша, Яша и Соня. Теперь у меня
один остался сын, Яшенька. Сейчас он у
тетки, пока я здесь лечусь. А так мы с
ним вдвоем живем.
Мы дошли до мостика. Я не видела мостика.
Сожгли, сожгли жену и детей. Как у Пушкина
сказано? «Трещит затопленная печь...
Приятно думать у лежанки». Я спихнула
с перил большую белую подушку. Надо
представить себе это ясно: жгут поленья
и жгут детей. Но сердце не хотело, чтобы
я себе это ясно представила... Толстяк
стоял посреди мостика и глядел
вперед, в ту сторону, откуда ждал докторшу.
Имена Гриши и Сони стесняли мне дыхание.
Надо было сделать разговор обыкновенным,
чтобы снова научиться
дышать.
— В
каком районе вы живете в
Москве? — осведомилась я, как будто
после того, как у тебя сожгли
детей, район, где ты живешь, имеет
к акое-нибудь значение.
— На Красной Пресне.
Мы продолжали стоять.
—
Ваш мальчик ходит в школу —
Яшенька? — по-дурацки спрашивала я.
Каждое мое слово казалось мне
фальшивым. О чем можно говорить, о чем
спрашивать отца, мужа после того, как у
него сожгли жену и детей? Я и раньше
знала, разумеется, что немцы сжигали
евреев, но впервые видела человека,
который пережил это. Толстяк отвечал
наивно и очень доверчиво. Он рассказал
мне, какие отметки у его единственного
не сожженного сына и как Яшенька сам
утром застилает свою постель и
кипятит чай.
— И что
же... хорошая школа? — спрашивала я,
боясь, что он замолчит и мне снова надо
будет думать о Грише и Соне.
— Хорошая, — ответил толстяк.— Спортивный
зал и горячие завтраки. Только вот...
интернациональное воспитание
там слабо поставлено... Мой Яша
плохо выговаривает «р», и другие
дети дразнят его.
Он сказал очень кротко: «другие дети»,
а не «мальчишки», и не произнес слова
«антисемитизм», а именно так:
«интернациональное воспитание
поставлено слабо». Он задыхался не
более, чем обычно, и круглые глаза
таращились не более, чем всегда. Ну а с
меня было довольно вопросов, простреленных
затылков, собак, печей, повторников.
Завидев издали вязаную шапочку нашей
докторши, я решила, что на попечении
Екатерины Ивановны могу оставить
больного. Простилась — до обеда! — и
пошла к дому.
Мне
хотелось скорее, скорее к себе — нет,
не к себе, а в комнату — 8. Рассказать
ему про все: про газеты, про Людмилу
Павловну, про ящик, про
толстяка и, если в силах буду
выговорить,— про детей. Но когда я со
слезами в горле вошла в комнату к
Билибину, у него сидели фантаст-приключенец
и Валентина Николаевна. Фантаст объяснял
корни сионизма в нашей стране, которые
необходимо выкорчевать. Билибин
не стал спорить, а стал объяснять, что
люди будущего будут питаться
не супом и котлетами, не овощами и хлебом,
а особыми питательными таблетками.
Проглотишь таблетку — и сыт на
весь день.
— Вот еще!
Какие-то таблетки! А если я захочу
пирожного? — кокетничала Валентина
Николаевна.
— Скажете
мне, и пирожное будет у ваших ног,—
галантно отвечал Билибин.— Или, точнее,
у ваших губок.
Я
посидела только пять минут и
заторопилась к себе.
После ужина я вышла на прогулку
и одна спустилась по темной дороге
к ручью. Опять наступал на дорогу
темный лес, опять, как тогда, трудно было
под ветвями елей разглядеть
могилу. Овраг был залит лунным светом.
Я постояла на мостике, вслушиваясь в
стук электростанции. Что она вырабатывает
здесь? Только ли ток? Не время ли? Отстукает
еще тринадцать дней — и конец. Начнется
Москва.
Сквозь тиканье
электростанции я постаралась расслышать
ручей. В тот первый вечер Билибин сказал:
«То — да, то — пропадает». Я услышала
чистый детский лепет воды. «Милый
журчей»,— подумала я и пошла
домой. Сейчас я лягу. Может
быть, с этим словом мне будет
легче уснуть.
...А он
еще измеряет давление! Ищет нового
лекарства! Хочет выздороветь! Хочет
жить, жить, жить, нося в себе память о
детях, которых сожгли, как поленья.
Каким же способом он убивает свою
память, чтобы уснуть? А я каким? Я-то
ведь живу с памятью об Алешиной
последней улыбке, и сплю, и даже
сегодня спала, узнав про
затылок. И Билибин живет, помня, как
навязывал бирку на ногу своему милому
Саше. И зная, что в любую минуту может
попасть туда во второй раз — сделаться
«повторником»: в первый раз ни за
что ни про что, а во второй раз за
то, что был там в первый.
У толстяка еще остался сын. А у
меня Катюша осталась. Надо жить.
Нет, не одна Катюша. Будущие братья,
которым я все расскажу.
...III
49 г.
С утра вместо
того, чтобы работать, я села писать
письма. Людмила Павловна вечером едет
в город и обещала опустить. «Знаете...
кое-что поискать по магазинам
надо... мелочь всякую...» — объяснила
Людмила Павловна в столовой, но я понимаю,
что в Москве она хочет попытаться
что-нибудь разузнать про
сестру.
Села я за письма.
Написала Катюше, стараясь, чтобы каждое
мое слово передавало нежность, которую
я испытываю при одном ее имени, и чтобы
каждое было для нее талисманом, охранной
грамотой. Хранило бы от бед и напастей.
Во время войны она была маленькая и
легче было ее беречь. Тогда она была
только физически беззащитна;
пошлость, грубость, доносительство не
были страшны ей, от бомб ее можно было
спрятать в метро, в трюме, в теплушке.
Прижать к себе, укачать, укутать, увезти.
Со мной она ничего не боялась.
Держа меня за руку, она не боялась черной
точки на небе между двумя белыми мечами,
рева зениток в нашем дачном саду, щелканья
осколков о предрассветные стволы
сосен. Мама рядом. Что может быть
надежнее? А теперь, даже если я рядом,
как уберечь ее душу от ран?.. «Я тебе пару
поставлю!» — кричит в школе учительница.
Словно пару пива.
Мне захотелось написать не письмо
Катюше, а кому-то всемогущему
молитву о ней.
Не за
свою молю душу пустынную,
За душу
странника в свете безродного;
Но я
вручить хочу деву невинную
Теплой
заступнице мира холодного.
-
Как Лермонтов — мальчишка, гусар — мог выносить в своей душе эту молитву, полную материнства? Впрочем, в нем ведь все — тайна.
Пробовала я написать и друзьям, но тут уж у меня ничего не вышло. «Я живу хорошо». А вести с того света? А Лелька? «Я много гуляю». Разве гулянье здесь — это в самом деле прогулки, а не «попытка что-то выудить из прорвы прожитой»? И то, что выудишь, того не доверишь почте.
«Ну, как твой перевод? Очень тревожусь за твою встречу с редактором»,— писала я Тане Поляковой, задавая ей множество вопросов, только чтобы не писать о себе. Какие у нас могут быть письма! Вот приеду и расскажу все. С Таней мы сидели когда-то на одной парте, она все понимает, она помнит Алешу, и с ней я могу говорить обо всем. Других «понимальщиков», кроме нее, у меня не осталось. Катенька еще слишком мала. (А вдруг вырастет и тоже не будет понимать? Школа научит не понимать, газеты научат не понимать!)
Внезапно я услышала топтание мягких туфель и покашливанье возле моей двери. Секунда тишины. И стук.
— Войдите!
Я знала, что Билибин еще не встает с постели, что это не может быть он, и все-таки огорчилась, увидав не его, а Векслера.
В руках у него была папка с оборванными тесемками. Он был смущен и мрачен.
— Вы обещали слушать мои стихи,— сказал он, глядя в пол.— Но вас я нигде не вижу... Впрочем... вы писали... Я вас оторвал... Здесь, кажется, не принято бывать друг у друга в комнатах, но вы ведь навещаете Билибина... И я пришел.
«Билибин болен, а я нет»,— могла я сказать, но сжалилась и не сказала. С удовольствием отодвинула от себя письмо.
— Послушаю! Садитесь, пожалуйста, и читайте.
Косясь на мое письмо, которое мешало ему, напоминая, что о н пришел невпопад, он открыл папку и вынул стихи. Тут были подлинники, подстрочники и переводы. Он что-то искал, бранил сам себя, извинялся. Наконец начал. Сначала он читал стихотворение по-еврейски, потом пересказывал мне его по-русски, потом я брала в руки и сама прочитывала вслух перевод.
Стихи заставляли слушать себя — в них было много от его тревожных рук, ранней седины, моложавости. Серьезные, печальные стихи о войне.
Ни на чем в такой степени, как на беспомощности перевода, не видно, что стих создан не только и не столько из слов, мыслей, размеров, ритмов и образов, а из погоды, нервности, из тишины, из разлуки...
Хорошо здесь:
и шелест и хруст;
С каждым утром сильнее
мороз,
В белом пламени клонится
куст
Ледяных ослепительных
роз.
Тут каждая строка в серебре
инея.
Поэзия — это и
есть, наверное, то таинственное, что
остается непереводимым после самого
тщательного, самого музыкального
перевода. Можно перевести слова и ритмы,
но как перевести не названный в
стихах иней?
Конечно,
я не пыталась высказать эти
туманные мысли слушавшему меня человеку.
Он то садился, то вскакивал и все время
потирал маленькие отмороженные синеватые
руки. А я читала переводы вслух и, не
говоря об их полной негодности, указывала,
какая строка поестественней, поблагозвучней,
какая понеуклюжей. Только и всего.
Но и эта нехитрая операция поражала
моего собеседника.
—
Как вы понимаете стихи,— опять
сказал он, опускаясь в кресло, словно
от усталости.— Неужели вы не
пишете сами?
—
Я уже говорила вам, что
нет.
Я добросовестно
прочитала вслух все переводы до
одного, кое-что на ходу исправила
сама, кое о чем предложила
попросить переводчика.
Он вскочил и стал укладывать свои
бумаги в папку и преувеличенно благодарить.
Пробовал связать узлом обрывки
тесемок, но они были слишком
короткие. Да и бумажки
торчали.
Мне вдруг очень
захотелось, чтобы он поскорее ушел.
Потому что я понимала — как понимаешь
такие вещи? — что ему не хочется
уходить от меня и что я заняла в его
жизни большое место — помимо своего
желания и, быть может, вопреки его
собственной воле. Что моя комната
— для него — то же, что для меня №
8. И что, расставаясь с нею, он
испытывает боль разлуки... Тесемки
ему не давались.
—
Вы пойдете сегодня после чая
гулять? — спросил он, оставив их
наконец в покое.
— Не
знаю еще... Какая будет обстановка:
сердце, погода, работа, ванны...
Он хотел что-то сказать, но только
пожевал губами, ничего не сказал и
вышел.
А писем к отъезду
Людмилы Павловны мне так и не удалось
написать — только одно Катюше. Сразу
после ухода Векслера ко мне пришла
переменить постельное белье девушка,
Лелькина «двоюродная», работающая «на
складу».
Вяло читая,
я на нее поглядывала. Я заметила, что,
вешая на спинку кровати свежие полотенца,
она, привстав на цыпочки, издали, краешком
глаза, покосилась на книгу, лежащую у
меня на столе. Это был «Замок
Броуди».
— Вы эту
книгу читали? — спросила я.
— Не, откуда же,— сказала она, натягивая
чистую наволочку на подушку.
— А вообще много читаете? Или
некогда?
— Неколи
нам, да и взять негде.
— Библиотека здесь большая,— сказала
я.
— Большая! — повторила
она вдруг с такой насмешливостью, с
такой давно накипевшей злостью, что
мне сделалось не по себе.
— Библиотекарша нипочем не
дает деревенским.
—
Ну а в Москву не собираетесь?
Учиться? Там общежитие дадут.
— Дадут тебе! — ответила она
презрительно.— Дадут, да не нам. Тут
немцы полтора года стояли. Мы из
оккупированной местности. Нам в
городе прописки нету... Дадут
тебе общежитие,
Она
схватила в охапку снятое белье
и пошла к дверям.
— Вам сейчас сколько? Семнадцать?
Девятнадцать? Так при немцах
вам было восемь лет! Не больше!
Столько, сколько Лельке сейчас! —
закричала я.— Какое же это может
иметь значение?
Она
не удостоила меня ответом. «А ты что, с
неба свалилась? — выражала ее спина.—
Старая дура. Расселись тут, пишут! А
чего пишут, и сами не знают».
И вправду — старая дура! Если бы при
немцах ей было не восемь, а семнадцать,
или двадцать пять, или тридцать, все
равно, чем же она виновата, что армия,
уходя, отступая, бросила их на милость
врага — и какого! Гитлер не Наполеон.
Их бросили, и они же теперь виноваты!
Ведь это при Наполеоне годилось:
пол-россии отдать, а потом взять
обратно: мирные люди целы. А ведь тут,
отступая, оставляли Лелькину маму и
Лельку впридачу, оставляли не
кому-нибудь — убийцам. Лес и поле
отнимешь обратно, а людей? Сколько
таких вот Лелек и мам
недосчитались после победы!
«Что народу-то!»
Убийц
прогнали. А на Лельке клеймо: «была в
оккупации». И она, и ее мама, и ее
«двоюродная» теперь неполноценные
граждане... От анкеты никуда не денешься:
анкета — шлагбаум, опущенный
перед их жизнями.
...После обеда я зашла ненадолго к
Билибину. Он уже не в постели, а в кресле,
за столом, за машинкой. Обрадовался
мне, усадил, но я видела, что он хочет
работать, и заторопилась к себе — и
я ведь сегодня еще не работала. «А
что, если показать ему... ту рукопись...
куда я спускаюсь,— смутно подумалось
мне.— Неужели при моей жизни ее прочтет
только один человек: Таня Полякова?..
Быть может, на самом деле «понималыциков»
гораздо больше, чем думаем я и Таня.
Кому и понимать, как не
ему? Он нам брат».
— Кончаю,— сказал он
торжественно.— Последнюю главу
пишу. Скоро буду конверт клеить,
в издательство посылать.
И по лицу его скользнуло
тревожное выражение — по этому
спокойному, ястребиному лицу.
— У меня к вам просьба. Прочтете
рукопись мою, когда я кончу? Векслер
говорит, вы удивительно понимаете
литературу...
— Конечно,
прочту. Это для меня радость,— сказала
я. Мне хотелось продолжить: «будет снова
как там, в лесу: я услышу ваш
настоящий голос». Но сдержалась.
...III
49 г.
Сегодня с утра,
после завтрака, я легко отработала норму
своего перевода, приняла ванну, полежала
и почитала после ванны «Замок Броуди»
в светлой комнате, залитой ярким
сиянием снега, сделала круг — до
шоссе и обратно, — полюбовалась на
затейливо разубранный инеем орешник
в овраге и, чувствуя себя голодной,
бодрой и почему-то не несчастной,
спустилась к столу. Билибин уже сидел
там, повязавшись салфеткой, и оживленно
беседовал с только что вернувшимся из
Москвы Сергеем Дмитриевичем. За столом
сидел кто-то новый. Как только
меня познакомили с ним — это Петр
Иванович Клоков, критик, заведующий,
кажется, критическим отделом
одного из московских
журналов, — бодрость моя сразу пропала.
Щуплый, с тупым лоснящимся
бугристым лицом, в модных лакированных
туфлях и в галстуке
бабочкой, он сильно не
понравился мне. Какой-то
лощеный хам. Не понравилось,
как он расшаркался передо
мной, как прикрикнул на
подавальщицу Лизу за то, что
суп недостаточно горячий, как
подергивал брюки, оправляя складку,
как, опрокидывая рюмку, говорил
мне: «Ваше здоровье»... За
супом он и Сергей Дмитриевич
принялись расск осеннемазывать
московские литературные
новости.
Разговор вертелся
вокруг «Литературной газеты», «Советского
писателя», комиссий Союза, редакций
журналов. Билибин не говорил ничего,
молчал или задавал вопросы, и
очень внимательно слушал своих
собеседников, изредка взглядывая на
меня из-под полуопущенных век. Клоков
порадовал нас сообщением, что он
работает сейчас над проблемами мастерства,
но не на старом материале, а на новом:
изучает стиль произведений Бубеннова,
Первенцева, Ореста Мальцева. Сергей
Дмитриевич мягко заметил, что хотя такую
направленность статьи он считает
безусловно правильной, но что форма у
этих писателей, надо сознаться, несколько
отстает от содержания. Потом Сергей
Дмитриевич рассказал о речи главного
редактора на совещании в «Литературной
газете».
— Удивительно
он сумел показать империалистическое
зерно космополитских идеек. Вскрыть.
Удивительно! Его речь мне просто глаза
открыла на многое. Вот, например...
Зеленин, хороший мой приятель...
— Это который Зеликсон? —
ухмыляясь, перебил его Клоков.
—Да, так вот Зеленин, хороший мой
приятель, мы с ним в армии вместе, а
теперь вместе на даче живем, и я его
часто печатал у нас в отделе... Не
по приятельству, конечно, а просто,
знаете, кандидат наук и
репутация у него знатока...
— Да, это они все умеют — хвастать
культурностью, — вставил Клоков.
— Я его печатал, не замечая, не желая
замечать, что стоит за его любовью к
Флоберу, Стендалю... И только после
речи главного редактора мне стало
ясно, куда он тянул. Я вспомнил один наш
разговор за картами. «Без французов не
было бы, пожалуй, психологизма Толстого»,—
сказал тогда Зеленин.
Сергей Дмитриевич серьезными
глазами многозначительно оглядел
стол.
— Понимаете? Не
мировое значение нашего
Толстого, а французы, оказывается,
влияли на него!
—
Да, они умели протаскивать,— сказал
критик и вынул золотой портсигар.— Вы
позволите? — обратился он ко мне. Щелкнул.
Закурил.— Протаскивать антинародные
идейки. И один другого тянуть тоже
хорошо умели. У нас в журнале мой
заместитель многих за собой тянул...
целый хвост... Теперь его уволили
и выговор ему дали. Да разве их
одними выговорами отучишь? У них
такая между собой спайка,
будьте спокойны.
—
Как фамилия? — зачем-то
осведомился Билибин.
— Ландау. Я в отпуск — а он Мееровича
напечатал. А Меерович хвалил этого...
как его?.. Михоэлса, помните? Он
напечатал, а мне теперь чуть строгача
не вкатили... И я тоже... признаться, хлопал
глазами... пока не разъяснила
печать.
— А что же...
собственно... вам разъяснила печать? —
спросила я. У меня давно уже сильно
колотилось сердце — в горле, в ушах.
Так сильно, что секундами заглушало
для меня голос говорящего.
— Все,— чуть пожал плечами Клоков.— Их
антинародную деятельность. Их
антипатриотическую сущность. Связи
с Америкой. Глубокие корни, которые
пустил сионизм.
—
А меня,— сказала я с трудом и тихо,—
когда я читаю газеты, поражает,
напротив, что все, что пишут об
этих людях,— явная неправда.
Именно явность неправды и
поражает, бросается в глаза.— Я
хотела добавить: «и сходство
слов со словами тридцать
седьмого года», но бог меня спас, я
удержалась.— Не слова, а какая-то
словесная шелуха. Пустышки. Знаете,
как младенцам дают соски-пустышки?
Без молока... Так и эти слова: без
содержимого. Без наполненности.
Не
фразы, а комбинации значков.
Билибин толкнул меня под
столом ногою. Но остановиться
я уже не могла. Хорошо, что хоть не
назвала год.
— Ни
одного полновесного слова. И
потому сразу ясно, что ни Зеленин,
ни его друзья не виновны.
— Явность неправды? — переспросил
Сергей Дмитриевич. — Соски-пустышки?
— Нельзя, нельзя, Нина Сергеевна,
проявлять мягкосердечие и ручаться за
всех и каждого,— назидательно
говорил Клоков.— Проявлять
благодушие... В обстановке активизации
международной реакции это
крайне опасно, крайне.
Сколько раз слышала я это возражение в
тридцать седьмом году! «Разве вы можете
ручаться за всех? Разве вы их уж так
хорошо знаете?» Разумеется, не знаю,
ведь «враги» исчислялись миллионами.
Как же мне за каждого поручиться? Но вот
за фирму, производящую ложь, я ручаюсь.
Разглядеть ее клеймо я всегда сумею.
Конвейер патентованной лжи —
сколько раз он уже пускался в
ход на моем веку! как же
мне его не узнать?
Особенно ненавистны в эту минуту были
мне яркие запонки Клокова с крупными
камнями. Он вилкой тыкал в хлеб,
и они сверкали.
— Не
можете же вы всех знать и за всех
ручаться,— повторил Клоков, показав
мне в снисходительной улыбке
свои стальные зубы.— За всех.
Не правда ли?
— Я
не знаю, никогда и в глаза не видела
ни одного из обвиненных, не только
что всех,— сказала я.— Но в словах,
которые о них пишутся, нет ни
грана правды. За это я ручаться
могу... и это сразу слышно... Ведь это
готовые клише, а не мысли. Слышно по
однообразию... по расстановке слов... по
синтаксису... тону... интонации.
Клоков не рассмеялся мне прямо в лицо
только потому, что ему недавно объяснил
кто-то авторитетный: с дамами, в особенности
з а столом, и в особенности, если они
круглые дуры, следует при всех
обстоятельствах оставаться
вежливым.
Сергей
Дмитриевич смотрел на меня с
состраданием и удивлением. Подумать
только, по тону слов! не по смыслу, а по
тону и расстановке слов отличить правду
от лжи! Бывает же этакая чушь! Какую
говорит ерунду, а еще переводчица, член
Союза... Недаром она любит стихи... этого...
заумного... Пастернака.
— Если вас не убеждают
слова,— сказал Клоков,— то
извольте: вот вам факты,
подтверждающие антинародную
деятельность некоторых нерусских
националистических групп...
группировочек... группочек... связанных
с критиками-космополитами, так
сказать, идейным — и не только идейным
— родством. Закрыто третьего
дня издательство «Эмес», и
руководители арестованы. Чем вам
еще доказать?
Я
услышала стук отодвигаемого
стула и оглянулась. К нашему столу
подошел Векслер.
—
«Эмес» закрыто?
—
Да-с. «Эмес»,— с достоинством
отчеканил Клоков.— Именно «Эмес».
Он перестал есть и с каким-то
особым самодовольством поправил
галстук.
Векслер молча
стоял перед нашим столиком.
— И руководители арестованы,—
повторил Клоков.
—
Что ж, товарищи, пора и по
домам,— громко сказал Билибин.
Все поднялись.
...III 49 г.
Кончила, кончила! Кончила свое писание!
Не знаю еще, как оно будет называться,
может быть,— «Фонари на мосту», а может
быть, просто: «Дочка». Вот оно, написанное,
переписанное, конченое, лежит передо
мной. Я перелистываю страницы, исправляю
нумерацию. Я его вклею сюда в дневник.
Легче прятать одну тетрадь, чем
две.
Я ничего не знаю
о нем: какое оно? Если бы кто-нибудь
прочитал и сказал мне!
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Фонари
на мосту погасли все зараз, и, как
все в эту ночь, мгновенность и беззвучность
их исчезновения показалась мне
страшной. Очередь мною была занята еще
с вечера: мой номерок 715. Пускать
начнут с девяти часов, а сейчас еще и
шести нет: трамваев еще не слышно.
Женщины молча бродят по набережной
вдоль промороженного парапета.
Кажется, вся сила мороза
внедрилась в эту звонкую
гранитную стену; тронь —
обожжешься. Тянется конец ночи,
но на утро уже ни у кого
нет надежды, хотя тьма
бледнеет с каждой минутой и на
плечах уже проступает белизна платков,
на домах — очертания крыш и труб. Из
грязных парадных, пошатываясь, закуривая,
выходят женщины — они дремали там, на
площадках второго и третьего этажа, на
промерзших каменных плитах. Но вот над
бледной громадой моста сверкнула
первая зеленая искра, оттуда послышался
трамвайный зуд — утро уже
неоспоримо — и в слабом растворе
света стали видны зеленоватые
лица и груды грязного
снега, вываленного на лед. В
домах уже загораются окна.
Когда пошли трамваи, народу сразу
прибавилось. Приближаясь к условленной
парадной, пришедшие вытаскивали из
карманов, сумочек и варежек измятые
номерки и предъявляли их самозванной
хранительнице списка, и сейчас же
вспыхивала злая перебранка: «мы здесь
целую ночь мерзнем! — говорил
кто-нибудь,— а вы заняли и греться
ушли. А мы за вас стой! Вычеркнуть
всех, да и все!» — и в этих злых словах
мне слышалось то же, что и в ночном
всеобщем одиноком молчании: каждая
думает, что ее-то Петю взяли зря, а
вот у этой и этой муж — изменник
родины, вредитель, шпион... Подальше
от них, подальше.
Совсем рассвело. И я увидела, сколько
тут женщин с грудными детьми. Дети
кашляли и чихали на руках у матерей под
белыми занавесками, скрывавшими лица,
выгибались и покряхтывали в толстом
тепле одеял, а матери, просовывая
руки в тепло, тревожно ощупывали
младенцев, покачивали, прижимали
живые свертки к себе, уходили в
парадные кормить.
К
восьми часам все перебрались с набережной
на улицу и, пугливо прижимаясь к
стене и стараясь занимать как можно
меньше места, стали очередью к высокой
деловитой двери Большого Дома. Дверь
была так далеко от меня, что я еле
различала ее очертания. Передо мною
стояла старуха-еврейка в двух толстых
платках — сером и белом — и с заиндевевшими
усами, а позади — молоденькая
белокурая женщина с грудным
младенцем на руках. Младенец был
завернут как-то необыкновенно ловко,
плотно и нарядно — одеяльце розовое,
вязаное, тюль над личиком голубоватый,
накрахмаленный, широкая атласная лента
переватывает ножки, а на матери вязаная
шапочка, вязаные варежки в
цвет — все, видно, сделано своими
руками.
— Мальчик? —
спросила я.
— Девошка,—
ответила женщина, и я сразу угадала
финку.— Поюсь, он ростудился, полен...
Шетыре месяца ему.
Девочка чихнула под голубым накрахмаленным
облаком — мать приподняла тюль, и я
увидела розовое, почти как одеяло,
нежное, крошечное личико, такое нежное,
что пылинка гари, севшая на щеку, кажется
тяжелым черным камнем. Ресницы, как
благословение божие, лежат до половины
щек. Крохотное личико — а там, в одеяле,
крохотные красные пяточки, крохотные
пальчики с игрушечными ноготками
и все ее чистенькое
бархатное тельце.
—
Закройте скорее,— сказала я. Страшно
было думать, что к этому личику прикоснется
мороз.— Вашего мужа давно?
— Be нетели. Риехали ночью
наша деревня русовики и
сех мужчин увез. Мы финны...
Дверей еще не открывали, а утро уже
разгорелось, сверкая морозным сиянием
и снегом, и на улице становилось
людно. Девочки-школьницы, по две, по три,
шагали по нетронутому снегу бульвара,
деловито и аккуратно, с туго
заплетенными мамой косичками, в
плотных валеночках, перешептывались
и смеялись, а мальчишки прокатывались
по ледяным проплешинам, глазея по
сторонам. Один скинул ранец,
подошел к скамейке и осторожно
прилег на свежий бугор. Лег — и
ему сразу стало скучно.
Он вскочил и, отряхиваясь, долго
рассматривал свое выдавленное на
снегу отражение. Маленькие
ребятишки, задирая головы и сбиваясь с
шага, вглядывались в наши замерзшие
лица и, споткнувшись, бежали догонять
друг друга... Вот и взрослые уже
заспешили на службу. Из взрослых
почти никто не глядел на нас и
ни о чем не расспрашивал — потому ли,
что все и без того знали, кто мы, или
потому, что человек, торопящийся на
государственную службу, вообще лишен
любопытства. Только тетка
с кошелкой и в очках, перевязанных
веревочкой, вдруг, проходя мимо,
спросила:
—
Это за чем очередь-то, граждане?
Ей никто не ответил. Все
смотрели в стену или себе
под ноги.
—
За чем стоите-то? — повторила
любопытная тетка.
— А тебе завидно? — огрызнулся вдруг
кто-то из очереди.— За горем стоим!
Становись «кто последний — я за
вами...».
Тетка ушла.
Вопрос ее причинил мне страдание —
более острое, чем вся морозная беспросветная
ночь. Я почувствовала свою немоту. Я
ничего не могла бы ответить ей. В эту
ночь и во все предыдущие ночи и дни меня
мучило не горе, а что-то худшее:
непостижимость и неназываемость
происходящего. Горе? Разве горе такое?
У горя есть имя, и, если ты достаточно
мужественен, ты окажешься в силах
произнести его, но случившееся с нами
лишено имени, потому что лишено смысла.
Сон, кошмар? Нет, не следует клеветать
на кошмары... Мне казалось, что голова
у меня кружится и сердце медленно
тяжелеет не от шестнадцати часов,
проведенных на ногах, а от бесплодных
усилий понять случившееся и дать ему
имя. Мысль доходила до какого-то места,—
кажется, это было то мгновенье, когда
чужие руки шарили среди детских игрушек,
ища оружие,— мысль упиралась в эти руки
и в кубики, из которых по картинке
получалась избушка на курьих ножках, а
если все вместе разом перевернуть
— большая белая коза; упиралась в эту
козу — и дальше ни шагу. Я так же не
могла шагнуть дальше, как не умею
двигать ушами. Морщу губы и брови, и все
без толку. Какое движение сделать,
на какой мускул нажать?
Очередь передо мною наконец пошла: там,
впереди отворились тяжелые двери.
Очередь тихо и с опаской втекала в
огромный, многооконный зал. Не было ни
толкотни, ни шума, ни споров — одни
пугливые взгляды. Это ведь не заплеванная
лестница или коридор Прокуратуры, не
деревянные кривые комнатушки перед
справочным окошечком тюрьмы — это сам
Большой Дом, министерство, сама судьба.
Еще не переступив порога, женщины
торопливо отряхивали снег с платков и
валенок, а переступив его, с такой боязнью
глядели на массивные плиты пола, будто
под каждой мог таиться люк. Боясь
прислоняться к строгим, благородной
осанки колоннам, они тихо переминались
с ноги на ногу, переспрашивая друг у
друга номера, и становились вдоль стен,
щурясь на высокие прямые окна, чисто
вымытые, ясно глядящие в белый день.
И сразу же в зале появился комендант.
Он не вошел, а именно появился, как
бы из-под пола театральной сцены.
Со всей откровенностью
провинциальной оперной безвкусицы
он был загримирован тюремщиком.
Ключи тяжело звякают у пояса. Кобура
револьвера расстегнута. Туловище
длинное, а ноги короткие, будто они
не его, а заимствованы у кого-то
другого. И над отекшим бессонным
лицом, над желтизной нечистого
лба — яркий голубой околышек
фуражки. Появившись, он сразу принялся
расставлять очередь, которая и без
него стояла в полном порядке,
покрикивая на женщин, как на лошадей,
подталкивая их за плечи и
хлопая себя по бедрам ключами.
— Эй, дамочки! Становись ровней! Одна
за одной! Одна за одной! Матеря, давайте
направо! Кому говорю? Женщины с детями
— отдельную очередь! Дорогу матери и
ребенку! Матеря пойдут через пятую! Пять
дамочек — одна мать! Четверо пройдут —
пятая мать, понятно? Входить будете
по звонку... И откуда это вас нынче
этакая уйма поднаперла!
Одни опускали глаза и отворачивались,
стараясь не глядеть на него, другие
робко, с жалкой развязностью улыбались
ему и осмеливались задавать
вопросы:
— Скажите,
товарищ комендант, а нам здесь дадут
справку... за что арестован... то есть в
чем обвиняют, по какому делу?
— Скажите, товарищ комендант, а у меня
примут заявление... у мужа третья стадия...
туберкулез...
— Я
исключительно извиняюсь, конечно,—
сказала старая еврейка с усами,— а когда
мужа будут высылать, нам дадут
свидание, что?
Комендант становился к спрашивающим
как-то боком и, хлопая себя по бедрам
ключами, на всю тишину огромного
зала зычно говорил:
— И зачем вы только сюда
ходите? Только сами себя
расстраиваете и работников отрываете
от дела. Раз взяли ваших
мужей, значит, не зря. Чего еще
спрашивать? Честного человека зря
не возьмут... А вы бы, дамочки, чем
сюда попусту ходить — поискали
бы себе других.— Он подмигивал.—
Молодые, интересные гражданки.
Я все ждала, что сейчас, слегка переигрывая,
он возьмет кого-нибудь двумя пальцами
за подбородочек.
Молодая
женщина с ребенком оказалась разлученной
со мной; она стояла гораздо ближе к
дверям, чем я, в особой очереди
матерей с детьми.
Прием
начался. Через каждые две-три минуты
раздавался короткий, отчетливый резкий
звонок и кто-нибудь, прижимая к груди
паспорт, как иконку, скрывался
за дверью. Каждая из стоящих в очереди
очень хотела бы увидеть ту, которая уже
получила справку, чтобы, одолевая
отвращение к жене шпиона, кинуться к
ней и узнать, что ей сказали, но ни одна
не возвращалась в зал: по-видимому, из
комнаты, где выдавали справки, был особый
выход на улицу... А новенькие все
прибывали и прибывали. В зале
становилось все душнее и душнее,
ноги у меня наполнялись водянистой
тяжестью. Яркий свет окон резал
глаза. Звонок раздавался каждые
три минуты, каждые три минуты, и следующая
женщина, как будто этот внезапный звук
был проведен прямо ей в сердце, сразу
переступала порог... Молодой женщине
с ребенком было уже совсем недалеко.
Я обратила внимание на то, что она как-то
странно, на вытянутых прямых руках,
держит перед собой девочку и, не мигая,
упорно смотрит на высокую дверь. Но я
не задумалась о ней и о ребенке, потому
что и мне было уже недалеко до
двери и настала минута
окончательно обдумать слова, которые
скоро я должна буду
произнести.
Всю
длинную ночь я откладывала
мысли о том, что я сегодня
скажу человеку, дающему
справки, что спрошу у него и,
главное, как я ему все объясню,—
откладывала до того
мгновенья, когда попаду наконец в
тепло. Теперь же духота валила меня с
ног. Но дальше откладывать было
нельзя. Надо точно
приготовить слова, чтобы в нужную
минуту не растерять их. Нужно их
вызубрить, потому что я по
опыту знаю: чуть только я увижу лицо
и глаза человека, сидящего за большим
столом и перебирающего карточки
с фамилиями арестованных,— чувство
тщетности всякого слова
неодолимо охватит меня. Это уже
бывало не раз. И я опять уйду, не
спросив о главном, не сказав и
половины того, что я обязана
сказать. Другие женщины
умоляют, клянутся, настаивают,
плачут, прижимая руки к груди. И если
я хорошо подготовлюсь, заранее
найду все слова, может быть, и я
пробьюсь сквозь нежелание
того человека слушать, и он
сделает пометку у себя в
блокноте или на карточке с
фамилией...
Научная
медицинская деятельность
— раз. (Я вложила в паспорт характеристики
последних Алешиных научных работ,
написанные светилами медицинской
науки.) Педагогическая деятельность
— два. Практика — три...
Почему-то я не могу ничего вспомнить
убедительного — такого, чтобы все
сразу поняли, о каком человеке
идет речь.
А звонок
раздается все чаще и чаще, вот уже и
молодая женщина с ребенком скрылась за
дверью, вот уже у двери стоит дама в
мехах, которая ночью, на набережной,
хотела, но боялась заговорить со мной,
вот уже старуха-еврейка позади меня
шумно вздыхает и, забывшись, произносит
что-то вслух по-еврейски... Но мне
раньше, чем ей, а я так и не успела
приготовиться... Следующий звонок мне,
я стою уже у самой двери, я могу тронуть
рукой ее коричневую лакированную
поверхность...
Звонок.
Я нажимаю тяжелую ручку, и дверь
отворяется с неожиданной
мягкой податливостью.
За дверью — не зала, не приемная
с портретами и большим столом,
как я ждала, глядя на бронзовую
ручку, а какой-то закуток. И
никого, ничего — ни стула, ни человека.
Только кривая фанерная дверь
с надписью «Выход здесь» да закрытое
окошечко — такое, какие бывают
на почте,— налево — в стене. Я
подхожу к окошечку. Оно высоко.
Чтобы дотянуться до него, я
поднимаюсь на цыпочки. Я стучу.
Фанерный занавес взвиваете вверх.
В раме окошечка — лысина, нежно-розовая
как жир ветчины, розовые,
дряблые щеки и торчащие по
бокам розовой мякоти пушистые
белоснежные усы.
—
Я хотела бы узнать,— начинаю я, стоя
на цыпочках.
—
О ком справляетесь? — кричит розовая
голова.— Имя, отчество, фамилия?
Я называю.
— Сами вы
кто? Жена, сестра?
— Я
жена.
— Документ!
Я протягиваю в окошечко паспорт, роняя
на пол характеристики. И вдруг треск —
и голова исчезает. Передо мною ни усов,
ни лысины — снова гладкая фанерная
доска. Я смотрю на нее и пытаюсь
припомнить слова, которые надо
сказать.
Фанера
взвивается. Паспорт летит мне
прямо в лицо.
— Дело
вашего мужа, Пименова, Алексея
Владимировича, ведется,— кричит голова.
Фанерный занавес снова падает с
треском, и я слышу, как в зале раздается
звонок.
«Выход здесь» —
написано на дверях. Ну, раз здесь, я и
выхожу. Передо мною заснеженный
дворик с прямыми, усыпанными песком
дорожками. Какое освобождение —
глотнуть морозной чистой стужи!
И увидеть елки и снег на ветвях.
Я иду, сжимая в руке паспорт и бумаги,
и перед глазами у меня плавают черные
точки слабости. Мне кажется, я
никогда не видела таких чистых
расчищенных дорожек, такого
яркого желтого песка. Красивый,
даже уютный двор. Я беру горсть снега
и засовываю его в рот. Выхожу на бульвар.
Со скамеек уже сметены
сугробы, на скамейках сидят
няньки, а дети, с поднятыми до самых
глаз воротниками — а поверх
воротников шарфы! в валенках — а на
валенках калоши! — задыхаясь в толстых
пальтишках, неподвижно, с растопыренными
руками, не в силах повернуть шеи,
маленькими пингвинами стоят
возле скамей.
Черные
точки одолевают меня, и я
опускаюсь на пустую скамью.
— Что, он вам дал справку,
что? — спрашивает у меня громким
шепотом старуха-еврейка, усаживаясь
возле и вцепившись мне в рукав.
Своим морщинистым, наступающим на
меня лицом она заслоняет снег,
детей и нянек.
— Дело
моего мужа ведется,— отвечаю
я.
— Моего тоже
ведется,— говорит старуха. — Что там
с него плести, что вести, что
они с нас шпионов выстраивают?
Муж мой был кристально чистый
большевик...
И кристально
чистая слеза ползет по глубокой
морщине. Она встает и ковыляет к остановке
трамвая. Я чувствую, что сейчас тоже
заплачу — от боли в ногах, от яркого
снега, от милых пингвинов (взнузданные
шарфами, они все же умудряются нагибаться
и копать снег),— я кручу шеей и вдруг,
сквозь цветные шарики слез, вижу на
соседней скамье финку с ребенком. Я не
сразу догадываюсь удивиться тому,
что девочка лежит не на коленях у
матери, а рядом с ней, на голой,
промерзшей скамье.
— Что он вам сказал, что? —
кричит ей старуха, ковыляя мимо.—
Дело ведется?
Женщина
ничего не отвечает ей, и старуха, подождав,
идет дальше. А я поднимаюсь и бегу к
женщине. Она глядит куда-то мимо меня,
и я никак не могу поймать ее взгляда. На
снегу возле скамьи лежит
зеленая пушистая варежка.
— Мне нужно было снова
постучать в деревянное окно, когда
он захлопнул его,— говорю ей я
и поднимаю варежку.— Сильно
постучать, чтобы он открыл и
выслушал меня. Он перед вами
тоже захлопнул окно? И вы ничего не
успели сказать ему? — спрашиваю
я и подаю женщине варежку. Но
она не берет ее.— Почему вы
ребенка положили на скамью? Такой
мороз!
— Дело
ветется,— говорит мне финка,
по-прежнему не глядя на меня и
не беря у меня из рук варежку.
Я сажусь с ней рядом и осторожно
кладу девочку к себе на колени. Все-таки
у меня на коленях ей будет теплее,
чем на скамье. Женщина даже головы не
повернула. Я прижимаю розовый пакет
к себе. Девочка не плачет, не выгибается
в одеяле. Мне хочется просунуть
в одеяло руку, тронуть ее ножки, но я
боюсь впустить туда мороз.
— Вы давно кормили? — спрашиваю
я. — Вам пора домой. Пора кормить.
Где вы живете?
Она молчит.
—
Его польше не надо кормить,—
говорит она.
Я
тихонько откидываю
накрахмаленное покрывало.
Мертвое личико с полуоткрытым жалким
ротиком и чуть мерцающим из-под одного
века глазом лежит у меня на
коленях.
—
Она еще тогда помер,— говорит
женщина.— Там.— И машет рукой в сторону
здания, из которого мы вышли.—
Но я не хотел потерять очередь
матерей, хотел получить правка.
Я очень любил мой муж.
Мы поднимаемся и поспешно, как будто
нам есть еще куда торопиться, идем
к трамвайной остановке. «Любила, —
думаю я, — любила — прошедшее время».
Я несу на руках тяжелого, мертвого
младенца. Девятка. Женщина коротко
говорит мне:
— Дай! —
берет у меня из рук девочку
и входит в вагон.
...III 49
г.
Сколько дней я
уже не писала дневник? Три? Пять? Не
помню. Не знаю и знать не хочу. Стараюсь
не знать, которое сегодня число. Дни
уже идут под гору: туда, к отъезду,
к концу, и я не хочу считать
их.
Каждый день много
часов проводим мы с Билибиным вместе
— в роще, на шоссе, в еловом лесу, у меня
в комнате, у него. Я все думаю: не прочитать
ли ему про очередь и финку... Мы уже
обменялись детством и юностью.
Прошлое его совсем не похоже на мое:
он ведь старше лет на десять, в 17-м году
ему были все двадцать. Отец — генерал;
он порвал с отцом еще мальчишкой, удрал
из дому, что называется, ушел в революцию;
недолго был студентом-юристом, сблизился
с эсерами, в гражданскую воевал — против
белых, против Деникина — сначала в
партизанском отряде, потом в Красной
Армии. Весь быт, вся обстановка
другая; но детства наши странно
похожи одинокостью, горечью: и у
меня, и у него рано умерла мать,
оба мы росли не дома...
В тридцать пятом начал писать
и печататься, в тридцать
седьмом — его арестовали.
Алешу в августе, а его в мае, весной.
Жизнь моя здесь за последние дни
изменилась. Кроме пяти страниц
перевода в день, я не делаю ровно
ничего: писем не пишу, книг не читаю.
Если я не с ним, я жду, когда настанет
час нам быть вдвоем, когда кончатся мои
процедуры и его писание. Мы надолго и
далеко уходим вместе — он чувствует
себя хорошо, он в силах ходить,— и люди,
увидев нас, не заговаривают ни с ним, ни
со мной и пропускают нас мимо себя в
молчании, хотя Билибин резво машет
шляпой и торопливо кричит:
— Гуляете? А не слишком ли вы
легко одеты? Застегнитесь — мороз!
Роща уже не живет сама по себе, собственной
тайной жизнью наедине со снегом, ветром,
облаками, а существует для нас: отпечатывать
на снегу наши шаги, то заметать
их метелью, то наливать водою,
перекатывать ветер над нашими
головами, серостью или яркой голубизной
неба изменять цвет его глаз. Охранять
нас от всего мира и не мешать слушать
друг друга.
Читать и
писать я больше не могу и бывать одна
под небом, звездами, деревьями тоже.
Если хороша заря за лесом, у меня сжимается
сердце: как принести ее ему? Каким словом?
Если на мостике весело скрипит снег под
башмаками — как донести этот детский
звук, звук деревенского сочельника,
до его комнаты? А вот стихи — стихи
разлучают нас. В них мы не вместе. Он их
не понимает, не любит. Он мне сказал:
«Когда я был молоденький мальчик,
шестнадцати лет, я тоже писал стихи».
Значит, они для него так, шутки, игрушки.
Но я все надеюсь, что еще вспомню
чье-нибудь стихотворение, которое
тронет его.
По моей
просьбе мы с Николаем Александровичем
навестили беднягу Векслера: после
разговора с Клоковым он от огорчения
расхворался. В самом деле, ведь «Эмес»
печатал его стихи, и с редакцией тамошней
он был близок... Да и не в этом дело, а во
всей этой нарочно придуманной,
искусственно раздуваемой гнусной
антисемитской кампании. Он лежит;
листочки стихов валяются повсюду,
он в помятой пижаме, а френч с орденом
как-то понуро, бесформенно повис на
спинке стула. Лежа, Векслер перебирает
листки, грызет карандаш и, судя по
всему, старается благополучно
осмыслить происходящее. (Я помню, я
когда-то тоже старалась.) Сделать
его понятным и даже
приемлемым.
— Мы ведь
не всё знаем,— говорит он, вздыхая.—
Нам трудно судить, что правильно, что
нет с точки зрения международной
политики. Там, наверху, виднее. У них
перспектива шире. Со сталинской
высоты виден весь мир... Вот, например,
ополчение. Я тогда не понимал,
зачем было бросать в бой необученных,
невооруженных людей? Ведь тогда сколько
интеллигенции погибло! Она могла бы
пользу приносить. И лишь через несколько
лет я осознал всю гениальность сталинского
плана обороны Москвы. Сталин бросил в
бой необученных, а пока подоспели
резервы. Москва была спасена.
«И уничтожение «Эмес» тоже необходимо
для спасения Москвы? — хотела я
спросить, но не спросила.— И клевета
на критиков? И раздувание
антисемитизма?»
Но я
молчу. Не спорю. Билибин весьма
вразумительно объяснял мне то, что,
впрочем, я и сама знала: бессмысленность
и рискованность споров на все эти темы.
Например, к чему спорить с таким
чурбаном, как Клоков? Это и опасно
и безнадежно.
— Понять
он все равно ничего не поймет,—
пояснял мне Билибин,— а, черт его подери,
еще и заявление напишет: «Такого-то
числа, там-то, в присутствии таких-то,
такая-то высказывала антипатриотические
мысли, выражая недоверие партийной
печати». И начнут нас, голубчиков, Сергея
Дмитриевича и меня, тягать как свидетелей...
И пойду я на вас показывать! — закончил
он со смехом.— Нет уж, Нина Сергеевна,
увольте! Нельзя быть такой несдержанной.
Пощадите себя да и нас,
грешных. Нельзя.
Оказывается, сам он, Билибин, попал в
лагерь за какое-то лишнее словцо в
приятельской компании. Кто-то донес —
и пошло... Всех тягали. Один уперся,
двое подтвердили. И сломана
жизнь.
Векслер, разумеется,
другое дело, с ним можно говорить, не
опасаясь, но к чему же, настаивал Николай
Александрович, мешать человеку придавать
глубокий и таинственный смысл злобной
бессмыслице, если таким способом ему
легче сохранять душевный покой?
Пусть.
У Векслера мы,
впрочем, сидели недолго. Слишком уж
явственным было его желание говорить
со мною одной. Я поднялась. Он вскочил
с дивана — в пижаме и в носках. Листки
полетели на пол. Он кинулся их
подбирать.
— Не нужны
мне светские визиты,— мрачно сказал он
мне, сидя на корточках и грозно глядя
на меня снизу вверх.— Я хочу
увидеться с вами, чтобы прочесть
вам новые стихи.
Векслера мне, конечно, жаль, и я буду
слушать его стихи — а вот от Клокова
меня просто тошнит. Сам рассказал нам
однажды за обедом, как в детстве, лет
двенадцати, он учился стрелять: привяжет
кошку к дереву и палит из ружья. «А то,
когда она движется, то прыгнет, то
побежит, трудно попасть»,— объяснил
он. «Недурная подготовка для профессии
критика!» — подумала я... Я задыхаюсь от
смеха и бешенства, когда он рассуждает
о стихах.
— Не
все и у классиков хорошо,—
произнес он вчера.— Вот, например,
у Некрасова: «В лесу раздавался
топор дровосека». На самом деле
так говорить неправильно: ведь
стук раздавался, а не топор. Но
ввиду того, что Некрасов
классик,— мы ему прощаем.
Сегодня за обедом он прочел
нам целую лекцию о любви.
— Из руководящих
организаций,— сообщил он,— поступило
разъяснение: напрасно наша печать
— наша литература,— поправился он,—
не уделяет достаточного внимания
вопросам любви. Чувству любви
пора занять в жизни и в литературе
положенное ему место. Классики
марксизма были не против любви. У нас
до сих пор недостаточно
учитывали, что любовь повышает
энергию и эта энергия окрыляет
человека на трудовые подвиги, которые,
в свою очередь, можно повернуть на
строительство коммунизма...
Маркс, Энгельс, Ленин очень
положительно расценивали любовь
именно потому, что она
стимулирует...
— Нина
Сергеевна,— сказал мне умоляюще Билибин,
когда мы после обеда вместе поднимались
по лестнице,— прошу вас, поедем рыть
канавы! Я чувствую, как во мне проснулась
энергия! Ее необходимо повернуть.
От смеха я согнулась и еле
добежала до своей комнаты.
Сейчас вечер. Я сижу у себя и жду Билибина.
Он непременно придет. Тикает, тикает
электростанция, отсчитывает наши
минуты. Лампы то наливаются светом, то
меркнут. Я жду знакомых шагов и
пробую читать «Замок Броуди». Но
что-то не читается мне. Вчера я видела
Лелькину избу. Это поинтереснее всякого
замка. Я взяла с собой пирог, конфеты,
которые нам дают к чаю, и книжку русских
сказок, случайно оказавшуюся в здешней
библиотеке.
В Быкове
всего девять домишек — было тридцать,
да немцы в 41-м сожгли. Заборы, грязь,
тощие козы с какой-то сбившейся паклей
вместо шерсти. В избе у Лельки грязные
тряпки, грязные крынки и во всю мочь
над тряпками и немытыми детьми
орет круглый рупор. Вид у комнаты
такой, будто в ней только что побывали
воры, все как есть вынесли, а оставшийся
хлам разбросали: на полу осколок зеркала,
на столе — засаленные подушки без
наволочек. Лелька, босая, лохматая,
таскает по комнате годовалого Витьку,
подкидывая его повыше, а он все
сползает. «Опираясь на огромную помощь
партии и правительства,— сказала
радиотарелка, когда я вошла,— в техническом
оснащении сельского хозяйства, в текущем
году в небывало короткие сроки...» Я
выключила радио, посадила малыша на
кровать и сунула ему в рот конфету.
Лельке тоже — и начала читать ей
сказку. Как она слушала! Руками,
бровями, коленками, трущимися от
нетерпения друг о друга, открытым ртом.
Положила в рот кусок пирога и забыла
жевать и глотать. Одна сказка была про
перышко финиста Ясна Сокола, другая про
злую царевну, обманом укравшую волшебную
свирель у бедняка пастуха.
«В полночь прилетел Финист Ясный Сокол,
бился в окошко, бился, да только весь
в кровь искололся, крылья себе
порезал.
—
Прощай, красна девица,— печально
сказал он. — Если любишь — ищи,
и когда истопчешь три пары башмаков
железных, изломаешь три посоха
железных, изглодаешь три просвиры
железных, тогда и найдешь меня.
Сказал и взвился в небо.
А девица хоть и слышит сквозь сон
эти речи неприветные, а глаза
разомкнуть сил нет».
Я кончила и заторопилась домой: пора
на процедуры.
—
Была бы у меня эта книжечка,—
сказала Лелька, провожая меня
до порога с малышом на
руках,— я бы спать не ложилась — ее
читала! День и ночь бы читала, глаз бы
не перевела!
Ее речь
звучала в лад со сказкой — это
наново поразило меня.
— Да ты ведь и читать
не умеешь.
—
Выучусь! Я уже знаю «фы»!
Я надевала ботики. Лелька подтянула
малыша повыше.
—
Была бы я царевна, — певуче,
по-бабьи, сказала она, — я не была
бы злая... Я не отнимала бы у
него эту дудочку, я бы только
дунула в нее разок — так, для
смеху... Я бы его, который мне
дудочку принес, жалела...
...III
49 г.
Мы сидели
на лесной поляне на пнях:
я, положив на пень муфту, он — свою
теплую шапку. Ветра нет и солнце
уже греет. Лес в зимнем уборе, но
синие глубокие тени, голубое небо
— это уже весна! Снег мягкий
сегодня. Жаль, что я не умею
лепить.
Сидит он без
шапки, в распахнутой шубе, смотрит,
запрокинув голову, в небо — и опять у
него какое-то другое лицо.
Малоподвижное, словно бы без
выражения, а глаза неспокойные. И ветер
шевелит редкие волосы над
высоким лбом.
Взял
горсть снега, мнет его.
— Наденьте шапку, простудитесь, —
говорю я.
— А вы
знаете, что Векслер влюблен
в вас? — спрашивает Билибин
вместо ответа.
—
Пусть.
— Вы, кажется,
думаете, что это так легко и
приятно?
— Я о нем
вовсе не думаю. Совсем не
думаю никогда.
— А
обо мне?
— Много.
— Он говорит, что вы сами — стихи,
что вы сами — искусство, и
невесть еще что.
— Мало ли какие глупости кто
говорит. Мне это все равно.
Николай Александрович встал, надел
шапку, закурил, сделав несколько шагов
по поляне. От пня до кривой сосны, от
сосны до пня. Потом он далеко отбросил
папиросу и подошел ко мне сзади. Он
поднял воротник моего пальто, и мягкий
мех защекотал мне щеки и уши. Легонько
отогнул мне голову назад, так что
я снизу увидела его выбритый
подбородок, губы и спущенные на
меня пристальные блестящие
глаза.
Я сильно
помотала головой у него в
ладонях.
Он опустил
руки и отошел, а я расправила воротник.
Потом он остановился прямо передо
мною, заслонив ели и небо. В эту минуту
он показался мне очень
большим.
— Разрешите
узнать, почему мне нельзя
поцеловать вас?
Что
я могла ответить! Я и сама не знала
почему. Быть может, мне было неприятно
то деловитое, предприимчивое движение,
которым он предварительно отбросил
папиросу... Не знаю.
Я
встала, отряхнула шубу. Мы молча пошли
домой. Я заметила, что елки в тяжелом
снегу похожи на большие белые
треугольники. У Билибина было злое
лицо. «В самом деле, почему? — думала
я.— Вот, испортила прогулку. Но ведь
я не совсем виновата... Или не только
я... Ведь не от моей воли это
зависит... нельзя или можно...»
— Так и не откроете мне
эту государственную тайну? —
насмешливо спросил Билибин.
— Вы не сердитесь на меня, Николай
Александрович, — сказала я. — Трудно
объяснить. У Герцена где-то
говорится: «Слово это плохо
берет».
Неподалеку от
санатория мы встретили Людмилу
Павловну. Она вернулась утром, и
я уже виделась с ней. Про сестру она
ничего не узнала. «В прокуратуре
народу — труба непротолченная и
никакого толку не добиться».
А вернувшись, она застала у себя
на столе телеграмму откуда-то с
Севера: сестра просит прислать
свечи, спички, сахар... Живет где-то в
землянке. «Слава богу, — сказала я, —
не в лагере, значит, раз может
телеграфировать».— «А как
вы думаете,— спросила меня
Людмила Павловна в ответ,— никто
не видал телеграммы?»
Сейчас она обдала нас ароматом
духов и светской улыбкой.
— В лесу сегодня прямо сказка,—
говорила она, оправляя
пушистый платок.— Совсем как на
сцене Большого театра.
Билибин, против обыкновения, не поцеловал
ей обе руки и не стал уверять,
что она стройна как пальма.
— Что это Векслер разоткровенничался
с вами? — спросила я, когда мы
уже подходили к дому. — По какому
это случаю?
—
По-видимому, считает меня своим счастливым
соперником. И может позволить себе
жалобы и пени...
Мы поднимались на крыльцо. Я
впереди, он сзади.
— А
вы? — спросила я и повернулась
к нему. Глаза наши были на одном
уровне.
— Что —я?
— Вы-то сами — считаете себя его
счастливым соперником?
— Соперником — да, но, как вам известно,
не особенно-то счастливым... «Слово плохо
берет», — передразнил он меня с искренней
злостью.— Все-то вы умничаете, все-то
цитируете...
Отворив
передо мною тяжелую дверь, он
стал веником на пороге
охлестывать свои высокие
охотничьи сапоги.
И вот вечер. За обедом, за ужином он был
необыкновенно сух со мной. И после ужина,
вместо того чтобы, как обычно, войти в
мою комнату, сесть на низенькую скамеечку
и отвечать молчанием или какой-нибудь
новой страшной подробностью на мои
вопросы, он прошел в гостиную и сидит
там до сих пор, и, мне кажется, я отсюда
вижу его крупные руки, сдающие карты.
Иногда до меня доносится его уверенный
голос. Мне хочется плакать. Да простит
его бог. Как было хорошо две недели
назад: меня нисколько не
беспокоило, сидит ли он в гостиной, нет
ли. Чужой человек, пусть сидит, где хочет.
И я могла ходить в рощу одна, не думая,
увидев пурпурово-серый круг над березами,
как принести его ему, могла совершать
свой спуск — и читать стихи — и
рассматривать людей — и писать письма...
А сейчас?
А сейчас мое
одиночество полно им. Как сильно
он отбросил папиросу — тогда, на поляне!..
Простит ли он мне сегодняшний
день?
...А впрочем, впрочем,
на каком это глупейшем наречии мы вдруг
заговорили: «соперник», «счастливый
соперник», «несчастный соперник»?
Соперник — в чем? Как мы могли унизить
пережитое вместе до этих
убогих словечек?
Человек — «система, замкнутая на себя»,
— и каждый одинок в своей системе.
И вдруг — словно откидывается
крышка лба— и ты видишь, что за
этим лбом, за...
И после
этого чуда он смеет говорить, что он
не был счастлив! Тогда, вечером, на
тропинке, и тогда, после сердечного
приступа, когда он впервые рассказывал?
Эти две недели, когда мы каждый
день обменивались памятью? Он —
не был!
... III 49 г.
Ночью я проснулась от резкого удара
света по глазам. Подняла голову — большой
белый луч лежал на сиденье стула, потом
кинулся на стену и исчез.
Что это было?
Я
услышала резкий стук
щелкнувшей дверцы внизу.
Машина! Кто-то подъехал к дому на
машине. Это был свет
фар.
Ночью электростанция
не работает. Мне нечего было зажечь. Я
могла только лежать и в полной темноте
слушать.
Я услышала,
как осторожно прогудел
блок — открылась входная
дверь. И опять прогудел —
закрылась.
Значит, они
уже в доме.
К кому же?
За кем?
Но шагов
не было. Во всяком случае, на нашем
этаже. Может быть, это все только
приснилось мне?
Глубокая, полная тишина стояла в
доме.
Но минут через
десять я снова услышала, как внизу, в
вестибюле, прогудела дверь. Я вскочила
и подбежала к окну. Раздвинула
занавески. Ни зги, но ясно слышно,
как заводят машину. А вот и свет —
мутноватый, cлабый — засеребрил
иней на моем стекле... Кто-то
сходит по ступенькам с лампой.
Видны три — нет — четыре темные
фигуры. Вот снова щелкнула дверца
машины. Мотор. Фары: яркий свет на
снегу.
И все. И лампа
толчками поднимается по
ступеням крыльца, и снова гудит
дверь на блоке.
Наверное,
это была Людмила Павловна — с лампой.
Директор нынче в городе.
Она живет не здесь, не в нашем доме, а в
домике для служащих, финском. Они могли
заехать за ней туда. И подвезти ее к
дому. Должен же кто-нибудь отворить
дверь, зажечь лампу, указать им комнату!
Без шума. Тихо.
Чью?
Нет, не номер 8, не номер 8, ведь шагов в
нашем коридоре не было.
Внизу: приключенец-фантаст, Векслер,
Валентина Николаевна, приключенец-просто,
Сергей Дмитриевич...
В
эту ночь я видела, как побледнело окно,
слышала, как кочегары спустились в
кочегарку, как тихонько загудело
паровое отопление, как электростанция
издала первый спотыкающийся стук.
Я встала в семь часов и отправилась в
подвал — в ванную. Мне казалось, если
я вымоюсь вся, мне станет легче. Но
сколько я ни терла лицо, плечи, руки —
словно паутина тьмы и бессонницы
лежала на них.
Из
зеркала глянуло на меня лицо старой
ведьмы.
Я надеялась
встретить где-нибудь Людмилу Павловну
— она сказала бы мне правду. Ящик сблизил
нас. Прошла несколько раз по коридору,
заглянула в гостиную... Нету. Пойти на
склад, разыскать Тоню? Да нет, она вряд
ли знает — ей-то ведь все равно... Кто
для нее мы? Книг наших ей читать некогда,
а прочтет — не поверит ни слову. Чужие
никчемные люди, на которых надо работать.
Господа. «Писатели».
«—
Писатели, положьте трубочку!» — говорит
телефонистка, соединяя.
«— У писателей бывает кино».
«— А писателям уже
принесли почту?»
Ровно в девять часов я спустилась к
завтраку.
Билибин, весь
в черном, бледный, с синеватыми
губами, стоял у стола, положив крупные
руки на спинку стула.
Я подошла. Мы стояли друг против
друга. Я была благодарна ему, что он
не заставил меня ждать еще
минуту.
—
Значит, не вы? — сказала я.—
Значит, не вы, не вы.
— А вы за меня боялись?
— Да.
— Скажите: я за
вас боялась,— попросил он
шепотом.
— Я за вас
боялась, — повторила я.
— Дайте мне руку... Сказать?
Что-то пристальное
было в его вопросе и
желтом взгляде, устремленном
на меня... А рука — холодная и
сильная.
—
Векслер.
Бедные
листочки стихов, бедный орден,
бедная седая несмышленая
голова! Бедный Лютик.
Есть я не могла. Меня знобило. К
счастью, никого, кроме нас, еще не было
в столовой. Билибин заставил меня выпить
горячего кофе. Мы вместе поднялись по
лестнице, вместе вошли в мою
комнату.
—
Хороший человек был,— сказал
Билибин с демонстративным участием.
Я заплакала от этого «был». Опять —
прошедшее время, хотя человек еще
жив! Билибин тихонько гладил меня
по волосам.
—
Уйдите, пожалуйста,— попросила
я.— Мне надо лечь.
Он ушел.
А я лежу.
Не стану сегодня вставать. Сердце
стучит, не унимаясь, и от слез болит
лицо. Пишу лежа.
...III 49 г.
Все утро мы бродили вместе по березовой
роще. Купаются в высокой голубизне
вершины берез. В роще просторно и светло,
как в нашем общем доме. Кажется, сегодня
была самая глубокая наша прогулка. Мы
уже научились вместе молчать.
Молчали мы о ночи, о Векслере, о
«повторниках», о том, что во
второй раз тридцать седьмой
год пережить нельзя.
Посидели на скамье, поглядели на снежную
равнину, на крыши Быковских домиков. И
побрели домой. Меня все время гложет
мысль: а не показать ли ему «Без названия»?
Выдрать из дневника и показать...
Я решила сделать это после, когда он
кончит свою работу. Ведь чужое мешает
писать свое.
После ванны
и обеда я уснула. Проснулась — и как
всегда в это время начала искать глазами
светящуюся щель под дверью. Нет, не
светится. И стука электростанции не
слышно, хотя с половины пятого она
всегда стучит. Может быть, я
проснулась раньше обычного?
Нет,
дом на ногах. Тяжело ворочается
какая-то суматоха: общий говор, беготня,
сдержанное хлопанье дверей.
Натыкаясь в темноте на стулья, я нащупала
халат и выглянула в коридор. В коридоре
тоже было темно. Только квадратик
окошка белел в конце его. И вдруг за
окном, на снегу, дрогнуло и исчезло
что-то розовое, розовое, словно
махнуло крылом.
Я
подошла к окну.
Прямо
передо мной, высоко и горячо, как костер,
пылал финский домик. Пламя отражалось
в пелене снега розовым нежным
сиянием.
— Вы встали?
А я собирался идти будить вас,—
сказал мне Билибин, неслышно подойдя к
окну в мягких туфлях.— Всего пятнадцать
минут горит, и уже почти ничего не
осталось.— Он взял меня за руку. Мы
стояли у окна, касаясь плечами друг
друга.— Какие тут пожарные! За тридцать-то
километров! Момент — и нету... Молодежь
здешняя сбежалась из Быкова, из
Кузьминского с веселым криком:
«Пии-сатели горят!» Не верите? Ей-богу.
И никто пальцем не шевельнул. Стоят и
смотрят... Загорелось от плитки.
— А людей там никого не
было? В домике?
— Нет.
Только вещи.
Он
говорил как-то лениво и медленно.
Уселся на подоконник, не отпуская
моей руки,— словно по случаю
пожара так оно и быть
должно.
Розовое сияние
вокруг облило его плечи, грудь, большую
голову и мою руку у него в руке. Он не
шевелился — только все сильнее
сжимал мою руку.
—
Чьи там вещи?
—
Сестер медицинских, Людмилы Павловны.
Она плачет и обещает взыскать стоимость
с той сестры, которая оставила
плитку.
Мне было
хорошо стоять, глядеть на огонь, слушать
его, подчиняясь его руке, и, может быть,
от тьмы и внезапных высоких
взлетов огня — немного
страшно.
— Они так
и кричали: «писатели горят»? —
спросила я.
— Да.
— И Лелька тоже?
Он
не ответил. Розовое сияние уже блекло,
словно всасываемое снегом. За
окнами тоже наступала тьма.
Домик догорел.
—
Когда дадут свет,— сказал Билибин,—
я принесу вам свою повесть.
Я кончил, пока вы изволили спать.
Вот.
И он моей
рукой шутливо и властно
погладил себя по волосам.
...III
49 г.
Я прочитала.
Вчера мы стояли рядышком
у окна. Вместе.
Обыкновенная
рукопись, написанная на машинке. Но я
никогда не забуду шрифта, никогда —
лилового цвета ленты и хвостатой
семерки в нумерации глав.
Никогда не забуду ни единого
слова.
Сначала я все
узнавала и всему радовалась. Звуки в
лесу, звуки в шахте, под землей, в темноте.
Время под землей и в лесу. Гудение
лифта в шахте. Тишина десятого горизонта.
Да, пишет он сильнее, чем рассказывает...
И людей начала узнавать. Вот Саша
Соколянский — здесь он Болтянский —
красавец, умница, и заикание придает
ему прелесть. Саша в повести шахтер. А
это кто? С деревянным смехом? Ах, это,
наверно, списан с надзирателя — того,
что нарочно не давал заключенным спать,—
у того был такой же деревянный смех...
Вот как, он здесь инженер и, по-видимому,
вредитель... И ребенок тут есть: хилый,
болезненный, но это он потому такой,
что его гнетет семейный раздор. А
вот и главный герой, забойщик Петр. Его
я что-то совсем не узнаю. Такого в его
рассказах не было. И сюжет... Ну, конечно,
не мог же он для «Знамени» написать
о лагере... Но зачем же тогда было
брать те горы, тот лес, тех людей... Даже
эпизод с письмом есть — человек
перечитывает письмо от жены, листок
выхватывает ветер — и человек гибнет,
но не собака кидается, а, поспевая
за листком, он сам падает, споткнувшись,
в яму.
Соревнуются бригады
шахтеров. Победа над фашистами вызвала
небывалый размах трудового подъема.
Вернулся с фронта к жене Федосье забойщик
Петр. Федосья, которая раньше в шахте
при лифте работала, за время
войны идейно и профессионально
выросла, как миллионы советских женщин,
на чьи плечи легло хозяйство страны.
Выдюжила! (В повести много народных
словечек.) Пока Петр воевал, она работала,
воспитывала детей и училась. Стала
инженером. Борется за передовую технику.
Не только перевела свою бригаду с кайлы
на перфораторы, но съездила в Москву и
добилась там угольного комбайна. Умная
машина сама рубит, сама грузит, сама
везет. Хватит работать по-дедовски!
Федосья умело ведет агитацию. Петр
недоволен: он привык к кайле и не хочет
переучиваться. Ордена вскружили ему
голову. Да и к старшему инженеру
понапрасну жену ревнует. А ей
инженер вовсе не нравится;
напротив — она первая разоблачает
его вредительство...
В
шахте подъем, шахтеры стали на
предоктябрьскую вахту, а в доме у Петра
разлад, чуть не драки. «Папка,— говорит
Петру болезненный пятилетний сынок,—
ты мамку не трожь, а то я товарищу Сталину
напишу. Он за нас заступится, он рабочего
человека в обиду не даст». Ребенок, после
одной семейной сцены, в буран, на
своих слабеньких ножках, падая
и спотыкаясь, бежит к парторгу.
Парторг пытается урезонить Петра,
но Петр уперся. Тогда парторг поручает
сердечно поговорить с ним бабке Марье,
потерявшей на войне четырех сынов. Бабка
нашла те слова, которые перевернули
Петрово нутро. Петр повинился
перед Федосьей.
«Его
пальцы, свертывавшие козью ножку,
дрожали... «Федосьюшка! — сказал он
глухо.— Виноват я! Прости меня, дурака.
Не туда свернул маненечко. Старая
меня на ум наставила».
Окончив, я долго сидела за столом, закрыв
рукопись и разглядывая аккуратную
папку. «Николай Билибин» написано было
отчетливыми круглыми буквами.
«Федосьина победа. Повесть».
Вот что он писал здесь — с семи утра.
Вот зачем он приехал сюда, в тишину. Вот
какой памятник воздвиг он своему другу.
Вот о чем хочет он рассказать
Тоне и Лельке, Векслеру и Людмиле
Павловне.
До сих пор
мне случалось испытывать в жизни
горе. Но стыд я испытала
впервые.
Чувство стыда
было такое сильное, что время
остановилось. Как от счастья.
Шагов я не слышала. Раздался стук в
дверь. Я знала, что это Билибин. Он всегда
стучит легко, осторожно, самыми
кончиками ногтей. Словно ходит
на цыпочках.
Я не
сразу отозвалась на стук. Надо было
собраться с духом и с
голосом.
—
Войдите ,— сказала я наконец. —
Садитесь, пожалуйста.
Я
указала ему на стул по другую сторону
стола. Всегда в этой комнате он сидел
на маленькой скамеечке возле
меня. Он удивился, но сел.
— Вы трус, — сказала
я.— Нет, хуже: вы лжесвидетель. — Он
начал приподниматься.— Вы лжец.
«Ты не чеченец, ты
старуха...»
Он поднялся,
распрямляясь. Не спуская с
меня глаз, он, не глядя, протянул
руку и нащупал папку.
—
«Его пальцы, свертывавшие козью ножку,
дрожали»,— сказала я и тоже встала.—
Все. Можете идти. Это все, что я могу
сказать вам о вашей литературе... Прощайте.
Почему у вас не хватило достоинства
промолчать? Всего только промолчать?
Ведь от вас никто этого не
требовал... Неужели... из уважения к тем...
кого вы засыпали землей... вы не
могли как-нибудь иначе зарабатывать
себе на хлеб с маслом?.. Чем-нибудь другим.
Не лесом. Не шахтой. Не ребенком —
тамошним. Не... заиканием вашего
друга?
Он
вышел.
...III 49 г.
Как мне вернуться в рощу — в
ту, в какой я была в первый день? В ту,
благостную, одаряющую меня покоем?
Теперь уже мне не за что
ее благодарить.
Теперь
я прошу ее, прошу, а она мне ничего не
дает. Сегодня она вся в подмороженном
алмазном снегу. Но чем-то я населила
ее таким, что теперь она не
утешает меня и в ней уже не
живет тишина.
Чем-то
я перед ней провинилась, и
она лишила меня своих
утешений.
Теперь уже
поздно каяться, звать ее на
помощь. Послезавтра я уезжаю.
Как прожить эти двое суток
под одной крышей с Николаем Александровичем?
Обедать, завтракать... А потом еще
ехать вместе... Впрочем, он, кажется,
болен.
Сегодня утром я
вошла в столовую с бьющимся сердцем. Но
за столом сидел один Сергей Дмитриевич.
Билибина не было.
— Заболел опять наш уважаемый коллега,
вы уже были у него?— спросил меня
Сергей Дмитриевич.— Пойдете —
передавайте привет. Я тоже пойду. С
сердцем у него, сестра сказала,
опять плохо.
—
Вот как? Нет, я еще не была.
Я сегодня ходила гулять три раза.
По 45 минут каждый раз. Точно. Не давая
себе поблажки. По часам.
После обеда пошла навстречу
Лельке. Она в эту пору, подбросив
брата соседям, бегает на станцию за
хлебом. Встретила, отняла у нее сумку,
засунула туда пирожки, яблоки, шоколад,
проводила почти до самой деревни.
— А в Москве река есть? — спрашивает
Лелька.
— Есть. Москва-река.
Глубокая.
— А вам
там по кеих?
— Не
знаю. В городе купаться не
позволяют.
— А на
кой тогда река?
Худющая, востроглазая, быстрая. Прячет
под черный платок замерзшие
красные руки.
— Вы
скоро уедете в Москву?
— Скоро, Леленька, скоро.
— А меня возьмете?
Остановилась, дует на руки и
смотрит на меня большими
глазами.
— Ну что ты,
Леля! Как же я тебя возьму? Ведь тут твоя
мама. Она дочку не отдаст.
— Отдаст! Она скажет: «Едь, Ольга, едь!
Больно ты мне нужна. Нечего на шее
сидеть». А я вам все буду делать...
Я и посуду мыть умею, и банты
наглаживать.
Стоит,
смотрит на меня и с такой силой
трет рукавом нос, словно хочет
стереть его напрочь.
Я завязала на ней платок
поаккуратней, присела на корточки
и дыханием отогрела красные
руки.
—
Непременно пришлю тебе рукавички. Письма
буду тебе писать. И книжку пришлю. Потом
ты приедешь к нам погостить —
ко мне и к Катеньке.
Я отдала ей сумку. Она повернулась
и побежала к деревне — маленькое
огородное чучело. Сумка била
ее по ногам.
— А
какую сказочку пришлете? Крылышко Ясного
Сокола? И про дудку? — крикнула она,
обернувшись еще раз.
Мне хотелось догнать ее, перекрестить,
прошептать над нею какое-нибудь
заклинанье. «Господь с тобой». И я сказала
самой себе потихоньку: «Беги,
моя добрая царевна, я про тебя
не забуду».
Пошла
полем обратно и спустилась к ручью.
И с ним ведь проститься надо. Он
не замерз, воркует как голубь.
Вернувшись домой, я усадила себя за стол
и заставила работать над переводом.
В конце концов, все зависит от воли.
«Главное, держать себя с руками»,—
говорила мне одна еврейская старушка
в больнице... Заставила, но трудилась
недолго. Потому что я вижу сквозь стены:
по коридору, если пройти гостиную, есть
комната, и в ней, на высоких подушках,
лежит человек с синими губами и смотрит
на дверь. От его двери до
моей, я сосчитала однажды,
девятнадцать шагов.
Но теперь они превратились
в девятнадцать километров. Не
менее. В девятнадцать веков.
...III
49 г.
Завтра я
уезжаю.
Другое время
у меня в комнате оттого, что завтра
конец. Оно не тянется и не летит. Его
просто нету. Оно выкачано, как бывает
выкачан воздух.
Я
сижу уже не в своей, а в чужой комнате.
Это уже не мой долгожданный дом, а просто
номер гостиницы, в котором
послезавтра будет жить кто-то другой.
И занавески уже ничьи — не мои — чужие.
Это просто уже небольшая зала
ожидания, ну, скажем, на вокзале.
Сегодня мне не хочется ни гулять, ни
работать, ни вылезать из халата к обеду.
Так бы и лежала на диване безо всякого
дела. Что уж тут! Все равно завтра конец...
Однако был и обед, и мертвый час, и
светящаяся щель под дверью, и заря на
своем месте за окном — все, как двадцать
пять раз. И даже Билибина я увидала
опять.
Он меня не видел,
а я его видела. Утром я гуляла. Отправилась
недалеко, в елки. Там мы редко бывали
вместе... Села на сырой, полуоттаявший
пень, натянула на колени полы шубы. Он
шел по тропинке — один, с шапкой в
кармане, подставив лицо встречному
теплому ветру. Сюда? Увидел меня? Сердце
сжалось — от волнения, а может быть, от
счастья. Нет, не сюда. Нас разделяли
густые широкие ели. Он шел медленно,
трудно, иногда отдирая от стволов мох
и растирая его в ладонях. До мельчайших
подробностей на ярком дневном свету
было мне видно его лицо: желтоглазое, с
синеватыми губами, с темной сетью
морщин. Ветер шевелил легкие волосы
над высоким лбом — как тогда, на
поляне,— и я вдруг вспомнила: в день
пожара он тронул моей рукой свою голову:
какие у него мягкие волосы! как у ребенка!
И как легко сейчас их перебирает ветер.
Он шел, о чем-то думая, машинально растирая
мох между ладоней, и вдруг остановился.
Большая рука нашарила на груди пуговицу,
расстегнула ее, он достал из внутреннего
кармана — я знала, что! нитроглицерин!
— булавкой вытащил пробочку,
высыпал на ладонь зерна, взял одно
губами... Постоял, прислушиваясь к боли,
и, повернувшись, медленно побрел
обратно: домой. Теперь ветер ерошил
волосы не надо лбом — над
затылком... Наверное, пошел лечь.
«Наденьте шапку, простудитесь»,—
хотелось мне сказать, как тогда. «Постойте
немного, не торопитесь, пусть утихнет
боль»,— хотелось мне сказать, как столько
раз я говорила на прогулке. «Простите
меня! — хотелось мне сказать.— Я не
имела права судить вас; я, на которую
никогда не кидались собаки, я, которая
никогда не видела деревянной
бирки на ноге мертвеца...
Простите меня! Вы не желаете
обратно: туда, на лесоповал, в шахты.
Второй раз! Ваша повесть — ваш бессильный
щит, ваша ненадежная ограда... Простите
меня! Один инфаркт у вас уже
был — болезнь дорого стоит, вам нужен
заработок. А чем еще вы, инвалид, можете
заработать? Только писанием. Писанием
трафаретной лжи... Простите меня! Я не
имела права требовать от вас правды,
я-то здоровая — и то молчу. Меня по
ночам не избивали в кабинете следователя.
А когда вас били, я молчала. Какое же
право я имею судить вас
теперь? Простите мне мою
окаянную жестокость, простите
меня!»
Догнать — окликнуть
— сказать?
Но я сидела
неподвижно, изо всех сил натягивая на
колени полы своей шубы,— и он удалялся,
медленно и неотвратимо.
Уходил из моей жизни.
Я впервые видела его спину, его
походку. Могучие плечи и слабо ступающие,
словно подгибающиеся ноги. Медленно,
неверно ступают ноги, шатко несут все
его крупное тело: широкие плечи и
большую голову...
Мне
жалко было его,— и себя было жалко, и
всех. «Родина моя, Россия»,— подумала
я чьей-то чужой строкой. Его медленные
плечи скрывались за деревьями. Еще можно
нагнать, окликнуть, попросить
прощения, он еще тут, мы еще
вместе...
Прощай!
Прощай!
...В сумерках, не
в силах переносить свою чужую комнату,
я снова вышла пройтись. Ни мороза,
ни снега. Оттепель. Тает. Липкая грязь
под ногами. Я вернулась, надела калоши
и все-таки, хлюпая, пошла в рощу. В наш
дом. Там снег лежал по-прежнему, но
пахло сыростью. Громко кричали
галки. Кругом шептало, капало,
трудилось. Сугробы осели; их темная
поверхность вся в каких-то ямках, в
ноздрях. Роща сегодня неопрятная.
Снег на ветках разложен небрежно,
грязными клоками — словно вата на
уже надоевшей рождественской елке.
«Смывает наши старые следы,— подумала
я,— вот и хорошо». Я чуть не упала,
поскользнувшись на склизком коме земли.
Одна нога увязла. Я с трудом вытянула
ногу и отшвырнула от себя липкий
ком.
Когда я умру, я стану
таким вот комом. Он — тоже. Сколько об
этом написано, сказано, думано — и понять
все равно нельзя. Руки станут землей, и
глаза, и рот. И память. И тревога. И грехи.
И правда. И ложь.
И тогда,
когда это наконец совершится,
если кто-нибудь наступит ногой на комья,—
им уже не будет больно.
...III
49 г. Москва.
В
одиннадцать часов, после завтрака,
курносенькая санитарка вынесла мой
чемодан к машине. Людмила Павловна вышла
на крыльцо проводить. Билибин тоже
собрался ехать: значит, все-таки не
заболел. Справился. Слава богу.
На прощанье Людмила Павловна
отвела меня в сторону: «Ах, какой у вас
шарфик — оригинальный... Сразу видно,
что не наш... Неужели Мосторг?.. Так я вас
очень, очень прошу, Нина Сергеевна,—
она сжала мою руку,— никому... ни
словечка... неужели без очереди
достали? Ну, это, прямо сказать,
повезло!.. Ну, приезжайте к нам
еще».
К счастью, ехали
мы не вдвоем. Я села рядом с шофером, а
на заднем сиденье рядом с Николаем
Александровичем устроился
толстяк-гипертоник. Давление снизилось
до ста шестидесяти, он ехал к Яшеньке,
домой, очень довольный... Что-то
расскажет ему Яшенька? (А ведь когда я
училась в школе — антисемитизма мы не
знали. Мы привыкли смотреть на него, как
на что-то смешное, древнее, не нашего
века — что-то вроде алебарды,
например.)
...Тает, тает,
как вчера. Только чуть-чуть припорошило
ветви елей и дорогу легким
снежком. Поля, березы, холмы, на
которые взбираются елки, летели
мне навстречу — и лиловатое
месиво дороги.
В
кузове, позади меня, мужчины курили и
негромко беседовали. Голос у Билибина
обычный: спокойствие, любезность. Я их
не слушала. Мне бы выпрыгнуть,
вернуться назад, в последний раз; один
только раз пойти в рощу, глянуть, как
березы водят хоровод вокруг елки. Как
детский сад зеленеет под белым одеялом.
Зайти в свою комнату, пока она еще не
совсем чужая, глянуть в ее ясные окна.
Поздно. Этого уже не будет
никогда. Вот уже виден вокзал.
Приехали! Шофер вытащил портфель
гипертоника и чемоданы — легонький мой
и тяжелый Билибина — на платформу.
Купил и роздал нам билеты и на лету
подхватил чаевые. Подошел поезд.
Толкотня, суета, духота. Шофер втащил
чемоданы в вагон: портфель гипертоника
на полку, чемоданы под лавку.
«Счастливо вам!» — и спрыгнул.
Поезд тронулся.
Я
села в угол и закрыла глаза. Илья
Исаакович и Билибин решали какую-то
шахматную задачу, склонившись над
«Огоньком». Их голоса сливались со
стуком колес и с другими
голосами.
В натопленном
вагоне — молочницы, неподвижно
сидящие возле своих бидонов и
мешков; древние деревенские старухи;
сопливые ребятишки; железнодорожники;
инвалиды; пьяный парень, лежащий на
лавке носом вниз, горбом белобрысого
затылка вверх; какие-то молодые чернобровые
девицы с намазанными губами,
в зеленых вязаных шапочках и
желтых варежках.
Все
едут издалека, и все, кроме спящего,
рассказывают что-то соседям, продолжают
обстоятельное, за несколько станций
начатое, повествование.
— ...Она у меня четырех курей съела. А
перье — в сундук. Я там и обнаружила.
Взяла у ней две подушки блином
да самовар рваный... За
курей.
— Свадьбу на
ноябрьские справили. Хорошо, если
пропишут его. Это надо руку в милиции
иметь...
— А наша Зинаида
за старого пошла. Мастер он, на железной
дороге. За площадь пошла. У ей сын
в детдоме от первого мужа. Так когда
старик помрет, она сына домой. Мать, как
ни говори, должна позаботиться
площадь...
— Сходил в нашу
районную, там врачи не признают. И в
платную, к профессору, тоже не признают
ничего. Это, говорят, на нервной почве.
А какая тебе нервная почва, когда — как
дождь, так спину и ломит...
«Родина моя, Россия»,— подумала я
опять. И потихоньку стала разглядывать
людей.
«А что там у них
за... Внутри? Как туда заглянуть,
породниться? За этими курями... за платной
поликлиникой... за свадьбой... Что они
видят, каждый в своей тьме, перед сном,
смыкая веки?.. Если бы я могла
вместе с ними спуститься под воду и
увидеть то, что видят они. Во
помощь. Послезавтрат это был
бы настоящий спуск. Вместе с ними.
В их память. Ну, хоть в память этого
вагона. Всего. Сколько тут есть людей».
— В школу в четверг вызывали. Говорят,
он у вас баловной. А я скажу, учительница
молодая, несамостоятельная, ребята
балуются и он с ими...
— Богаты не богаты, но на жизнь они,
будьте спокойны, больше нас с вами имеют.
Перед праздниками давали не наш
компот — болгарский,— вижу, она
взяла пять кил... Люди по одному,
а она пять тащит... Вот и
считайте...
Через час
поезд с яркого света вошел в полутьму
московского перрона. Молочницы взвалили
на плечи узлы, взяли в руки бидоны.
Толстяк повязался рыжим шарфом
и, тараща глаза, снял с полки портфель.
Билибин запахнул шубу, проверив, в
карманчике ли нитроглицерин. Я
сунулась было за своим чемоданом,
но он вместе со своим уже
подхватил и мой.
«Спорить
не стану,— подумала я.— Чемодан
легкий».
На перроне к
нам подошла немолодая дама, с красивым,
искусно подкрашенным лицом. Билибин
поцеловал ей руку. «Ах, да, жена,—
вспомнила я.— Марина Августиновна. Ведь
он рассказывал, что, вернувшись, женился.
Контролерша в сберкассе, что ли?»
— Познакомься, Мариночка,— проговорил
Билибин, тревожно взглянул на
нее, а потом на меня.— Вот это моя
очаровательная соседка, Нина
Сергеевна, о которой я столько
писал тебе. А это — мой партнер
по шахматам, уважаемый Илья
Исаакович... Ну, как ты находишь?
Поправился я?
— Очень
приятно,— сказала мне Мариночка, и я
убедилась, что она не хуже его умеет
делать улыбку.— Позволь, Николаша, я
возражаю, таскать тяжести врач
категорически тебе запретил.
Она властно вынула у него
из рук оба чемодана и
понесла их сама.
Я не
стала отнимать. Следовало бы отнять
свой, но мне было лень. «Пусть тащит,
если ей нравится. Все равно»,—
подумала я.
На площади
Билибин подозвал такси. Гипертоник
простился с нами: ему близко, да и вещей
никаких. Билибин отворил передо
мною дверцу машины, и я села...
Пусть!
— Вам
куда? — спросила у меня Марина
Августиновна с той же любезной
улыбкой. Это делается просто:
обнажить зубы и чуть-чуть
прищурить глаза. Я сказала
шоферу адрес.
Супруги
ехали молча: ждали, пока я выйду.
Вот и площадь Маяковского, Пушкина...
В Москве совсем нет снега...
Снег белеет там, в роще. А тут черно.
Пять минут осталось до
дома.
До моего чужого
дома. До Катеньки. Нет, она еще в
школе. До Елизаветы Николаевны.
Машина остановилась у подъезда.
Билибин вышел, вынес мой чемодан,
отворил передо мною дверцу
машины.
— Не стоит, не
стоит, пустяки... Дайте, внесу на крыльцо.
Спасибо за компанию. Кланяйтесь вашей
милой дочке. Соскучилась она, воображаю!
Вернется из школы, а мамочка дома —
какой сюрприз! Всего наилучшего!
Доброго вам здоровья!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





