ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
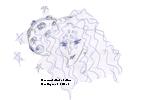


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ситнова Ольга 1980
«Ишь идет... И поглядеть-то не на что, если разобраться. Только и берет этой своей походкой. И не спешит, и не бежит; пряма, как сосенка в бору, голову несет гордо, как и прежде. — Надежду опять охватила жаркая злоба, и она, распаляясь, возразила сама себе: — Да и нет, нет в ней ничего такого ни капельки, присушливого! Спина жидка. Это пальто с опушкой, в талию, — как хомут на корове! А белобрыса — хоть бы выкрасилась. Теперь в городах все красятся, а она — не захотела! Вернулась прежней. Веснушки — как рыжие тараканы по лицу разбежались. Сколь крупны — противно. И за что только мужикам нравится?..»
Надежда словно задохнулась на этих мыслях, уронила поднятый край тюлевой занавески, отошла от окна. Заметалась по дому. Дети что-то говорили ей — девятилетняя дочка-суетница и полуторагодовалый сын-лепетун, толстощекий увалень с черными, как у отца, глазами. Она остановилась вдруг, словно что-то вспомнила; засмотрелась в черные серьезные глазки мальчугана.
Ну да, вспомнила: не давали ей жизни эти глаза, весь свет застилали. Ходила как чумная, пока своего не добилась: женился на ней Ромка Сидельников. На ней, сильной, умелой и красивой Надёнке, соседке справа, а не на квелой белобрысенькой Тамарке, соседке слева. Так и должно было быть. Она ему пара, ухватистая учетчица и затем обделистая продавщица сельмага, а не кто-то другой. Это ей внушала и тетка, воспитавшая ее не хуже рано умершей матери. Да еще и наказывала в ту пору тетка: мужа привяжи сноровкой, из одной зарплаты две сделай, будь помощницей; береги мужа-то как зеницу ока...
Ромка — у того тоже все в руках горит. Лучший механизатор. Был... И будет, если захочет. Если только захочет... А он...
Надежда мимоходом приласкала мальчугана, наскоро, не застегиваясь, надела плюшку, побежала в дровяник: пора затапливать лежанку. И время к ночи, и тепло словно выдуло. Или это ее знобит?
Знобит. Всю неделю в ознобе — с того дня, как приехала бывшая соседка, ее прежняя подружка на побегушках.
Теперь она совсем не такая, Тамара. Хотя... и тогда была так же тиха и упорна, и разумный и покладистый был у нее характер. Не потому ли больше к ней тянулся Ромка — ершистый, неугомонный, нетерпеливый, тогда как она, Надёнка, одинакового с ним складу, дня не могла прожить, чтобы его не повидать. Так втроем и видались, пока...
«Как же, втроем, — передразнила себя Надежда. — Сиднем при нем сидела, лишь бы к Томке не убегал. Чем только не приманивала, а он все к той тянулся...»
Какое ей дело до Тамары? Та нашла наконец свою судьбу и вернулась в колхоз после стольких лет учебы и работы не одна и не с пустой душой, с мужем да с профессией фельдшерицы...
«Наверно, давно ждала, когда наша медичка на пенсию уйдет и можно будет ее место занять. Давно готовилась к приезду: мужа отхватила за свои веснушки — лучше не придумаешь, — проносилось у нее в голове колючей метельной кутерьмой, когда она отрывистыми, гулкими движениями набирала из поленницы охапку дров. — Узнала, как мы теперь живем с Ромкой, — подразнить нас хочет». Она сгоряча, не рассчитав последнего движения, ударила по пальцу, и эта нелепо доставшаяся боль была той последней пустяковинкой, которая сломала заслон. Злость на удачливую Томку, которая с девичества присушила Романа Сидельникова и к тому же так хорошо «устроилась в жизни», обида неизвестно на кого за то, что Ромка все больше и больше опускается — пьет, за то, что он не любит ее, Надежду, о которой привыкли говорить, что всем взяла, — прорвалась, скрутила ее. Бросила охапку под ноги. Поленья ухнули и вспугнули кур с насеста. Села на эту охапку и, боясь заплакать и быть застигнутой дочкой, принялась дуть на ушибленный палец.
— Мам! — тотчас же окликнула та из сеней: должно быть, тоже напугал грохот дров.
— А ну закрой дверь! — сердито прикрикнула на нее мать.
Сейчас ей показалось, что именно за эту пронырливость, вездесущность Ромка словно чуток недолюбливает девчонку. Ей стало жалко дочку, а потом себя.
Корова перестала жевать жвачку, стояла у яслей настороженно и смотрела, как всегда, печальными, покорными глазами на свою хозяйку.
Корова у них с Ромкой — изо всего стада. Высокие рога-ухват загнуты на концах далеко назад, и поэтому их Милка всегда ходит пава павой. А доится... Если бы в колхозе все были такие, как она, шли бы они в передовиках...
Надежда тотчас же обозвала себя дурой за нескладицу в голове, поднялась, хорошенько просморкалась и, присев на корточки, стала класть на левую руку полено за поленом. С них облетала легкая сосновая кора.
Она упруго поднялась с тяжелой неуклюжей ношей, привычно протопала по отлогим ступенькам черного хода. Дочь ждала ее у порога, чтобы открыть дверь.
— Сейчас киселя в лежанке наварим, картошки с салом нажарим, а тут и папка придет! — ласково и бодро сказала она помощнице.
Она старалась не думать о том, что Ромка мог бы прийти пораньше, принести дров к лежанке и печке, наносить воды в кадушку, налить в чугуны для пойла скоту... В первые годы их жизни он, правда, ничего тяжелого ей делать не давал. С чего же началось это его холодное и чужое отношение к ней, которое то начиналось с запоя, то кончалось им? Потом опять словно брал себя в руки — справный, хороший мужик, заботливый отец.
Когда ее спрашивали, отчего ее Ромка задурил — нет-нет да и выпьет, она отмахивалась как можно веселей, беспечней: а, чего там, глядя на других, мол... Гасила этой нарочитой беспечностью свою тайную тоску-тревогу.
Она вздохнула, нащепала лучину, быстро подожгла сложенный ровно в пучок и удобно вклинила пылающую, жаркую для пальцев растопку меж поленьями. Пламя от дружно занявшихся дров на миг заворожило ее, однако она с ненавистью отмахнулась от воспоминаний той поры, когда они с Томкой сиживали по вечерам перед топкой. В воспоминаниях тех был опять намек на боль, а она не хотела боли, не хотела! Ей казалось, что и так уж вся ее душа истерзана и все, что думалось теперь о себе, Ромке и Томке, — как соль на саднящую рану.
...Ромка пришел поздно — позднее, чем приходил прежде, когда была получка или чье-то дармовое угощенье (тому подвез, другому подмог — одиноких старух в деревнях наберется, а дружков сколько?). И главное, пришел он необычно тихо. Она даже не подумала по его шагам в сенях, что это он. На миг от невозможной радости екнуло сердце: «Неужели тверёзый?» И тут же вскочила: вдруг кто чужой? Накинула на плечи пуховку, сунула ноги в валенки.
Нет, Ромка. Тихий. Но пьяней вина. Еле стоит на ногах.
Она давно уже не встречала его, смирно лежала в постели, зная, что так лучше для ребят: покуражится один, пошебаршит на столе посудой, грудой валенок на печке — и, может, уляжется там, а если и придет к ней — каменно примостится на самом краешке, отвернувшись, и быстро, словно на зависть ей, уснет. И что она ему так противна, ведь ни разу не изменила, а сколько соблазнителей находилось! Да и теперь...
— Есть что выпить? — спросил он на этот раз, и она раскаялась, что встала.
Надежда знала, что бесполезно ругать его, отговаривать и тем более стыдить. Только скандал затевать. Проснутся дети. Чутким ухом матери она уже уловила, как они пошевелились, но привычно лишь перевернулись на другой бочок. Мальчонка даже блаженно прочмокал губами.
Надежда пошла за бутылкой, но по дорого замерла, вспомнив, что продала ее на днях: поздно вечером с дальнего конца деревни пришла Ромкина мать с трешкой — выручай ее немедленно, так и так, к соседям приехал сын, перезяб с дороги и все такое...
— Нету, — сказала она мужу, беспомощно обернувшись к нему.
— Не-ету, — иронически протянул Ромка, краем рукава (так и уселся в полушубке за стол, словно чужой) сметая со стола невидимые крошки. — Жалко стало?
И так как Надежда молчала, ожидая удобного момента, чтобы, не гневя его, незаметно уйти на другую половину дома, в постель, он спросил еще более ехидно:
— Отчего ж это ты не припасла? Такая запасливая была завсегда, а тут чего-то напугалась. Чего, а? Иль забыла теткину науку?
Не то намек, не то угроза. Надежда никогда не любила ни намеков, ни угроз. Претят они ей. И, заслышав их, спуску никому не дает. Даже пьяному мужу. Словно огонь кидается ей в голову. Так и теперь. Застигнутая на полпути к столу, где хотела для вида похозяйничать — будто через силу ухаживает за ним, она застыла: как раз лицо в лицо.
И опять сегодняшний Ромка удивил ее. Язык заплетающийся, а глаза, как у трезвого. Уж не заболел ли он? Сроду такого не было.
Эти мысли потушили огонь в голове, и она вспомнила, что позавчера, рассматривая его спящего, поразилась: как постарел Ромка. Изморозь на курчавых висках, сросшиеся на переносье атласные брови и во сне сведены туго-натуго, до морщин, будто он спрятал глубоко внутрь что-то такое, чего и сам-то боится себе показать. Лоб изрезан продольными линиями.
Тогда, не смея поцеловать его, она подошла к мальчишке и тихонько тронула губами его душистый от сна лобик.
Вспомнив сейчас все это, Надежда спохватилась, подавила вздох и вместе с ним — какую-то леденящую горечь и затосковала по себе — той, бодрой, находчивой, неунывающей, какой была совсем недавно. «Старею тоже, должно быть, вот оттого и маета, и тоска, и ласковость ненужная», — заключила она, закрывая блюдцем кринку с молоком.
Ромка в этот момент с силой отодвинул — отпихнул — стол, будто он и в самом деле мешал ему.
Боясь, что муж разойдется, Надежда придумала выход:
— Сейчас щей налью.
Он непьяными насмешливыми глазами проводил ее притворно покорную спину — она чувствовала этот взгляд.
Щи были еще горячими. По тому, как взял Ромка ложку, Надежда догадалась: голоден. Щи, наваристые до зеленой пленки, с кусками баранины, пахли аппетитно — и сытый потянется. Ромка поводил ложкой, нехотя попробовал, отодвинул тарелку.
— Пойло какое-то. Где мясо брала? Ветврач, Тамарин муж, говорит, что у нас в колхозе воровство замечено. Родня твоей тетки — ох и плуты! В бригадирах ходит племянничек-то, заворуй.
Огонь опять кинулся ей в голову.
— «Где мясо брала», — передразнила она. —Там же, где и водку для тебя. Ведь любишь дармовую-то водку, любишь! — в исступлении, испытывая наслаждение, бросала она ему в лицо. — Так что все эти годы я водкой тебя краденой, из магазина, поила. Ничего, терпел — нравилось! А тут... Тамарин муж... Сдались вы мне с этой вашей Тамарой! Эх ты, дурак: вытрясло из головы-то спьяна, что своего барана под Новый год зарезали!
Она знала, что сейчас будет еще лише: закричит он, опрокинет стол, накинется на нее — разве стерпит такое, вовек не простит! Да такого еще никогда и не было, по пустякам — и то к соседям приходилось иногда убегать с детьми из дому, а тут...
В прах рассыпался ее страх, унялась дрожь: Ромка сидел как ни в чем не бывало, только крутил опущенной отчего-то головой и — словно через силу — ухмылялся.
И ей показалось, что это хуже всего. Она опустилась на лавку, и все в ней отказало. Она спрятала лицо в пуховый платок, и он сразу прилип к щекам.
— Ишь, — немедленно отозвался Ромка, — обиделась. А на что? Известное дело: тетка твоя сроду была спекулянткой и воровкой, самогончиком приторговывала, мясцо краденое ей полюбовничек носил. И тебя учила жить так же, верно?
Она вскинула голову с такой силой, с таким бешенством, что висящее над лавкой большое зеркало ударилось о стенку и треснуло.
Надежда ойкнула, и холодный пот окатил ее: считалось, что разбитое зеркало — к страшной беде, а то и к позору.
Заплакал мальчонка. Она кинулась туда, а когда вернулась с ним на руках, словно не зная, что ей теперь делать, муж стоял у приемника и водил шкалой. Нашел музыку и, подмигнув испуганному сыну, сказал:
— Лиссабон, Вовик, чуешь? А сейчас — Минск. Хочешь?
Сын мгновенно успокоился и сонно улыбнулся отцу, тотчас же засыпая на материнском плече. Разбитое зеркало даже не заметил.
— Все, — осипшим голосом сказала Надежда. — Все, — повторила она. — Хватит. Точка.
Сама еще не зная, что значат ее слова, она странно успокоилась от них, хотя и чувствовала, что это внезапно овладевшее ею спокойствие не сулит ничего хорошего, а таит в себе, возможно, какую-то казнь.
...Он забежал в магазин за спичками да заодно прихватил лишнюю пачку наилучших сигарет. Григорий Михеенко, муж белобрысой Тамарки.
Что-то сказал Надежде веселое — она машинально ответила на его улыбку, дивясь каждый раз этой тихой его улыбке, такой душевной и такой светлой на его смуглом лице. Черноволос, а весь словно светится. Не потому же, что зубы белы. И у Ромки не хуже, а смеяться он так словно и не смеялся. Разве что одной Тамарке теперь улыбнется так же, как в прежние года...
Вот и этот, Михеенко, — не оттого ли он таков, что с ней, Томкой, живет...
Гири тяжело брякнулись о чашку весов. Хлеб, макароны, конфеты, печенье, крупа... Сливочное масло... Сахар, сахарный песок. Хлеб, макароны...
И так до обеда.
И так после обеда.
Как весело работалось ей раньше в магазине! Одним улыбнется, с другими строга. За прилавком болтать языком себе не позволяла. Однако все первые новости — ее. Банки с консервами, пачки с печеньем, папиросами, сахаром, маргарином выпархивали из ее проворных рук, словно она стояла за прилавком забавы ради.
— У тебя и печенье словно слаще, — говаривали ей старушки.
— А папиросы — затянешься и не продохнешь, — бросил как-то под эту шутку один из ее бывших шутейных кавалеров. Шутейными для нее в ту пору были все парни, кроме Ромки.
Вечером она видела, запирая магазин, как Гриша Михеенко ожидал на тропинке Тамару: та выбиралась из возка у сельсовета — ездила, должно быть, куда-то по вызову. «Фигуристый», — окинула она взглядом Григория. И с жадностью смотрела, как они пошли: он — весь к ней, всей душой. И полоснула мстительная мысль: «Что-то у молодых до сих пор деток нету». Но радости она ей не принесла, пришло на ум другое: из-за Ромки, наверно, так долго не выходила Томка замуж.
Ночью ей не спалось. Несколько раз вставала и подходила к ведру, но холодная, с еще не растаявшими льдинками вода не успокаивала, а только еще пуще прогоняла сон. «Уж не жар ли?» — подумалось ей, но подумалось как-то отдаленно, словно о ком-то чужом.
Муж спал на печи, и его тяжелый храп в чем-то укорял ее, словно она была виновата в том, что тот остервенело, до одури, работает или так же пьет. А теперь еще этот ее зряшный упрек — «краденая водка»!..
...По весне принесли Надежде в магазин новость: ее Роман не в Сельхозтехнике, куда поехал за новым трактором, а в милиции — встрял в драку, кабы не он — заколотили какого-то парнишку возле ресторана в райцентре. Не драчун сам, да боек. Вот теперь не раз в суд-то вызовут, пожалуй. И работать некогда.
— Беги в правление, там все скажут, — перебив словоохотную рассказчицу, посоветовали ей, — а мы тут побудем, посторожим твое добро. Не бойсь, не тронем...
Надежда все-таки закрыла магазин и побежала в правление.
— Да все хорошо. Чуть не герой он у тебя, — сказали там. — С Михеенко сейчас домой вернулся.
Забежала к Михеенко — их дом на замке. Кинулась к себе — Ромка сидел за столом один и пил. На щеке темнел кровоподтек.
На другой день принесли ей еще новость: ее Ромка шел из сельсовета вечером, а навстречу — Тамара. Он ей что-то — не расслышали, а она: «Эх, Рома, Рома! Мужчина должен твердо стоять на ногах — на то он и мужчиной называется, а ты — как маятник». Он еще что-то — не расслышали снова, такой он хитрый, хоть и пьяный, а она только голову опустила и пошла прочь. А он ей вслед глядит да снег талый горстями, горстями черпает.
Сказала все это вчерашняя же рассказчица, востроглазая старушка, да и попытала при этом будто ненароком:
— А ты чтой-то приуныла у нас. Будто похудела. Не хворь ли какая точит?
— Точно, — подхватила другая. — Раньше как у тебя: секунда — с весов долой, а теперь каждую пустяковинку раз по пять перевешиваешь, будто себе ли, весам ли не веришь. Брось, мы тебя почитаем! Аль мысли мешают? От них тоже можно того — заболеть, от мыслей-то. А мужики — они хворых баб не любят, им подай здоровую да красивую.
Зеркало надтреснутое Надежда давно сняла, а новое еще не купила — совсем иное в голове: менять надо свою жизнь с Ромкой. Как? Уйти? А если он не одумается? Но что же, что же придумать?..
Рассматривала себя на другой день в проруби на пруду. Ее лицо тихонько покачивалось в воде, и она изумилась: исхудала, люди заметили, а краше словно и не была. Прошлым летом к родным приезжал гостить художник и все приходил в магазин любоваться на нее. Она гордилась, стыдилась, за что-то и сердилась, но перечить не перечила: тайно лелеяла надежду, что Ромка приревнует. И не подумал.
Однажды женщины зазвали ее взглянуть на портрет. Не похоже. Все в лице получилось словно растянутым: глаза слишком продолговаты и словно выпуклы сверх нормы, и длинен нос, и рот подчеркивает его, как единицу... А — красива! Только глаза строги и то ли хитры, то ли и вовсе плутоваты. Будто в каждом сидит по серому блестящему зверьку.
Сейчас она — вылитый тот портрет, только глаза и вовсе нехороши, опущены и горят, как растревоженные зверята.
Платок, словно узкая рамка, сжимал ей виски.
Она окунула в прорубь скатерть — изломала свое отражение, принялась полоскать. Долго выкручивала полотно. Совсем силы не стало. Смех один, да и только. Положила жгут в корзинку, принялась за детские рубашонки. Жгут за жгутом... Вот сейчас и управится.
Занятая какими-то своими потаенными думами, она не слышала, как звала ее с крылечка дочь. Та звала обедать — папка пришел. И когда девочка побежала к ней, не переставая звать, Надежда в какой-то момент словно разжала уши — выпрямилась, обернулась. Увидела раздетую, бегущую к ней дочь. Поскользнулась, зашлась в предчувствии несчастья. Голова закружилась, и она упала — прямо в разъеденную вешней знобкой водой прорубь с жухлым льдом по краям.
Вытащил ее муж. Не в один миг, а пока опомнилась дочка да кинулась к нему с криком... Еле выходили Надежду. Тамара почти не отлучалась от нее всю первую неделю.
Очнулась как-то Надежда, надолго открыла глаза. В доме тихо, чисто, светло — солнце, что слепило ее тогда у проруби, словно так и не заходило. И дом какой-то новый, будто вчера только его промыли до каждого бревнышка, до каждой половичинки. К кровати придвинут столик, на нем лекарства и букет — распустившиеся сережки ольхи. Длинные, с желтой пыльцой. Пахучие. Такая сладость. Кто это их тут поставил, кто принес? Сил не хватало смотреть на них и думать. Холодно стало в груди.
Очнулась в другой раз — Тамара. И на лице ее — словно те сережки ольховые. Вспомнила, что именно так называл ее веснушки Ромка... Застонала, хотела отвернуться — нет мочи.
— Вот и хорошо, — проговорила Тамара.
А радости-то в голосе — будто дорогого человека спасла, мать или сестру.
Бежит, бежит по лицу вода — та, из проруби. А в груди пустота. Холодит, будто сквознячок гуляет.
Тамара вытерла ей лицо, и у Надежды не нашлось сил, чтобы отвести эту спасающую руку. Зачем все? Зря. Бесполезно. Не выбраться ей из проруби, не спастись от смерти. Только вот детей-то малых как жалко! И пора, пора наконец сказать, пока может еще.
Тихо, еле слышно заговорила:
— Ишь... добрая... какая...
— Да что ты, Надь. Вот чудачка! А как же? — засуетилась — никогда не суетилась прежде, засмеялась обрадованно. — Теперь все хорошо, теперь все чепуха! Теперь...
— Воровка ведь я, воровка, понимаешь?
— Ой, Надь, что это опять? — и кинулась встряхивать градусник.
— Не брежу, не думай. — И губы — съежившаяся, скомканная алая тесемка — чуть раздвинулись наподобие какой-то странной улыбки. — Ромка зря думает, скажи ему: чистые руки у меня, — она протянула ей ладонь. — Тут другое. Учуял он меня, да не знает, где правда. А правда — вот она: украла я у тебя Ромку, вот что скажу. Украла — а ты что смотришь? Что теперь-то смотришь? Будто забыла, как я прибежала к тебе. Помнишь, и утро такое же было — ольха зацвела, опушилась... А накануне мы с Ромкой солому из омета возили — временно я доярку заменяла, в декрете та была. Сказала я тебе, что забеременела от Ромки, а он будто не велел пока никому сказывать, лишь тебе будто я открылась... Вранье все это было, вранье! А ты — уехала. И потом он женился на мне...
Закрыла глаза — забылась. Открыла — минута прошла, час, день, неделя? Нет Тамары. Стоит в дверях Ромка, держит Вовика, что-то ласковое ему говорит и на нее показывает, тихонько так успокаивает. Ухоженный такой мальчонка. И в доме все ухожено, не хуже, чем женской рукой. Стоит Ромка — туча тучей то ли от горя, то ли от грусти какой. Только гладит его темная от работы рука мальчишку, нежно так гладит по кудрявому затылку, по спинке. Пьяный — он никогда детей не ласкал, словно стеснялся себя. Давно ли он не пьет? Давно ли она лежит тут?
Чаем, что ли, горячим согреться? Колотит всю, и лед в груди. Было пусто и холодно, теперь — тяжело и холодно. Подаст ли только Ромка чаю? А дочка где?
— У матери. Та тоже что-то заболела.
Голос у Ромки сонный и потому мягкий.
Вот он, горячий чай. Как осторожно несет его муж! Это потому, что Вовика с рук так и не спускает. И в новой рубахе. Это почему? Из-за Томки небось. Или баню топил? Или праздник какой? «В праздники-то у него всегда дел по горло, — вспомнила она и забеспокоилась: — Наверно, на работу рвется, а тут сидит вот из-за меня». Но тотчас же почувствовала, как ей приятно. И впервые вспомнила свой магазин. Как же без нее люди? Или кто-то уже работает?
И эти отчетливые заботы показали ей, что болезнь, в которой она то притягивала к себе, то отталкивала смерть, похоже, оставила ее насовсем. А Ромка, видать, совсем скружился от домашних дел — осунулся. Скружишься... Вставать надо.
Под окном послышались веселые голоса женщин. Праздник?
А может, это наступает тот самый ее праздник, которого она уже перестала ждать?
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





