ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


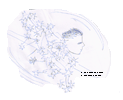
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Чуковская Лидия

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.
Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла: как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя.
«Будет готово через 25 минут,—говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы.— Ровно. Нет, ровно через 25, не раньше»,— и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы,— если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.
В
молодости, скучая, бывало, в те дни, когда
Федор Иванович надолго уходил с визитами,
она мечтала о собственной швейной
мастерской. В большой, светлой комнате
сидят миловидные девушки,
наклонясь над ниспадающими волнами
шелка, а она показывает им фасоны и во
время примерки занимает светской беседой
элегантных дам. Машинописное бюро было,
пожалуй, еще лучше: как-то значительнее.
Софье Петровне зачастую теперь доводилось
первой, еще в рукописи, прочесть
какое-нибудь новое произведение советской
литературы — повесть или роман — и,
хотя советские романы и повести казались
ей скучными, потому что в них много
говорилось о боях, о тракторах, о заводских
цехах и очень мало о любви, она все-таки
бывала польщена. Она стала завивать
свои рано поседевшие волосы и во время
мытья добавляла в воду немного синьки,
чтобы они не желтели. В черном простом
халатике — но зато в воротничке из
старых настоящих кружев — с остро
очинённым карандашом в верхнем кармане,
она чувствовала себя деловитой, солидной
и в то же время изящной. Машинистки
побаивались ее и за глаза называли
классной дамой. Но слушались. И она
хотела быть строгой, но справедливой.
Она приветливо беседовала в перерыве
с теми из них, которые писали старательно
и грамотно,— беседовала о
трудностях директорского почерка
и о том, что красить губы вовсе не всем
идет,— а с теми, кто писал «репитиция»
и «коликтив», держала себя надменно.
Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно
действовала Софье Петровне на нервы:
ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально
курит и болтает во время работы. Эрна
Семеновна смутно напоминала Софье
Петровне одну наглую горничную, служившую
у них когда-то в старое время. Горничную
звали Фани, она грубила Софье Петровне
и флиртовала с Федором Ивановичем... И
за что только такую держат?
Больше всех машинисток в бюро нравилась
Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная,
некрасивая девушка с зеленовато-серым
лицом. Она всегда писала без единой
ошибки, поля и красные строки получались
у нее удивительно элегантно. Глядя на
ее работу, казалось, будто и на бумаге
написана она какой-то особенной, и
машинка, наверное, лучше, чем другие
машинки. Но в действительности и бумага
и машинка были у Наташи самые обыкновенные
— а весь секрет, подумать только,
заключался в одной аккуратности.
Машинописное бюро было отделено от
всего учреждения деревянной форточкой,
покрытой коричневым лаком. Дверь
была постоянно заперта на ключ, и
разговоры велись через форточку.
В первое время Софья Петровна никого
в издательстве не знала, кроме своих
машинисток, да еще курьерши, разносившей
бумаги. Но постепенно перезнакомилась
со всеми. Миновали какие-нибудь две
недели, и в коридоре к ней уже подходил
поболтать солидный, лысый, но моложавый
бухгалтер: оказывается, он узнал Софью
Петровну — когда-то, лет двадцать тому
назад, Федор Иванович очень успешно
лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным
спортом и западноевропейскими
танцами— и Софье Петровне было
приятно, что он и ей посоветовал записаться
в их танцевальный кружок. С ней начала
здороваться пожилая и
вежливая секретарша директора, ей
кланялся и заведующий отделом кадров,
а также один известный писатель, красивый,
седой, в бобровой шапке и с монограммой
на портфеле, всегда приезжавший в
издательство в собственной машине.
Писатель даже спросил у нее однажды,
как ей понравилась последняя глава его
романа. «Мы, литераторы, давно
заметили, что машинистки — самые
справедливые судьи. Право,—
сказал он, показывая в улыбке ровные
вставные зубы,— они судят непосредственно,
они не одержимы предвзятыми идеями, как
товарищи критики или редакторы».
Познакомилась Софья Петровна и с
парторгом Тимофеевым, хромым,
небритым человеком. Он был хмур,
говорил, глядя в пол, и Софья Петровна
слегка побаивалась его. Изредка он
подзывал к деревянному окошечку Эрну
Семеновну — с ним приходил завхоз, Софья
Петровна отпирала дверь, и завхоз
перетаскивал машинку Эрны Семеновны
из машинописного бюро в спецчасть. Эрна
Семеновна следовала за своей машинкой
с победоносным видом: как объяснили
Софье Петровне, она была «засекречена»,
и парторг вызывал ее в спецчасть
переписывать секретные партийные
бумаги.
Скоро Софья
Петровна знала уже всех в издательстве
— и по фамилиям, и по должностям, и в
лицо: счетоводов, редакторов, техредов,
курьерш. В конце первого месяца своей
службы она впервые увидела директора.
В директорском кабинете был пушистый
ковер, вокруг стола — глубокие мягкие
кресла, а на столе — целых три телефона.
Директор оказался молодым человеком,
лет тридцати пяти, не более, хорошего
роста, хорошо выбритым, в хорошем сером
костюме, с тремя значками на груди и с
вечным пером в руке. Он беседовал с
Софьей Петровной какие-нибудь две
минуты, но за эти две минуты трижды
звонил телефон, и он говорил в один, сняв
трубку с другого. Директор сам пододвинул
ей кресло и вежливо спросил, не будет
ли она так добра остаться сегодня вечером
для сверхурочной работы? Она должна
пригласить машинистку по своему выбору
и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы
прекрасно разбираете мой варварский
почерк»,— сказал он ей и улыбнулся.
Софья Петровна вышла из кабинета гордая
его властью, польщенная его доверием.
Воспитанный молодой человек. Про него
рассказывают, будто он рабочий,
выдвиженец,— и действительно, руки у
него, кажется, грубые,— но в остальном...
Первое общее собрание служащих
издательства, на котором довелось
присутствовать Софье Петровне, показалось
ей скучным. Директор произнес коротенькую
речь о приходе к власти фашистов, о
поджоге рейхстага в Германии и уехал
на своем «форде». После него выступил
парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он
не умел. Между двумя фразами он замолкал
так прочно, что, казалось, никогда не
заговорит опять. «Мы должны
константировать...» — скучно говорил
он и умолкал. «Наш производственный
портфель...»
Потом
выступила председательница месткома,
полная дама с камеей на груди. Потирая
и поламывая свои длинные пальцы, она
произнесла, что ввиду всего происшедшего
в первую очередь необходимо уплотнить
рабочий день и объявить беспощадную
войну опозданиям. Напоследок, истерическим
голосом она сделала краткое сообщение
о Тельмане и предложила всем служащим
записаться в МОПР. Софья Петровна плохо
понимала, о чем речь, ей было скучно и
хотелось уйти, но она боялась, что это
не полагается, и строго взглянула на
одну машинистку, пробиравшуюся к
дверям.
Однако скоро и
собрания перестали быть скучными для
Софьи Петровны. На одном из них директор,
докладывая о выполнении плана, говорил,
что высокие производственные показатели,
которых надо добиваться, зависят от
сознательной трудовой дисциплины
каждого из членов коллектива — не только
от сознательности редакторов и авторов,
но и уборщицы, и курьерши, и каждой
машинистки. «Впрочем,— сказал он,—
надо признать, что машинописное бюро
под руководством товарища Липатовой
работает уже и в настоящий момент с
исключительной четкостью».
Софья Петровна покраснела и долго не
решалаа поднять глаз. Когда она решилась
наконец посмотреть кругом, все люди
показались ей удивительно добрыми,
красивыми, и с неожиданным интересом
она прослушала цифры.
2
Все
свободное время Софья Петровна проводила
теперь с Наташей Фроленко. А свободного
времени становилось у нее все меньше и
меньше. Сверхурочная работа, а чаще того
— заседания месткома, куда вскоре
кооптировали Софью Петровну, отнимали
у нее чуть ли не все вечера. Коля все
чаще должен был сам разогревать себе
обед и в шутку называл Софью Петровну:
«мама-общественница». Местком поручил
ей собирать профсоюзные взносы. Софья
Петровна мало задумывалась над тем, для
чего, собственно, существует профсоюз,
но ей нравилось разлиновывать листы
бумаги и отмечать в отдельных графах,
кто заплатил уже за нынешний месяц, а
кто нет, нравилось наклеивать марки,
сдавать безупречные отчеты ревизионной
комиссии. Ей нравилось, что можно в любую
минуту войти в торжественный кабинет
директора и шутливо напомнить ему о его
четырехмесячном долге, и он так же
шутливо извинится перед терпеливыми
товарищами из месткома, вынет бумажник
и заплатит. Даже хмурому парторгу можно
было безо всякого риска напоминать
о долгах.
В конце первого
года службы в жизни Софьи Петровны
произошло торжественное событие. Она
выступила на общем собрании служащих
от имени всех беспартийных работников
издательства. Произошло это так.
В издательстве ждали приезда каких-то
ответственных московских товарищей.
Завхоз, лихой паренек с пронзительным
пробором, похожий на офицерского денщика,
целыми днями носился по издательству,
на собственной спине таская какие-то
рамы, и в самое неподходящее время
напустил на машинописное бюро полотеров.
Однажды в коридоре к Софье Петровне
подошел хмурый парторг. «Партийная
организация совместно с месткомом,—
сказал он, глядя по обыкновению в пол,—
наметила тебя...— он поправился,— вас...
давать обещание от имени беспартийных
активистов».
Работы
накануне приезда москвичей стало
множество. Бюро писало все какие-то
отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер
Софья Петровна с Наташей оставались на
сверхурочную работу. Машинки глухо
стучали в пустой комнате. Кругом, в
коридорах и кабинетах, было темно. Софья
Петровна любила эти вечера. Окончив
работу, перед тем как из светлой комнаты
выйти во тьму коридора, они с Наташей
подолгу беседовали возле своих машинок.
Наташа говорила мало, но прекрасно умела
слушать.— Вы заметили, что у Анны
Григорьевны (это была предместкома)
всегда грязные ногти? — спрашивала
Софья Петровна.— А еще носит камею,
завивается. Лучше бы руки почаще мыла...
Эрна Семеновна ужасно действует мне на
нервы. Она такая наглая... И вы заметили,
Наташа, что Анна Григорьевна всегда
как-то иронически отзывается о парторге?
Не любит она его...— Поговорив о
предместкома и парторге, Софья Петровна
рассказывала Наташе о своем романе с
Федором Ивановичем и о том, как Коля
упал под корыто, когда ему было полгодика.
И какой это был хорошенький мальчик, на
улице все оборачивались. Его одевали
во все белое: белая пелеринка и белый
капор. Наташе как-то не о чем было
рассказывать — ни одного романа.
«Впрочем, с таким цветом лица...»— думала
Софья Петровна. В жизни Наташи были одни
неприятности. Отец ее, полковник, умер
в 17-м году от разрыва сердца. Наташе
тогда едва исполнилось пять лет. Дом у
них отняли, и они вынуждены были переехать
к какой-то парализованной родственнице.
Мать ее была избалованная, беспомощная
женщина, они жестоко голодали, и Наташа
чуть ли не с пятнадцати лет поступила
на службу. Теперь Наташа осталась совсем
одна: мать в позапрошлом году умерла от
туберкулеза, родственница скончалась
от старости. Наташа сочувствовала
советской власти, но когда она подала
заявление в комсомол— ее не приняли.
«Мой отец был полковник и домовладелец,
и, понимаете, мне не верят, что я могу
сочувствовать искренно,— говорила
Наташа, щурясь.— С марксистской точки
зрения, может быть, это и правильно...»
У нее краснели веки каждый раз, как она
рассказывала об этом отказе, и Софья
Петровна поспешно переводила разговор
на другое.
Наступил
торжественный день. Портреты Ленина и
Сталина вставили в новые рамы,
собственноручно принесенные завхозом,
письменный стол директора покрыли
красным сукном. Московские гости— двое
полных мужчин в заграничных костюмах,
в заграничных галстуках и с заграничными
вечными перьями в верхних карманах—
сидели рядом с директором за столом под
портретами и вынимали бумаги из туго
набитых заграничных портфелей. Парторг
в косовороточке и в пиджачке казался
рядом с ними совсем невзрачным. Лихой
завхоз и лифтерша Марья Ивановна
то и дело вносили на подносах чай,
бутерброды и фрукты, предлагали их
гостям и директору, а затем уже и всем
присутствующим.
От
волнения Софья Петровна не в силах была
слушать речи. Как завороженная смотрела
она, не отрывая глаз, на колеблющуюся
воду графина. По слову председателя она
подошла к столу, повернулась сначала
лицом к директору и гостям, потом спиной
к ним, потом стала боком и сложила руки
у пояса, как ее учили в детстве, когда
она декламировала французские
поздравительные стихи.—От имени
беспартийных работников, — сказала она
дрожащим голосом, и потом дальше все
свое обещание о повышении производительности
труда— все, что они составили вместе с
Наташей и она выучила наизусть.
Вернувшись домой, она долго не ложилась
спать, поджидая Колю, чтобы рассказать
ему о собрании. Коля сдавал последние
школьные зачеты и все вечера проводил
у своего любимого товарища Алика
Финкельштейна: они занимались вместе.
Софья Петровна прибрала кое-что в комнате
и вышла в кухню разжигать примус. «Какая
жалость, что вы не служите,— сказала
она добродушной жене милиционера,
которая мыла посуду.— Столько впечатлений,
это так много дает в жизни. Особенно
если ваша служба имеет касательство к
литературе».
...Коля
явился голодный и промокший под первым
весенним дождем, и Софья Петровна
поставила перед ним тарелку щей.
Облокотясь на стол против Коли и глядя,
как он ест, она только что собралась
рассказать ему про свое выступление,
как — «знаешь, мама? — сказал он,— я
теперь комсомолец, меня сегодня утвердили
на бюро». Сообщив эту новость, он без
передышки перешел к другой, набивая
полный рот хлебом: в школе у них
случился скандал — «Сашка Ярцев
— этакий старорежимный балбес... («Коля,
я не люблю, когда ты ругаешься»,— перебила
Софья Петровна.) Да не в этом дело:
Сашка Ярцев обозвал
Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня
на ячейке постановили устроить
показательный товарищеский суд. Знаешь,
кого назначили общественным обвинителем?
Меня!»
Поужинав, Коля
сразу лег спать, и Софья Петровна тоже
легла за своей ширмой, и в темноте Коля
читал ей наизусть
Маяковского. «Правда, мама,
гениально?» — и, когда он дочитал, Софья
Петровна рассказала ему о собрании.
«Ты, мама, молодец»,— сказал Коля
и сейчас же заснул.
3
Коля
окончил школу, наступило
душное лето, а Софье Петровне все
не давали отпуска. Дали только в конце
июля. Ехать она никуда не собиралась,
но весь июль жадно мечтала о том, как
будет по утрам отсыпаться и как переделает
наконец всю домашнюю работу, которую
из-за службы никогда не успевала сделать.
Она мечтала отдохнуть от барабанной
дроби машинок, и подыскать Коле
демисезонное пальто, и съездить наконец
на кладбище, и позвать маляра, чтобы
выкрасить заново дверь. Но вот отпуск
наконец наступил, и оказалось, что
отдыхать приятно только в первый день.
Софья Петровна, по служебной
привычке, все равно просыпалась
не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил
дверь; могила Федора Ивановича была в
полном порядке; пальто куплено сразу;
носки зачинены в два вечера. И потянулись
длинные, пустые дни, с тиканьем часов,
разговорами в кухне и ожиданием Коли к
обеду. Коля теперь целыми днями пропадал
в библиотеке: готовился вместе с Аликом
в вуз, в машиностроительный институт,
и Софья Петровна почти не видала его.
Изредка наведывалась усталая Наташа
Фроленко (она замещала Софью Петровну
в бюро), Софья Петровна с жадностью
расспрашивала ее про секретаршу
директора, про ссору предместкома с
парторгом, про орфографические ошибки
Эрны Семеновны. И про обсуждение в
кабинете у директора повести того
симпатичного писателя. Весь
редакционный сектор собрался...
«Неужели кому-нибудь
может не понравиться? —
всплескивала руками Софья Петровна.—
Там ведь так красиво описана первая
чистая любовь. Совсем как у нас с Федором
Ивановичем».
Теперь уже
Софья Петровна вполне соглашалась с
Колей, когда он толковал ей
о необходимости для женщин
общественно полезного труда. Да и все,
что говорил Коля, все, что
писали в газетах, казалось ей
теперь вполне естественным,
будто так и писали и говорили всегда.
Вот только о бывшей квартире своей
теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна
сильно сожалела. Их уплотнили еще во
время голода, в самом начале революции.
В бывшем кабинете Федора Ивановича
поселили семью милиционера Дегтяренко,
в столовой — семью бухгалтера, а Софье
Петровне с Колей оставили Колину бывшую
детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему
необходима отдельная комната, ведь он
уже не ребенок. «Но, мама, разве это
справедливо, чтобы Дегтяренко со своими
детьми жил в подвале, а мы в хорошей
квартире? Разве это справедливо? скажи!»
— строго спрашивал Коля, объясняя Софье
Петровне революционный смысл уплотнения
буржуазных квартир. И Софья Петровна
вынуждена была согласиться с ним: это
и в самом деле не вполне справедливо.
Жаль только, что жена Дегтяренко такая
грязнуха: даже в коридоре слышен кислый
запах из ее комнаты. Форточку открыть
боится, как огня. И близнецам ее
уже шестнадцатый год пошел, а они все
еще пишут с ошибками.
В
потере квартиры Софью Петровну утешало
новое звание: жильцы единогласно выбрали
ее квартуполномоченной. Она стала как
бы хозяйкой, как бы заведующей своей
собственной квартирой. Она мягко, но
настойчиво делала замечания
жене бухгалтера насчет сундуков,
стоящих в коридоре.
Она высчитывала, сколько с кого
причитается платы за электроэнергию с
той же аккуратностью, с какой на службе
собирала членские профсоюзные взносы.
Она регулярно ходила на собрания
квартуполномоченных в ЖАКТе и потом
подробно докладывала жильцам, что
говорил управдом. Отношения с жильцами
были у нее в общем хорошие. Если
жена Дегтяренко варила варенье, то
всегда вызывала Софью Петровну в кухню
попробовать: довольно ли сахару? Жена
Дегтяренко часто заходила и в комнату
к Софье Петровне — посоветоваться с
Колей: что бы такое придумать, чтобы
близнецы, не дай бог, снова не остались
на второй год? и посудачить с Софьей
Петровной о жене бухгалтера, медицинской
сестре.— Этакой милосердной сестрице
попадись только, она тебя разом на тот
свет отправит! — говорила жена
Дегтяренко.
Сам бухгалтер
был уже пожилой человек, с обвислыми
щеками, с синими жилками на руках и на
носу. Он был запуган женою и дочерью, и
его совсем не было слышно в квартире.
Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно
смущала Софью Петровну фразочками «а
я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у
жены бухгалтера, Валиной матери, был и
в самом деле ужасный характер. Стоя с
неподвижным лицом возле своего примуса,
она методически пилила жену милиционера
за коптящую керосинку или кротких
близнецов за то, что они не заперли дверь
на крюк. Она была из дворянок, брызгала
в коридоре одеколоном с помощью
пульверизатора, носила на цепочке
брелоки и разговаривала тихим голосом,
еле-еле шевеля губами, но слова употребляла
удивительно грубые. В дни получки Валя
начинала клянчить у матери денег на
новые туфли.— Ты не воображай, кобыла,—
ровным голосом говорила мать, и Софья
Петровна поспешно скрывалась в ванную
комнату, чтобы не слышать продолжения,—
в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать
свою запухшую, зареванную физиономию,
произнося в раковину все те ругательства,
которые она не посмела произнести в
лицо матери.
Но в общем
квартира 46 была благополучной, тихой
квартирой — не то что 52, над нею, где
чуть ли не каждую шестидневку, накануне
выходного, случались настоящие побоища.
Сонного после дежурства Дегтяренко
регулярно вызывали туда составлять
протокол вместе с дворником и
управдомом.
Отпуск
тянулся, тянулся — между кухней и
комнатой — и кончился, к большой радости
Софьи Петровны. Зачастили дожди,
желтые листья валялись
возле Летнего сада, вдавленные в грязь
каблуками,— и Софья Петровна, в калошах
и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила
на службу, ждала по утрам трамвая и ровно
в 10 часов, облегченно вздохнув, вешала
на доску свой номерок. Снова вокруг нее
стучали и звенели машинки, шелестела
бумага, щелкала, закрываясь и
открываясь, дверца; Софья
Петровна с достоинством вручала пожилой
секретарше директора аккуратно
сложенные, сколотые,
пахнущие копиркой листы. Она вклеивала
марки в членские профсоюзные книжки,
заседала в месткоме по вопросам укрепления
трудовой дисциплины и некорректного
поступка одной машинистки с одной
курьершей. Она по-прежнему побаивалась
хмурого парторга, товарища Тимофеева,
по-прежнему не любила председательницу
месткома с грязными ногтями, втайне
обожала директора и завидовала его
секретарше— но все они уже были для нее
своими, привычными людьми, она чувствовала
себя на месте, уверенно, и уже не
стесняясь громко делала замечания
наглой Эрне Семеновне. И за что только
ее держат? Нужно будет поставить вопрос
на месткоме.
Коля и Алик
выдержали экзамены в машиностроительный
институт. Прочтя свои фамилии в списке
принятых, они, на радостях, решили
поставить в комнате радиоприемник.
Софья Петровна не любила, когда Коля и
Алик сооружали что-нибудь техническое
у нее в комнате, но она сильно надеялась,
что радио обойдется ей все же дешевле,
чем буер. Окончив школу, Коля затеял
построить буер, чтобы зимою кататься
на собственном буере по
Финскому заливу. Он
приобрел какую-то книжку о буере,
раздобыл бревна, внес их
вместе с Аликом в комнату — и не то
что подметать пол, но и просто передвигаться
по комнате сразу сделалось невозможно.
Бревна оттеснили обеденный стол к стене,
диван — к окну; они лежали на полу
огромным треугольником, и Софья Петровна
по сто раз в день спотыкалась о них.
Однако все мольбы ее были напрасны.
Напрасно объясняла она Коле и Алику,
что жить ей стало так же неудобно, как
если бы они привели в дом слона. Они
строгали, измеряли, чертили, пилили до
тех пор, пока не убедились с абсолютной
ясностью, что автор брошюры о буере
невежда и буера по его чертежам не
построишь.
Тогда они
распилили бревна и покорно сожгли их в
печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна
расставила вещи по местам и целую неделю
нарадоваться не могла простору и чистоте
своей комнаты.
Поначалу
радио тоже приносило Софье Петровне
одни огорчения. Коля и Алик завалили
всю комнату проволокой, винтиками,
болтиками, дощечками; до двух
часов ночи ежевечерне спорили о
преимуществах того или другого типа
приемника; потом соорудили приемник,
но не давали Софье Петровне ничего
дослушать до конца, так как им хотелось
поймать то Норвегию, то Англию; потом
ими овладела страсть к усовершенствованию,
и каждый вечер они пускались перестраивать
приемник заново. Наконец Софья Петровна
взяла дело в свои руки, и тогда оказалось,
что радио действительно очень приятное
изобретенье. Она научилась сама включать
и выключать его, запретила Коле и Алику
к нему притрагиваться и по вечерам
слушала «Фауста» или концерт из
филармонии.
Наташа
Фроленко тоже приходила послушать. Она
брала с собой свое вышивание и садилась
возле стола.
У нее были умелые руки,
она прекрасно вязала, шила, вышивала
салфеточки и воротнички. Вся ее комната
была уже сплошь увешана вышивками, и
она принялась вышивать скатерть для
Софьи Петровны.
По
выходным дням Софья Петровна включала
радио с самого утра: ей нравился важный,
уверенный голос, повествующий о том,
что в парфюмерный магазин № 4 привезли
большую партию духов и одеколона, или
о том, что на днях предстоит премьера
новой оперетты. Она не могла удержаться
и на всякий случай записывала все
телефоны. Единственное, чем она не
интересовалась совсем,— это были
последние известия о международном
положении. Коля усердно рассказывал ей
про немецких фашистов, про Муссолини,
про Чан Кайши — она слушала, но только
из деликатности. Садясь на диван, чтобы
прочесть газету, она прочитывала только
происшествия и маленький фельетон или
«В суде», а на передовой или телеграммах
неизменно засыпала, и газета падала ей
на лицо. Гораздо больше газет нравились
ей переводные романы, которые Наташа
брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или
«Сердца трех».
8 марта
1934 года было счастливым днем в жизни
Софьи Петровны. Утром курьерша из
издательства принесла ей корзину цветов.
В цветах лежала карточка: «Беспартийной
труженице Софье Петровне Липатовой,
поздравление в день 8 Марта. Партийная
организация и местком». Она поставила
цветы на Колин письменный стол, под
полку с Собранием сочинений Ленина,
рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь
день у нее было тепло на душе. Она решила
не выбрасывать эти цветы, когда они
завянут, а непременно засушить их и
спрятать в книгу на память.
4
Шел
третий год служебной жизни Софьи
Петровны. Ей повысили
ставку: теперь она получала уже не 250 а
375. Коля и Алик еще учились, но уже недурно
зарабатывали в каком-то конструкторском
бюро: чертили. Ко дню рождения Софьи
Петровны Коля купил ей на собственные
деньги маленький сервиз: молочник,
чайник, сахарницу и три чашки. Узор на
сервизе не очень-то понравился
Софье Петровне — какие-то квадраты
красные на желтом. Она предпочла бы
цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да
и не все ли равно? Это подарок от сына.
А сын стал красивый — сероглазый,
чернобровый, высокий и такой уверенный,
спокойный, веселый, каким даже в самые
лучшие годы не бывал Федор Иванович.
Всегда он как-то по-военному
подтянут, чистоплотен и бодр.
Софья Петровна смотрела
на него с нежностью и неустанной тревогой,
радуясь и боясь радоваться. Красавец
собою, здоровяк, не пьет и не курит,
почтительный сын и честный комсомолец.
Алик, конечно, тоже юноша вежливый,
работящий, но где уж ему до Коли? Отец
его — переплетчик в Виннице, куча ребят,
бедность. Алик с малых лет живет в
Ленинграде у тетки, а та, видно, не
очень-то заботится о нем: локти
заплатанные, сапоги худые. Сам он
щупленький, невысокий. Да и ума в нем
такого большого нет, как в Коле.
Одна мысль неустанно тревожила Софью
Петровну: Коле пошел уже двадцать первый
год, а у него все еще нету отдельной
комнаты. Уж не мешает ли она своим
постоянным присутствием Колиной личной
жизни? Коля, кажется, там в институте
влюбился в кого-то: она искусно допрашивала
Алика — в кого? как ее зовут? сколько ей
лет? хорошо ли она учится? кто ее родители?
Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам
его видно было, что на предательство он
не способен. Софья Петровна выпытала у
него только имя: Ната. Но все равно, как
бы ее там ни звали и серьезная ли это
любовь или только увлечение — все равно
молодому человеку в его годы необходима
отдельная комната. Софья Петровна
поделилась своими тревожными мыслями
с Наташей. Наташа молча выслушала ее,
потом покраснела и сказала, что да...
безусловно... конечно... Николаю Федоровичу
лучше было бы в отдельной комнате... но
впрочем... вот живет же она одна... без
матери... и что же? ничего!..
Наташа сбилась и замолчала, и Софья
Петровна так и не поняла, что, собственно,
она хотела сказать.
Софья
Петровна обдумывала со всех сторон, как
бы ей обменять одну комнату на две, и
начала даже откладывать деньги на
книжку, чтобы приплатить, если понадобится.
Но вопрос об отдельной комнате для Коли
неожиданно потерял свою остроту:
отличников учебы, Николая Липатова и
Александра Финкелыптейна, по какой-то
там разверстке направляли в Свердловск,
на Уралмаш, мастерами. Там не хватало
итээровцев. Институт же им предоставляли
возможность кончить заочно.— Ты не
беспокойся, мама,— сказал Коля, положив
свою большую руку на маленькую руку
Софьи Петровны,— ты не беспокойся, мы
там с Аликом прекрасно заживем... Нам
обещают комнату в общежитии... да
Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь
к нам как-нибудь... и... знаешь что? ты
будешь нам посылки посылать.
С этого дня, возвращаясь со службы, Софья
Петровна сразу же принималась пересчитывать
Колино белье в комоде, шить, штопать,
отглаживать. Она отдала починить старый
чемодан Федора Ивановича. Теперь уже
то весеннее утро, когда они вместе с
Федором Ивановичем купили этот чемодан
в магазине Гвардейского общества,
казалось бесконечно далеким и каким-то
ненастоящим утром из какой-то ненастоящей
жизни. Она с недоумением взглянула на
лист «Нивы», которым была оклеена
поврежденная стенка: декольтированная
дама с длинным шлейфом, с высокой
прической поразила ее. Это тогда были
такие моды.
Колин отъезд
беспокоил и огорчал Софью Петровну, но
она не могла налюбоваться на ловкость
и аккуратность, с какой он упаковывал
книги и большие блокноты, исписанные
его отчетливым почерком, и сам зашил в
пояс свой комсомольский билет. День
отъезда все был через неделю и вдруг
оказался завтра.— Коля, ты уже готов,
Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя
утром к ним в комнату, маленький,
большеголовый, с торчащими ушами.—
Что?
Новая куртка
топорщилась у него на спине, кончики
воротничка загибались. Коля большими
шагами подошел к своему чемодану и
поднял его так легко, будто он был пустой.
Всю дорогу на вокзал он чуть ли не
размахивал чемоданом, а бедный Алик еле
волочил свой сундучок, отдуваясь и
рукавом куртки отирая со лба пот.
Коротконогий, большеголовый,
он казался Софье Петровне
похожим на комический персонаж
мультипликационного фильма. Тетка Алика
не потрудилась, разумеется, приехать
на вокзал проводить его, и они втроем —
Коля, Софья Петровна и Алик — чинно
прохаживались по платформе в
сырой мгле вокзала. Коля и Алик с
азартом обсуждали вопрос: какая машина
выносливее и легче—«фиат»
или «паккард»? И только за пять минут
до отхода поезда Софья Петровна
вспомнила, что она ничего, ничего
не сказала мальчикам ни о ворах в дороге,
ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо
непременно считать его и записывать...
И ни под каким видом не есть в столовых
винегрет — он часто бывает вчерашний,
несвежий, и легко можно заболеть брюшным
тифом. Она отвела Алика в сторону и
вцепилась ему в плечо.— Алик, голубчик,—
говорила она,— уж вы позаботьтесь,
голубчик, о Коле...
Алик
смотрел на нее сквозь очки большими
добрыми глазами.
— Разве
мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать
за Николаем. А что же?
Пора было в вагон. Коля и Алик через
минуту появились у окна. Коля — высокий,
Алик ему по плечо. Коля сказал что-то
Софье Петровне, но сквозь стекло было
не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и
обвел купе возбужденным, веселым
взглядом. Алик показывал Софье Петровне
буквы пальцами. «Не...» — разобрала она
и замахала на него рукой, догадавшись:
«не беспокойтесь»... Боже мой, ведь дети,
совсем дети едут!
Через
минуту она шла по перрону назад, одна в
толпе людей, все быстрее и быстрее, не
замечая дороги и пальцами вытирая глаза.
5
После
Колиного отъезда Софья Петровна еще
меньше времени проводила дома. Сверхурочной
работы в бюро всегда было вдоволь, и она
чуть ли не каждый вечер оставалась
работать, прикапливая деньги Коле на
костюм: молодой инженер должен одеваться
прилично.
В свободные
вечера она приводила к себе Наташу пить
чай. Они вместе заходили в гастроном на
углу и выбирали себе два пирожных. Софья
Петровна заваривала чай в чайничке с
квадратами и включала радио. Наташа
брала свое вышивание. В последнее время,
по совету Софьи Петровны, она усердно
пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее
не становился лучше.
В
один из таких вечеров, уходя домой от
Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила
подарить ей Колину последнюю
карточку.— А то у меня в
комнате только мамина карточка и больше
ничья,— объяснила она. Софья
Петровна подарила ей Колю,
красивого, глазастого, в галстуке и
воротничке. Фотограф удивительно схватил
его улыбку.
Однажды,
возвращаясь с работы, они зашли в кино
— и с тех пор кино сделалось их любимым
развлечением. Им обеим сильно нравились
фильмы о летчиках и пограничниках.
Белозубые летчики, совершавшие подвиги,
казались Софье Петровне похожими на
Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие
с экранов,— особенно «спасибо, сердце!»
и «если скажет страна— будь героем»,
нравилось слово «Родина». От этого
слова, написанного с большой буквы, у
нее становилось сладко и торжественно
на душе. А когда самый лучший летчик или
самый мужественный пограничник падал
навзничь, сраженный пулей врага, Софья
Петровна хватала Наташину руку, как в
дни молодости хватала руку Федора
Ивановича, когда Вера Холодная внезапно
вытаскивала маленький дамский револьвер
из широкой муфты и, медленно его поднимая,
целила в лоб подлецу.
Наташа снова подала заявление в комсомол,
и ее снова не приняли. Софья Петровна
очень сочувствовала Наташиному горю:
бедная девушка так нуждалась в обществе!
Да и почему, собственно, ее не принимают?
Девушка трудящаяся и вполне предана
советской власти. Работает прекрасно,
прямо-таки лучше всех — это раз.
Политически грамотная — это два. Она
не то что Софья Петровна, она дня не
пропустит, чтобы не прочитать «Правду»
от слова до слова. Наташа во всем
разбирается не хуже Коли и Алика, и в
международном положении, и в стройках
пятилетки. А как она волновалась, когда
льды раздавили «Челюскина», от радио
не отходила. Из всех газет вырезывала
фотографии капитана Воронина, лагерь
Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили
о первых спасенных, она заплакала у себя
за машинкой, слезы капали на бумагу, от
счастья она испортила два листа. «Не
дадут, не дадут погибнуть людям»,—
повторяла она, вытирая слезы. Такая
искренняя сердечная девушка! И вот
теперь ее опять не приняли в комсомол.
Это несправедливо. Софья Петровна даже
Коле написала о несправедливости,
постигшей Наташу. Но Коля ответил, что
несправедливость — понятие классовое
и бдительность необходима. Все-таки
Наташа из буржуазно-помещичьей семьи.
Подлые фашистские наймиты, убившие
товарища Кирова, не выкорчеваны еще по
всей стране. Классовые бои продолжаются,
и потому при приеме в партию и в комсомол
необходим строжайший отбор. Тут же он
писал, что через несколько лет Наташу,
наверное, примут, и сильно советовал
ей конспектировать произведения
Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса.—
Через несколько лет! — горько
улыбнулась Наташа.— Николай Федорович
забывает, что мне уже скоро
двадцать четыре.— Тогда вас примут
прямо в партию,— сказала ей Софья
Петровна в утешение.— И что такое
двадцать четыре года? Первая молодость.—
Наташа ничего не ответила, но,
уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи
Петровны том Колиного Ленина.
Письма от Коли получались регулярно,
раз в шестидневку, накануне выходного
дня. Какой он прекрасный сын — не
забывает, что мама беспокоится, а мало
ли у него там дела! Возвращаясь со службы
домой, Софья Петровна еще на лестнице,
в самом низу, доставала из сумочки
ключик, шла по лестнице быстро и,
добежав наконец до четвертого этажа,
задыхаясь, отворяла голубой почтовый
ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало
ее. Не снимая пальто, она садилась у окна
и расправляла аккуратно
сложенные листки
блокнота. «Здравствуй, мама! —
начиналось каждое письмо.— Надеюсь,
что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка
на нашем заводе за последнюю шестидневку
достигла...»
Письма были длинные, но
все больше о заводе, о росте стахановского
движения, а о себе, о своей жизни — ни
слова. «Ты подумай
только,— писал Коля в первом письме,—
и червячные, и фрезы, и даже броши — все
у нас еще заграничное, за все золотом
расплачиваемся с капиталистами, а сами
никак не можем освоить». Но Софью Петровну
не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как
они там питаются с Аликом, добросовестная
ли у них прачка? хватает ли у них денег?
И когда же они занимаются? по ночам, что
ли? На все эти вопросы Коля отвечал
крайне бегло и невразумительно. Софье
Петровне так хотелось представить себе
их комнату, их быт, их обед, что она, по
совету Наташи, написала письмо Алику.
Ответ пришел через несколько дней.
«Уважаемая Софья Петровна! — писал
Алик.— Извините мою смелость, но вы
напрасно беспокоитесь о здоровье
Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с
вечера закупаю колбасу и утром сам
зажариваю ее на сливочном масле. Обедаем
мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо.
Варенье, вами нам присланное, мы решили
пить только с вечерним чаем, и таким
путем его нам хватит надолго. Белье я
тоже сдаю прачке по счету. Для занятий
мы выделили специальные часы каждый
день. Вы можете мне вполне поверить, что
я все делаю для Николая, как его друг и
товарищ, и стараюсь все для него».
Письмо кончалось так:
«Николай успешно разрабатывает метод
изготовления долбяков Феллоу в нашем
инструментальном цехе. Про него в
парткоме на заводе говорят, что это
будущий восходящий орел».
Конечно, восходит светило, а не орел, и
Софья Петровна решительно
не понимала, что такое долбяки
Феллоу,— и все же эти строки
наполнили ее сердце гордостью и
восхищением.
Колины
письма Софья Петровна аккуратно
складывала в коробку из-под писчей
бумаги. Там у нее хранились жениховские
письма Федора Ивановича, фотографии
маленького Коли и фотография малютки
Карины, родившейся на «Челюскине». Туда
же Софья Петровна положила и письмо
Алика. Она испытывала нежность к Алику:
он, несомненно, был предан Коле и так
умел понять его!
Однажды,
уже месяцев через десять после Колиного
отъезда, Софья Петровна получила по
почте внушительный фанерный ящик.
Из Свердловска. От Коли. Ящик был
такой тяжелый, что почтальон с трудом
внес его в комнату и потребовал рубль
на чай. «Швейная машина? — размышляла
Софья Петровна.— Вот бы хорошо!» Свою
она продала в трудные годы. Почтальон
ушел. Софья Петровна взяла молоток и
нож и вскрыла ящик. В ящике оказался
черный стальной непонятный предмет. Он
был заботливо засыпан стружками. Колесо
не колесо, дуло не дуло, бог знает что
такое. Наконец на черной спине непонятного
предмета Софья Петровна обнаружила
ярлык, написанный Колиной рукой: «Мамочка,
посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную
долбяком Феллоу, изготовленным на нашем
заводе по моему методу». Софья Петровна
засмеялась, похлопала шестеренку по
спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник.
Каждый раз, как она взглядывала на нее,
ей становилось весело.
Через несколько дней, утром, когда Софья
Петровна допивала чай, торопясь на
службу, в ее комнату внезапно влетела
Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были
растрепаны, один ботик расстегнут. Она
протянула Софье Петровне мокрую
газету.
— Смотрите...
Я сейчас на углу купила... читаю
просто так... и вдруг вижу: Николай
Федорович. Коля.
На
первой странице «Правды» Софья Петровна
увидела Колино улыбающееся
белозубое лицо. Фотография изменила и
немного состарила его, но, безо всякого
сомнения, это он, ее сын, Коля. Под
портретом было написано:
«Энтузиаст производства, комсомолец
Николай Липатов, разработавший метод
изготовления долбяков Феллоу на Уральском
машиностроительном заводе».
Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала
ее в щеку.— Софья Петровна, милая! —
умоляюще сказала она,— пожалуйста,
пошлемте ему телеграмму!
Софья Петровна никогда еще не видела
Наташу такой возбужденной. Да у нее и у
самой тряслись руки, и она никак не могла
найти свой портфель. Телеграмму они
сочинили на службе, во время обеденного
перерыва, и отправили после работы. Все
поздравляли Софью Петровну; на службе
ее поздравила с таким сыном даже Эрна
Семеновна, а дома — даже медицинская
сестра. Вечером, ложась в постель,
счастливая и усталая, Софья Петровна
впервые подумала, что Наташа, наверное,
влюблена в Колю. Как это она раньше не
догадалась! Хорошая девушка, воспитанная,
работящая, только очень уж некрасивая
и старше его. Засыпая, Софья Петровна
старалась представить себе ту девушку,
которую полюбит Коля и которая станет
его женой: высокую, свежую, розовую, с
ясными глазами и светлыми волосами —
очень похожую на английскую открытку,
только со значком КИМа на груди. Ната?
Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.
6
Приближался
новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой
год. Местком принял решение устроить
елку для детей служащих издательства.
Организация праздника была поручена
Софье Петровне. Она кооптировала себе
в помощницы Наташу, и работа у них
закипела. Они звонили по телефонам на
квартиры служащих, узнавая имена и
возраст ребят; отстукивали на машинке
приглашения; бегали по магазинам, закупая
пастилу пряники, стеклянные шары и
хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег.
Самое важное и самое трудное
было решить, какой подарок сделать кому
из ребят так, чтобы не выйти из лимита
и в то же время чтобы все были довольны.
Из-за подарка девочке директора Софья
Петровна и Наташа даже немного поссорились.
Софья Петровна хотела купить ей большую
куклу — побольше, чем другим девочкам,—
а Наташа находила, что это будет бестактно.
Помирились на хорошенькой дудочке
с пушистой кисточкой. Наконец
осталось купить только елку. Они купили
высокую, до потолка, с широкими,
густыми лапами. Наташа,
Софья Петровна и лифтерша Марья
Ивановна украшали елку с раннего утра
и до двух часов дня накануне праздника.
Марья Ивановна развлекала их рассказами
о жене директора; про самого директора
она говорила, как в старое время: «они».
Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне
шары, хлопушки, почтовые ящики,
серебряные кораблики, а Наташа и Софья
Петровна вешали их на елку. Скоро у
Софьи Петровны заболели ноги, и она
уселась в кресло и, сидя, вкладывала в
пакетики с конфетами записочки: «Спасибо
товарищу Сталину за счастливое детство».
Украшать продолжала одна Наташа. У нее
были умелые руки и бездна вкуса: Деда
Мороза укрепила она
удивительно эффектно. Потом Софья
Петровна вклеила кудрявую головку
маленького Ленина в середину большой
красной пятиконечной звезды, Наташа
водрузила звезду на верхушку елки — и
все было закончено. Они сняли со стены
портрет Сталина во весь рост и заменили
его другим — Сталин сидит с девочкой
на коленях. Это был любимый портрет
Софьи Петровны.
Три
часа. Пора домой— полежать
немного, п обедать и переодеться
перед праздником.
Праздник
удался на славу. Явились все
ребята и почти все папы и мамы. Жена
директора не приехала, но директор
приехал и сам привез свою
маленькую девочку, очаровательную
крошку с белокурыми волосиками. Дети
радовались подаркам, родители громко
восхищались елкой. Только Анна Григорьевна,
председательница месткома, обиделась,
что сыну ее подарили барабан, а не
оловянных солдатиков, как сыну парторга;
солдатики стоили дороже. Она была в
зеленом шелковом платье и даже декольте.
Сын ее, долговязый, неприятный мальчик,
присвистнул, демонстративно ткнул
барабан кулаком и прорвал его. Но все
остальные были довольны. Дочка директора
без устали трубила в свою трубу,
подпрыгивая между колен отца,
упираясь маленькой пухлой рукой в его
колено и запрокидывая голову назад,
чтобы видеть елку.
Софья
Петровна чувствовала себя настоящей
хозяйкой бала. Она заводила патефон,
включала радио, показывала лифтерше
глазами, кому поднести блюдо с пастилой.
Ей было жаль Наташу, которая робко жалась
к стене, бледно-серая, в своей нарядной,
новой, собственноручно вышитой
блузке. Директор, согнувшись, водил
девочку вокруг елки и пугал ее Дедом
Морозом. Софья Петровна с умилением
смотрела на эту сцену: ей хотелось, чтобы
Коля во всем походил на директора. Кто
знает, быть может, годика через два и у
нее будет такая же милая
внучка. Или внук. Она уговорит
Колю внука назвать Владлен — очень
красивое имя! — а внучку — Нинель — имя
изящное, французское, и в то же время,
если читать с конца, получается Ленин.
Софья Петровна усталая, опустилась
в кресло. Пора бы уж и домой, у нее
начиналась мигрень. К ней подошел
представительный бухгалтер и, любезно
нагнувшись, поведал странную новость:
в городе арестовано множество врачей.
Бухгалтер был лично знаком со всеми
медицинскими светилами города:
экзема его не поддавалась ничьему
лечению, один только покойный Федор
Иванович умел согнать ее. («Да, вот это
был врач! Другие всё присыпают, мажут,
а толку никакого...») Среди арестованных
бухгалтер назвал доктора Кипарисова,
сослуживца Федора Ивановича, Колиного
крестного.— Как? Доктор Кипарисов?.. Не
может быть! И что случилось? Разве
опять какое-нибудь... несчастье?..—
спросила Софья Петровна, не решаясь
произнести «убийство». Бухгалтер возвел
очи горе и отошел, ступая почему-то на
цыпочках. Два года назад, после убийства
Кирова (о! какие это были мрачные дни!
по улицам ходили патрули...
а когда ждали товарища Сталина
— вокзальная площадь оцеплена
войсками... улицы, переулки перекрыты...
ни пройти, ни проехать), после убийства
Кирова тоже было много арестов, но тогда
сначала брали каких-то оппозиционеров,
а потом «бывших», всяких там
«фон-баронов». А теперь вот врачей. После
убийства Кирова выслали как дворянку
m-me Неженцеву, старинную приятельницу
Софьи Петровны,— они в гимназии вместе
учились. Софья Петровна была поражена:
какое отношение m-me Неженцева могла
иметь к убийству? Преподает в школе
французский язык и живет, как все. Но
Коля объяснил, что Ленинград необходимо
очистить от ненадежного элемента. «А
кто такая, собственно говоря, эта твоя
m-me Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама,
что она не признавала Маяковского и
говорила всегда, что в старое время все
было дешевле. Она — не советский
человек...» Ну хорошо, а врачи?
Они чем провинились? Подумать только
— Иван Игнатьевич Кипарисов!
Такой почтенный врач!
Ребята шумели в раздевалке. Софья
Петровна, в качестве хозяйки, помогала
родителям разыскивать рейтузы и ботики.
Директор с девочкой на руках подошел к
ней проститься. Он поблагодарил местком
за прекрасный праздник.— Я видел в
«Правде» портрет вашего сына,— сказал
он ей, улыбаясь.— Хорошая у нас смена
подросла...— Софья Петровна смотрела
на него с обожанием. Ей хотелось сказать
ему, что он еще никакого права не имеет
говорить о смене, — что такое тридцать
пять лет? первая молодость! — но она не
решилась. Он сам одел девочку и поверх
шубки закутал ее в белый пушистый платок.
Как он все умеет! Мать может спокойно
отпускать с ним ребенка. Сразу видно —
прекрасный семьянин.
7
В
газетах ничего не писали про врачей и
про доктора Кипарисова. Софья Петровна
собиралась зайти к m-me Кипарисовой и все
не могла собраться. Времени не было, да
и неловко как-то. Она не видала Кипарисову
года три уже. Как это она ни с того ни с
сего вдруг зайдет?
В
январе начали появляться в газетах
статьи о новом предстоящем процессе.
Процесс Каменева и Зиновьева сильно
поразил воображение Софьи Петровны, но
она с непривычки к газетам не следила
за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа
втянула ее в чтение газет, и они ежедневно
прочитывали вместе все статьи о новом
процессе. Очень уж упорно заговорили
вокруг о фашистских шпионах, о террористах,
об арестах... Подумать только, эти
негодяи хотели убить родного Сталина.
Это они, оказывается, убили Кирова. Они
устраивали взрывы в шахтах. Пускали
поезда под откос. И чуть ли не в каждом
учреждении были у них свои ставленники.
Одна машинистка в бюро, только что
вернувшаяся из дома отдыха, рассказала,
что в соседней с нею комнате жил молодой
инженер, она даже иногда с ним по парку
гуляла. Один раз ночью вдруг приехала
машина и его арестовали: он оказался
вредителем. А на вид такой приличный —
и не узнаешь.
В доме Софьи
Петровны, в квартире 45, напротив, тоже
кого-то арестовали — коммуниста
какого-то. Комнату его запечатали
красными печатями. Софье Петровне
рассказал управдом.
Софья Петровна по вечерам надевала очки
— у нее в последнее время развилась
дальнозоркость — и читала вслух газету
Наташе. Скатерть была уже кончена —
Наташа вышивала теперь накидку Софье
Петровне на постель. Они говорили о том,
как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да
и не только Коля: возмущены все честные
люди. Ведь в поездах, пущенных под откос
вредителями, могли быть маленькие дети!
Какое бессердечие! Изверги! Недаром
троцкисты тесно связаны с гестапо: они
и в самом деле не лучше фашистов, которые
в Испании убивают детей. И неужели,
неужели доктор Кипарисов участвовал в
их бандитской шайке? Его не раз приглашали
на консилиумы вместе с Федором Ивановичем.
После консилиума Федор Иванович привозил
его домой попить чайку, посидеть.
Софья Петровна видела его совсем близко
— вот как сейчас Наташу видит. И теперь
он вступил в бандитскую шайку! Кто бы
мог ожидать? Такой почтенный старик.
Однажды вечером, прочитав в газете
перечень преступлений, совершенных
подсудимыми, прослушав тот же перечень
по радио, они с Наташей так ясно представили
себе оторванные руки и ноги, горы
изуродованных трупов, что Софье Петровне
сделалось страшно остаться одной у себя
в комнате, а Наташе страшно одной идти
по улице. В эту ночь Наташа ночевала у
нее на диване.
Всюду, на
всех предприятиях, во всех учреждениях
собирались митинги, и в их издательстве
тоже состоялся митинг, посвященный
процессу. Предместкома заранее обошла
все комнаты и предупредила, что если
есть такие несознательные, которые
хотят уйти до собрания, то пусть имеют
в виду: выходная дверь заперта. На
собрание явились поголовно все, даже
работники редакционного сектора, которые
обыкновенно манкировали. Выступил
директор и кратко, сухо и точно изложил
газетные сообщения. После него говорил
парторг, товариц Тимофеев. Останавливаясь
после каждых двух слов, oн сказал, что
враги народа орудуют повсюду, что
они могут проникнуть и в наше учреждение,
и потому всем честным работникам
необходимо неустанно повышать свою
политическую бдительность.
Затем слово было предоставлено
председательнице месткома, Анне
Григорьевне.— Товарищи! — произнесла
она, опустила веки
и смолкла.— Товарищи! — она
сжала тонкие пальцы с длинными
ногтями.— Подлый враг протянул свою
грязную лапу и к нашему учреждению.—
Все замерли. Камея опускалась
и поднималась на полное груди
Анны Григорьевны.— Предыдущей
ночью арестован бывший заведующий
нашей типографией, ныне разоблаченный
враг народа Герасимов. Он
оказался родным племянником московского
Герасимова, разоблаченного месяц
назад. При попустительстве
нашей партийной организации, страдающей,
по меткому выражению товарища Сталина,
идиотской болезнью беспечности,
Герасимов продолжал, с позволения
сказать, «работать» в нашей типографии
уже после разоблачения его родного
дяди, московского Герасимова.
Она села. Грудь ее поднималась и
опускалась.
— Вопросов
нет? — осведомился директор,
председательствовавший на этом
собрании.
— А что они...
сделали... в типографии? — робко
спросила Наташа.
Директор
кивнул предместкома.
— Что сделали? —
высоким голосом отозвалась
она, поднявшись со стула.— Я, кажется,
товарищ Фроленко, ясно русским языком
объяснила здесь, что наш бывший заведующий
типографией Герасимов оказался родным
племянником того, московского, Герасимова.
Он осуществлял повседневную родственную
связь со своим дядей... разваливал в
типографии стахановское движение...
срывал план... по указаниям родственника.
При преступном попустительстве нашей
партийной организации.
Наташа больше не спрашивала.
Вернувшись после собрания домой, Софья
Петровна села писать письмо Коле. Она
написала ему, что у них в типографии
открылись враги. А на Уралмаше? Все ли
там благополучно? Как честный комсомолец,
Коля обязан быть бдительным.
В издательстве явственно ощущалось
какое-то странное беспокойство. Директора
ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый
парторг то и дело входил в бюро, отпирая
дверь собственным французским ключом,
и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть.
Вежливый бухгалтер, которому откуда-то
всегда все было известно, рассказал
Софье Петровне, что партийная организация
заседает теперь каждый вечер.— Милые
бранятся,— сказал он, многозначительно
усмехаясь.— Анна Григорьевна во всем
обвиняет парторга, а парторг директора.
Насколько я понимаю, предстоит смена
кабинета.
— В чем обвиняет?
— спросила Софья Петровна.
— Да вот... никак договориться не
могут, кто из них Герасимова проглядел.
Софья Петровна ничего толком не поняла
и в этот день ушла из издательства в
какой-то смутной тревоге. На улице она
обратила внимание на высокую старуху
в платке поверх шапки, в валенках, в
калошах и с палкой в руке. Старуха шла,
выискивая палкой, где не скользко. Лицо
ее показалось Софье Петровне знакомым.
Да это Кипарисова! Неужели она? Боже,
как она изменилась!
—
Мария Эрастовна! — окликнула ее Софья
Петровна.
Кипарисова
остановилась, подняла большие черные
глаза и с видимым усилием изобразила
на лице приветливую улыбку.
— Здравствуйте, Софья Петровна!
Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш,
верно, взрослый уже? — Она стояла, держа
Софью Петровну за руку, но не глядя ей
в лицо. Огромные глаза ее в смятении
бегали по сторонам.
—
Мария Эрастовна,— сердечно сказала
Софья Петровна.— Я так рада, что встретила
вас. Я слышала, у вас неприятности... с
Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы
ведь с вами друзья... Иван Игнатьевич
Колю крестил... конечно, это теперь не
считается, но мы-то ведь с вами старые
люди. Скажите, Ивана Игнатьевича обвиняют
в чем-нибудь серьезном? Неужели эти
обвинения имеют под собой какую-нибудь
почву? Я просто не могу, не могу поверить.
Такой прекрасный, такой почтенный врач!
Муж всегда уважал его и как клинициста
ставил выше себя.
— Иван
Игнатьевич ничего не сделал против
советской власти,— угрюмо сказала
Кипарисова.
— Я так и
думала! — воскликнула Софья Петровна.—
Я ни минуты в этом не сомневалась, я так
всем и говорила...
Кипарисова мрачно смотрела на нее
черными огромными глазами.
— До свиданья, Софья Петровна,— сказала
она без улыбки.
— Когда
Иван Игнатьевич вернется, зовите меня
на пирог,— проговорила Софья Петровна.—
Да что вы, право, такая расстроенная?
Раз Иван Игнатьевич не виноват, значит,
все будет хорошо. В нашей стране с честным
человеком ничего не может случиться.
Просто недоразумение. Смотрите же,
будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь
чайку выпить!
Кипарисова
зашагала по панели, постукивая палкой
о лед.
«Неужели и я так
же постарела? — думала Софья Петровна.—
Лицо черное, все в морщинах. Да нет, не
может быть, я еще не такая. Она просто
распустилась уж очень: валенки, палка,
платок... Для женщины много значит не
распускаться, следить за собой. Ну кто
теперь носит валенки? Не 18-й год. Вот и
выглядит на шестьдесят пять — а ведь
ей не больше пятидесяти... Хорошо, что
Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена
знает. Я так и думала, что это просто
недоразумение и ничего больше».
8
На
следующий день машинописное бюро спешно
кончало полугодовой отчет. Все знали,
что ночью, со «Стрелой», директор выедет
в Москву, чтобы завтра доложить о
полугодовой работе издательства
в отделе печати ЦК партии. Софья Петровна
торопила машинисток. Наташа писала, не
отрываясь, весь обеденный перерыв.
В 3 часа отчет в четырех экземплярах
лежал уже перед Софьей Петровной, и она
аккуратно раскладывала его по четырем
копиям. Не жалея зажимок, она ровненько
скалывала листы.
А
секретарша директора все не шла за
отчетом. Софья Петровна решила сама
отнести его в кабинет.
У полуоткрытых дверей директорского
кабинета она столкнулась с парторгом.—
Туда нельзя! — сказал он ей, не поклонившись,
и, хромая, прошел в другую комнату. Вид
у него был встрепанный.
Софья Петровна заглянула в полуоткрытую
дверь. Перед письменным столом на коленях
стоял незнакомый мужчина и вынимал из
тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете
был усыпан бумагами.
—
В котором часу будет сегодня товарищ
Захаров? — спросила Софья Петровна у
пожилой секретарши.
—
Он арестован,— одними губами, без голоса,
ответила ей секретарша.— Сегодня
ночью.
Губы у нее были
голубые.
Софья Петровна
понесла отчет обратно в бюро. Когда она
дошла до дверей бюро, она почувствовала,
что у нее слабеют колени.
Грохот машинок оглушил ее. Знают
они уже или не знают? Они стучали, как
будто ничего не случилось. Если бы ей
сообщили, что директор умер, она была
бы менее поражена. Она села на свое место
и начала машинально снимать зажимки с
листов. Вошел Тимофеев, открыв
дверь собственным ключом. Софья Петровна
впервые заметила, что, несмотря на
хромоту, парторг держится очень прямо
и походка у него мерная. «Простите!» —
сказала она испуганно, когда он,
проходя мимо, нечаянно задел ее
плечом.
В половине пятого
раздался наконец звонок. Софья Петровна
молча сошла с лестницы, молча оделась
и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна
остановилась перед лужей,
сосредоточенно обдумывая,
как бы ее обойти. К ней подошла Наташа.
Наташа уже знала: ей сказала Эрна
Семеновна.
— Наташа,—
начала Софья Петровна, когда они дошли
до угла, где обыкновенно прощались.—
Наташа, вы верите, что Захаров виноват
в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха...
Наташа, ведь мы-то знаем...
Она не могла подобрать слов, чтобы
выразить свою уверенность. Захаров,
большевик, их директор, которого они
видели каждый день, Захаров — вредитель!
Это была невозможность, чепуха, реникса,
как говорил когда-то Федор Иванович.
Недоразумение? Но ведь он такой видный
партиец, его знали и в Смольном, и в
Москве, его не могли арестовать по
ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!
Наташа молчала.
— Зайдемте к вам, я вам сейчас все
объясню,— сказала вдруг Наташа с
необычайной торжественностью.
Они пошли. Молча разделись. Наташа
вынула из своего старенького
портфельчика аккуратно сложенную
газету. Она развернула газету перед
Софьей Петровной и указала ей подвал
на вкладной странице.
Софья Петровна надела очки.
— Понимаете, дорогая, его могли завлечь,—
шепотом сказала Наташа.— Женщина...
Софья Петровна принялась читать.
В статье рассказывалось о некоем
советском гражданине А., честном партийце,
который был командирован советским
правительством в Германию с целью
освоить применение недавно изобретенного
химического препарата. В Германии он
честно исполнял свой долг, но вскоре
увлекся некоей С, элегантной молодой
женщиной, сочувствовавшей
якобы Советскому Союзу. С.
нередко навещала гражданина А. у него
на квартире. И вот однажды гражданин А.
обнаружил пропажу из бюро серьезных
политических документов. Квартирная
хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие
в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество
немедленно порвать связь с С., но сообщить
о пропаже документов товарищам мужества
у него не хватило. Он уехал обратно в
СССР, надеясь честной работой советского
инженера загладить свое
преступление перед Родиной.
Целый год он работал спокойно и начал
уже забывать о своем преступлении.
Однако замаскированные агенты гестапо,
проникшие в нашу страну, начали его
шантажировать. Запуганный ими А. выдал
им секретные планы того завода, на
котором работал. Доблестные чекисты
разоблачили окопавшихся агентов фашизма:
нити следствия привели к несчастному
А.
— Вы понимаете?
— шепотом спросила Наташа.— Нити
следствия... Наш директор, конечно,
хороший человек, честный партиец. Но
ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был
сначала честным партийцем... Всякого
честного партийца может опутать смазливая
женщина.
Наташа терпеть
не могла смазливых женщин. Она признавала
только строгую красоту и не находила
ее ни в ком.
—
Говорят, наш директор бывал за
границей,— вспомнила Наташа.— Тоже в
командировке. Помните, лифтерша Марья
Ивановна рассказывала, что он привез
своей жене из Берлина голубой вязаный
костюм?
Статья сильно
смутила Софью Петровну, и все-таки ей
еще не верилось. То какой-то А., а то их
Захаров. Выдержанный партиец, сам
докладывал о процессе. И при нем
издательство всегда выполняло план с
превышением.
— Наташа,
ведь мы же знаем,— устало сказала Софья
Петровна.
— Что мы знаем?
— с азартом заговорила Наташа.— Мы
знаем, что он был директором нашего
издательства, а больше ничего мы,
собственно, не знаем. Разве вам известна
вся его жизнь? Разве вы можете за него
поручиться?
И в самом
деле: Софья Петровна не имела ни малейшего
представления о том, чем был занят
товарищ Захаров, когда не председательствовал
на издательских собраниях и не водил
девочку под елкой. Мужчины — все, все
до единого — страшно любят смазливых
женщин. Какая-нибудь наглая горничная
— и та может прибрать к рукам любого
мужчину, даже порядочного. Если бы Софья
Петровна не выгнала Фани вовремя — еще
неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание
с Федором Ивановичем.
— Давайте чай пить,—
сказала Софья Петровна.
За чаем они припомнили, что фигура
Захарова отличалась военной выправкой.
Прямая спина, широкие плечи. Уж не был
ли он в свое время белым офицером? По
возрасту он вполне мог успеть.
Они пили пустой чай. Обе были так утомлены,
что поленились спуститься в магазин за
булкой или пирожными. «Завтра будет
тяжело в издательстве,— думала Софья
Петровна.— Словно покойник в доме. Что
ни говори, а жаль директора». Она вспомнила
полуоткрытую дверь кабинета и мужчину
на коленях перед столом. Она только
теперь поняла, что это был обыск.
Наташа собралась уходить. Она аккуратно
сложила газету и спрятала ее в портфель.
Потом налила себе в стакан кипятку и на
прощанье стала греть о стакан свои
большие красные руки. Они у нее были
отморожены в детстве и всегда мерзли.
Вдруг раздался звонок. И второй. Софья
Петровна пошла отворять. Два звонка —
это к ней. Кто бы это так поздно?
За дверьми стоял Алик Финкельштейн.
Видеть Алика одного, без Коли, было
противоестественно.
—
Коля?! — вскрикнула Софья Петровна,
схватив Алика за висящий конец его
шарфа.— Брюшной тиф?
Алик, не глядя на нее, медленно снимал
калоши.
— Тс-с-с!
— выговорил он наконец.— Пройдемте к
вам.
И он пошел по коридору,
ступая на цыпочках, смешно раскорячивая
свои короткие ноги.
Софья
Петровна не помня себя шла за ним.
— Вы только не пугайтесь, ради бога,
Софья Петровна,— сказал он, когда она
притворила дверь,— спокойненько,
пожалуйста, Софья Петровна, пугаться,
право, не стоит. Ничего страшного нет.
Поза-поза-поза-вчера... или когда это?
ну, перед тем выходным... Колю
арестовали...
Он сел на
диван, двумя рывками развязал шарф,
бросил его на пол и заплакал.
9
Нужно
было сейчас же бежать куда-то и разъяснить
это чудовищное недоразумение. Нужно
было сию же минуту ехать в Свердловск
и поднять на ноги адвокатов, прокуроров,
судей, следователей. Софья Петровна
надела пальто, шляпу, боты и вынула из
шкатулки деньги. Не позабыть паспорт.
Сейчас же на вокзал за билетом.
Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что,
по его мнению, ехать сейчас в Свердловск
решительно не имеет никакого смысла.
Колю, как коренного ленинградца, лишь
недавно проживающего в Свердловске,
скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не
лучше ли ей повременить с поездкой в
Свердловск? Как бы она с ним не разминулась!
Софья Петровна сняла пальто, бросила
на стол паспорт и деньги.
— Ключи? Вы оставили там ключи? —
закричала она, подступая к Алику.— Вы
оставили кому-нибудь ключи?
— Ключи? Какие ключи? — оторопел
Алик.
— Боже, какой
же вы глупый! — выговорила Софья Петровна
и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа
подбежала и обняла ее за плечи.— Да
ключ... от комнаты... в вашем, как его...
общежитии...
Они не
понимали и смотрели на нее бессмысленными
глазами. Какие дураки! А горло у Софьи
Петровны теснило, и она не могла говорить.
Наташа налила в стакан воды и протянула
ей.— Ведь он... ведь его...— говорила
Софья Петровна, отстраняя стакан,— ведь
его... уже, наверное... выпустили... увидели,
что не тот... и выпустили... он вернулся
домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас,
наверное, будет от него телеграмма.
В ботах Софья Петровна повалилась на
свою кровать. Она плакала, уткнувшись
головой в подушку, плакала долго, до тех
пор, пока и щека и подушка не стали
мокрыми. Когда она поднялась, у нее
болело лицо и кулаком стучало в груди
сердце.
Наташа и Алик
шептались возле окна.— Вот что,— сказал
Алик, жалостливо глядя на нее из-под
очков своими добрыми глазами,— мы
договорились с Натальей Сергеевной. Вы
себе ложитесь сейчас спать, а утром
идите потихонечку в прокуратуру. Наталья
Сергеевна скажет завтра в издательстве,
что вы прихворнули... или что-нибудь
еще... что у вас ночью угар был... я
знаю!
Алик ушел. Наташа
хотела остаться ночевать, но Софья
Петровна сказала, что ей ничего, ничего
не надо. Наташа поцеловала ее и ушла.
Кажется, она тоже плакала.
Софья Петровна вымыла лицо холодной
водой, разделась и легла. В темноте
трамвайные вспышки молниями озаряли
комнату. Белый квадрат света, как согнутый
пополам лист бумаги, лежал на стене и
на потолке. В комнате медицинской сестры
еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья
Петровна представляла себе, как Колю,
под конвоем, приводят к следователю.
Следователь — красивый военный, весь
в ремнях и карманах. «Вы — Николай Фомич
Липатов?» — спрашивает Колю военный.
«Я—Николай Федорович Липатов»,— с
достоинством отвечает Коля. Следователь
делает строгий выговор конвойным и
приносит Коле свои извинения. «Ба! —
говорит он,— как я сразу не узнал вас?
Да ведь вы — тот молодой инженер, портрет
которого я недавно видел в «Правде»!
Простите, пожалуйста. Дело в том, что
ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов,—
троцкист, фашистский наймит,
вредитель...»
Всю ночь
Софья Петровна ждала телеграммы.
Вернувшись домой, в общежитие, и узнав,
что Алик выехал в Ленинград, Коля
немедленно даст телеграмму, чтобы
успокоить мать. Часов в 6 утра, когда уже
снова задребезжали трамваи, Софья
Петровна уснула. И проснулась от резкого
звонка, который, казалось, был проведен
прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок
не повторился.
Софья
Петровна оделась, умылась, заставила
себя выпить чаю и прибрать комнату. И
вышла на улицу — в полумглу. По-прежнему
оттепель, но за ночь лужи подернулись
легким ледком.
Сделав
несколько шагов, Софья Петровна
остановилась. Куда, собственно, следует
идти?
Алик говорил: в
прокуратуру. Но Софья Петровна не знала
толком, что такое прокуратура, и не
знала, где она. А расспрашивать прохожих
про это место ей казалось стыдным. И она
пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому
что случайно ей было известно, что тюрьма
на Шпалерной.
У железных
ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая
парадная возле ворот была заперта. Софья
Петровна тщетно толкала дверь рукой и
коленом. И нигде не видно было ни одного
объявления.
К ней подошел
часовой.
— В девять часов
пускать будут,— сказал он.
Было без двадцати восемь. Софья Петровна
решила не уходить домой. Она прохаживалась
взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову
вверх и поглядывая на железные
решетки.
Неужели это
может быть, что Коля здесь, в этом доме,
за этими решетками?
—
Тут ходить нельзя, гражданка,— сказал
часовой.
Софья Петровна
перешла на другую сторону улицы и
машинально побрела вперед. Налево она
увидела широкую, снежную пустыню
Невы.
Она свернула по
улице налево и вышла на набережную.
Было уже совсем светло. Беззвучно, с
поразительной дружностью, на Литейном
мосту погасли фонари. Нева была завалена
кучами грязного, желтого снега. «Наверное,
сюда снег свозят со всего города»,—
подумала Софья Петровна. Она обратила
внимание на большую толпу женщин посреди
улицы. Одни стояли, облокотившись на
парапет набережной, другие медленно
прохаживались по панели и по мостовой.
Софью Петровну удивило, что все они были
очень тепло одеты: поверх пальто закутаны
в платки, и почти все в валенках и в
калошах. Они притоптывали ногами и дули
на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят,
если так замерзли,— размышляла от нечего
делать Софья Петровна,— а мороза-то
нет, снова тает». У всех этих женщин был
такой вид, будто на полустанке, много
часов подряд, они ожидали поезда. Софья
Петровна внимательно оглядела дом,
против которого толпились женщины,—
дом обыкновенный, на нем никаких вывесок.
Чего же они тут ожидают? В толпе были
дамы в нарядных пальто, были и простые
женщины. От нечего делать Софья Петровна
прошлась раза два сквозь толпу. Одна
женщина стояла с грудным ребенком на
руках и за руку держала другого,
повязанного шарфом крест-накрест. У
стены дома одиноко стоял мужчина. Лица
у всех были зеленоватые,— может быть,
это в утренней мгле они казались
такими?
К Софье Петровне
вдруг подошла маленькая опрятная
старушка с палочкой. Из-под котиковой,
низко нaдвинутой шапки сверкали серебряные
волосы и черные еврейские глаза.
— Вам список? — спросила старушка
дружелюбно.— В парадной 28.
— Какой список?
— На
«эл» и «эм»... Ах, извиняюсь, гражданка!
Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже
об арестованном.
— Да,
о сыне...— с недоумением ответила Софья
Петровна.
Отвернувшись
от старушки, неприятно поразившей ее
своей проницательностью, Софья Петровна
отправилась разыскивать парадную дома
28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда
за тем же, за чем пришла она, смутно
зашевелилась в ее душе. Но почему они
здесь, на набережной, а не возле тюрьмы?
Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять
часовой.
Дом № 28 оказался
облупленным особняком почти у самого
моста. Софья Петровна вошла в парадную
— роскошную, но грязную, с камином, с
огромным разбитым трюмо и мраморным
купидоном без одного крыла. На первой
ступеньке величественной лестницы,
подложив под спину газету, а под голову
— заиндевевший портфель, свернувшись,
лежала женщина.
—
Записываться? — спросила она, подняв
голову. Потом села и вынула из портфеля
измятую бумажку и карандаш.
— Да я, собственно, не знаю,— растерянно
произнесла Софья Петровна.— Я пришла
поговорить о сыне, которого по ошибке
арестовали в Свердловске... Понимаете
ли, просто как однофамильца...
— Говорите, пожалуйста, тише,— с
раздражением оборвала ее женщина. У нее
было интеллигентное, усталое лицо.—
Списки отбирают, и вообще... Как
фамилия?
— Липатов,—
робко ответила Софья Петровна.
— 344,— сказала женщина, записывая.— Ваш
номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.
— 344,— повторила Софья Петровна и снова
вышла на набережную. __
Толпа все росла.— Ваш какой номер? — то
и дело спрашивали Софью Петровну.— Ну,
вам сегодня не попасть,— сказала ей
одна женщина, повязанная платком
по-крестьянски.— Мы-то еще с вечера
записавшись...— Список где? — шепотом
спрашивали другие... Было уже светло:
наступил день.
И вдруг
вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна
побежала со всеми. Громко заплакал
ребенок, повязанный шарфом. У него были
кривые ножки, и он еле поспевал за
матерью. Толпа свернула на Шпалерную.
Софья Петровна издали увидала, что
маленькая дверь возле железных ворот
уже открыта. Люди протискивались в нее,
как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья
Петровна. И сразу стала: идти дальше
было некуда. В полутемной прихожей и на
маленькой деревянной лесенке толпились
люди. Толпа колыхалась. Все разматывали
платки, расстегивали вороты, и все
пробирались куда-то: каждый искал
предыдущий и последующий номер. А сзади
все напирали и напирали люди. Софью
Петровну крутило, как щепку. Она
расстегнула пальто и вытерла платком
лоб.
Переведя дыхание и
привыкнув к полутьме, Софья Петровна
тоже принялась отыскивать нужные номера:
343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная,
древняя старуха.— Ваш муж тоже латыш?
— спросила старуха, подняв на Софью
Петровну мутные глаза.— Нет, почему же?
— ответила Софья Петровна.— Почему
именно латыш? Мой муж давно умер, но он
был русский.
—
Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть
путевка? — спросила у Софьи Петровны
старушка-еврейка с серебряными волосами
— та, которая заговорила с ней на
набережной.
Софья Петровна
не ответила. Она ничего не понимала
здесь. Женщина, лежащая на лестнице,
теперь какие-то глупые вопросы о латыше,
о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей
казалось, что она не в Ленинграде, а в
каком-то незнакомом чужом городе. Странно
было думать, что в тридцати минутах
ходьбы — ее служба, издательство, Наташа
стучит на машинке...
Отыскав своих соседей, люди стояли
спокойно. Софья Петровна разглядела:
лесенка вела в комнату, и в комнате тоже
толпой стояли люди, и, кажется, за этой
комнатой была еще вторая. Софья Петровна
исподлобья поглядывала вокруг. Вот
женщина с портфелем, в шерстяных носках
поверх чулок, в плохоньких туфельках,—
это та самая, которая лежала на лестнице.
К ней и тут то и дело подходят люди, но
она уже не записывает их: поздно. Подумать
только, все эти женщины — матери, жены,
сестры вредителей, террористов, шпионов!
А мужчина — муж или брат... На вид все
они самые обыкновенные люди, как в
трамвае или в магазине. Только все
усталые, с помятыми лицами. «Воображаю,
какое это несчастье для матери узнать,
что сын ее вредитель»,— думала Софья
Петровна.
Изредка по
скрипучей узкой лесенке, с трудом
протискиваясь сквозь толпу, спускалась
женщина.— Передала? — спрашивали ее
внизу.— Передала,— она показывала
розовую бумажку. А одна, по виду молочница,
с большим бидоном в руке, ответила —
выслан! — и громко заплакала, поставив
бидон, прислонившись головой к косяку
двери. Платок пополз вниз, показались
рыжеватые волосы и маленькие серьги в
ушах.— Тише! — зашикали на нее со всех
сторон.— Он шуму не любит, закроет окно,
и все. Тише!
Молочница
поправила платок и ушла со слезами на
щеках.
Из разговоров
Софья Петровна поняла, что большинство
этих женщин пришли передать деньги
арестованным мужьям и сыновьям, а
некоторые — узнать, здесь ли муж или
сын. У Софьи Петровны кружилась голова
от духоты и усталости. Она очень боялась,
что таинственное окошечко, к которому
все стремились, закроется раньше, чем
она успеет подойти к нему.— Если сегодня
будет только до двух, нам с вами не
попасть,— сказал ей мужчина. «До двух?
Неужели до двух здесь стоять? — с тоской
подумала Софья Петровна.— Ведь сейчас
не больше десяти».
Она
закрыла глаза, стараясь осилить
головокружение. Мерно гудели тихие,
немногословные разговоры.— Вашего-то
когда взяли? — Да уж третий месяц пошел.—
А моего — две недели.— Скажите, вы не
знаете, где еще можно навести справки?
— В прокуратуре. Да нигде не говорят
ничего.— А вы на Чайковского были? А на
Герцена? — На Герцена военная.— Вашего-то
когда взяли? — У меня дочка.— А на
Арсенальной, говорят, белье принимают.—
Вы кто, латыши будете? — Нет, мы поляки.—
Вашего-то когда взяли? — Да уж полгода.—
А какие номера там идут? Двадцатые
только? Господи, боже мой, как бы он в
два не закрыл! Прошедший раз аккурат в
два захлопнул!
Софья
Петровна повторяла про себя, что она
спросит: привезли ли Колю в Ленинград?
Когда можно видеть судью — или кого
там, следователя? И нельзя ли сегодня?
И нельзя ли немедленно получить свидание
с Колей?
Через два часа
Софья Петровна, следом за древней
старухой, вступила на первую ступеньку
деревянной лестницы. Через три — в
первую комнату. Через четыре — во вторую
и через пять — следом за извивающейся
очередью — снова в первую. Из-за спин
она разглядела деревянное квадратное
окошечко и в окошечке широкие плечи и
большие руки тучного мужчины. Было 3
часа. Софья Петровна сосчитала — перед
ней еще 59 человек.
Женщины,
называя фамилию, робко протягивали в
окошечко деньги. Кривоногий мальчик
всхлипывал, облизывая языком слезы.
«Ну, уж я-то с ним поговорю,— нетерпеливо
думала Софья Петровна.— Пусть сейчас
же проведет меня к следователю, к
прокурору или к кому там... Как много еще
у нас в быту некультурности! духота,
вентиляции не могут устроить. Надо бы
написать письмо в «Ленинградскую
правду».
И вот наконец
перед Софьей Петровной осталось только
трое. На всякий случай она тоже приготовила
деньги: пусть Коля пока что не стесняет
себя. Сгорбленная старуха дрожащей
рукой передала в окошечко 30 рублей и
получила розовую квитанцию. Она
вглядывалась в нее слепыми глазами.
Софья Петровна торопливо стала на место
старухи. Она увидела молодого, тучного
человека, с белым опухшим лицом и
маленькими сонными глазками.— Я хотела
бы узнать,— начала Софья Петровна,
согнувшись, чтобы получше видеть лицо
человека за окошечком,— здесь ли мой
сын? Дело в том, что он арестован по
ошибке...
— Фамилия? —
перебил ее человек.
—
Липатов. Его арестовали по ошибке, и вот
уже несколько дней я не знаю...
— Помолчите, гражданка,— сказал ей
человек, наклоняясь над ящиком с
карточками.— Липатов или Лепатов?
— Липатов. Я хотела бы сегодня же
повидаться с прокурором или к
кому вам будет угодно меня
направить...
— Буквы?
Софья Петровна не поняла.
— Звать-то его как?
—
Ах, инициалы? Эн, эф.
—
Нэ или мэ?
— Эн, Николай.
— Липатов, Николай
Федорович,— сказал человек,
вынимая из ящика карточку.— Здесь.
— Я хотела бы узнать...
— Справок мы не даем.
Прекратите разговоры, гражданка.
Следующий!
Софья
Петровна поспешно протянула в
окошечко 30 рублей.
— Ему
не разрешоно,— сказал человек, отстраняя
бумажку.— Следующий! — Проходите,
гражданка, не мешайте работать.
— Уходите! — шептали Софье
Петровне сзади.—А то он окошко
захлопнет.
Софья Петровна
добралась до дома в шестом часу. У себя
она застала Алика и Наташу. Она опустилась
на стул и несколько минут не в силах
была снять с себя боты и пальто. Алик и
Наташа смотрели на нее вопросительно.
Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме,
на Шпалерной, и никак не могла объяснить
им, почему она не узнала, по какому делу
он арестован и когда можно будет получить
с ним свидание.
10
Софья
Петровна взяла в издательстве двухнедельный
отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в
тюрьме, разве может она думать о каких-то
бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не
поспеешь служить: с утра до ночи и с ночи
до утра надо стоять в очередях . Она
подала заявление хромому парторгу:
после ареста Захарова он был назначен
временно исполняющим обязанности
директора. Он сидел в том же кабинете,
где раньше сидел Захаров, за тем же
большим столом с телефонами; носил
он уже не косоворотку, а серенький
костюмчик из Ленинградодежды, галстучек,
воротничок — и все-таки казался
невзрачным. Софья Петровна сказала, что
отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам.
Не глядя на нее, Тимофеев долго писал
резолюцию красными чернилами. Он сказал
Софье Петровне, что замещать ее на этот
раз будет Эрна Семеновна, и приказал
сдать ей дела.— А почему не Фроленко? —
удивилась Софья Петровна.— Ведь Эрна
Семеновна малограмотна и пишет с
ошибками...— Товарищ Тимофеев ничего
не ответил и встал. Ах, не все ли равно!
Софья Петровна вышла из кабинета. Она
торопилась в очередь.
Дни и ночи ее проходили теперь не дома
и не на службе, а в каком-то новом мире
— в очереди. Она стояла на набережной
Невы, или на Чайковской — там скамейки,
можно присесть, или в огромном зале
Большого Дома, или на лестнице в
прокуратуре. Уходила домой поесть или
поспать она только тогда, когда Наташа
или Алик сменяли ее. (Алика директор
отпустил в Ленинград всего только на
одну шестидневку, но он со дня на день
откладывал свой отъезд в Свердловск,
надеясь вернуться вместе с Колей.)
Многое узнала Софья Петровна за эти две
недели — она узнала, что записываться
в очередь следует с вечера, с одиннадцати
или с двенадцати, и каждые два часа
являться на перекличку, но лучше не
уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть;
что непременно надо брать с собой теплый
платок, надевать валенки, потому что
даже в оттепель с трех часов ночи и до
шести утра будут мерзнуть ноги и все
тело охватит мелкая дрожь; она узнала,
что списки отнимают сотрудники НКВД и
того, кто записывает, уводят в милицию;
что в прокуратуру надо ходить в первый
день шестидневки и там принимают не по
буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква
7-го и 20-го (в первый раз она попала в свой
день каким-то чудом), что
семьи осужденных высылают из
Ленинграда и путевка — это направление
не в санаторий, а в ссылку; что на
Чайковской справки выдает краснолицый
старик с пушистыми, как у кота, усами, а
в прокуратуре — мелкозавитая остроносая
барышня; что на Чайковской надо предъявлять
паспорт, а на Шпалерной нет; узнала,
что среди разоблаченных врагов много
латышей и поляков — и вот почему в
очереди так много латышек и полек. Она
научилась с первого взгляда догадываться,
кто на Чайковской не прохожий вовсе, а
стоит в очереди, она даже в трамвае по
глазам узнавала, кто из женщин едет к
железным воротам тюрьмы. Она
научилась ориентироваться во всех
парадных и черных лестницах набережной
и с легкостью находила женщину со
списком, где бы та ни пряталась. Она
знала уже, выходя из дому после краткого
сна, что на улице, на лестнице, в коридоре,
в зале — на Чайковской, на
набережной, в прокуратуре — будут
женщины, женщины, женщины, старые
и молодые, в платках и в
шляпах, с грудными детьми и с трехлетними
и без детей — плачущие от усталости
дети и тихие, испуганные, немногословные
женщины,— и, как когда-то в детстве,
после путешествия в лес, закрыв глаза,
она видела ягоды, ягоды, ягоды, так
теперь, когда она закрывала глаза, она
видела лица, лица, лица...
Одного только она не узнала за эти две
недели: из-за чего Коля арестован? И кто
и когда будет его судить? И в чем его
обвиняют? И когда же наконец кончится
это глупое недоразумение и он вернется
домой? В справочном бюро на Чайковской
краснолицый старик с пушистыми усами
смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как
имя вашего сына? Вы мать? а почему жена
не пришла? не женат? Липатов, Николай?
следствие ведется»,— и выкидывал
из окошечка паспорт, и, прежде чем Софья
Петровна успевала открыть рот, механическая
дверца окошечка с треском падала сверху
вниз и раздавался звонок, означающий:
«Следующий!» С дверцей Софье Петровне
разговаривать было не о чем, и, постояв
секунду, она уходила. В прокуратуре
мелкозавитая остроносая барышня,
высовываясь из окошечка, говорила
скороговоркой: «Липатов? Николай
Федорович? Дело в прокуратуру еще не
поступало. Справьтесь через две недели».
На Шпалерной тучный, сонный мужчина
неизменно отстранял ее деньги и
произносил: «ему не разрешено». Это было
все, что она знала о Коле: другим деньги
разрешены, а ему почему-то не разрешены.
Почему? Но она уже понимала, что
расспрашивать человека в окошечке —
тщетно.
Зато она с
жадностью расспрашивала Алика про
то, как это было, как уводили Колю. И Алик
покорно рассказывал опять и опять, что
они уже спали, что вдруг раздался стук
в дверь и вошел заведующий общежитием,
а за ним комендант,
а за ним кто-то в штатском и
один военный.— Который
был час? — спрашивала Софья
Петровна.— Так, примерно, полвторого,—
отвечал Алик и рассказывал дальше:
комендант зажег свет, а штатский спросил
— кто тут Липатов, Николай? —
Коля испугался? — тревожно
перебивала Софья
Петровна.— Ни капельки,—
отвечал Алик.— Он одел белье, костюм и
просил меня завтра передать на заводе,
что его по недоразумению задержали
и он, может быть, несколько
дней прогуляет... Так пусть на участке
заменит его Яша Ройтман, это у нас
комсомолец такой...— И неужели он ничего,
ничего не взял с собою! — всплескивала
руками Софья Петровна. Алик объяснял
ей, что Коля ни за что не хотел взять
с собой ни смены белья, ни полотенца,
хотя прачка только-только принесла.
«Зачем мне? ведь я
завтра-послезавтра
вернусь».— «Сильно советую
взять»,— сказал военный. Но
Коля и ему повторил, что незачем: он
завтра вернется.
—
Вот что значит чистая совесть! — с
умилением говорила Софья Петровна.—
Но дадут ли ему там полотенце?
Алик послушно ждал Колю и день, и два, и
три и только на четвертый решился
ехать в Ленинград — выяснять обстоятельства.
Он соврал директору, будто у него мамаша
при смерти. И директор — парень свой,
хороший — отпустил.
Софья Петровна осторожно выспрашивала
Алика: не поссорился ли там Коля с
начальниками? не нагрубил ли кому? не
водился ли с кем-нибудь, кто потом
оказался вредителем? или женщина, быть
может, во что-нибудь его впутала?
— Ну, какая там женщина! — с
легким раздражением отвечал Алик.— Да
и впутаешь разве Николая? Не знаете вы
его, что ли? Про него директор так прямо
и говорил, что это будущий мировой
инженер...
Ах, конечно,
конечно, Коля ни на что дурное не способен.
Уж Софье ли Петровне не знать, что это
за сердце, какая голова, как он предан
советской власти и партии. Но ведь и без
причины ничего не бывает. Коля еще молод,
не жил один на свете. Восстановил там
кого-нибудь против себя. Надо уметь
обходиться с людьми. И Софья Петровна
с неприязнью взглядывала на Алика:
недосмотрел. Вот если бы Коля остался
в Ленинграде, у матери на глазах, ничего
бы с ним не случилось. Не надо было
отпускать его в Свердловск.
Но и так, и так ничего не может худого
случиться, уговаривала себя Софья
Петровна. Каждый час, каждую минуту
ждала она Колю домой. Уходя в очередь,
она всегда оставляла ключ от своей
комнаты в коридоре, на полочке, в старом,
условленном месте. Она даже суп горячий
оставляла для него в духовке. И,
возвращаясь, поднималась по лестнице
торопливо, без передышек, как когда-то
навстречу письму: вот она сейчас войдет
в свою комнату, а Коля, оказывается, дома
и никак не может понять, куда же
запропастилась мама?
Одна женщина — в очереди— говорила
прошлой ночью другой — Софья Петровна
слышала: «Жди его, вернется! Кто сюда
попал — не вернется». Софья Петровна
хотела было ее оборвать, но не стала
связываться. У нас невиновных не держат.
Да еще таких патриотов советских, как
Коля. Разберутся и выпустят.
Однажды вечером Алик, уговорив Софью
Петровну полежать хоть часок, надел уже
свою куртку, обмотал шею шарфом и
простился: было 19-е, он шел занимать
очередь на Шпалерной.— Я приду не позже
двух,— сказала ему Софья Петровна с
кровати слабым голосом.— Софья Петровна,
хоть в пять,— ответил он бодро и вышел
за дверь. Но почему-то вернулся. Он
подошел к Наташе, сидевшей у окна с
вязаньем в руках.— Как вы себе мыслите,
Наталья Сергеевна,— спросил он, прямо
глядя на нее из-под очков блестящими
глазами,— там, в тюрьме, все такие же
виноватые, как Коля? Что-то в очереди
все мамаши сильно смахивают на Софью
Петровну.
—
Не знаю,— ответила, по своему новому
обыкновению, Наташа.
Наташа и прежде была молчалива, но с тех
пор, как арестовали Колю, она почти что
совсем лишилась дара речи. На вопросы
она отвечала: «да», «нет» или «не знаю».
Казалось, спроси ее, как ее зовут, и она
тоже ответит: «не знаю». Свободное от
службы время она проводила у Софьи
Петровны — стряпала обед, мыла посуду,
подавала воду с валерьянкой — или в
очереди. И все это не открывая рта.
— Что вы, Алик,— тихо сказала Софья
Петровна.— Как вы можете сравнивать!
Ведь Колю-то арестовали по недоразумению,
а других... Вы что, газет не читаете?
— Э, что газеты,— ответил Алик и
вышел.
В газетах как раз
появились признания подсудимых на суде.
Вчера в очереди Софья Петровна прочла
целый лист из-за плеча стоящего перед
ней мужчины. У нее болели ноги, ныло
сердце, но газета была такая интересная,
что, вытянув шею, она прочла ее всю.
Подсудимые подробно рассказывали про
убийства, про отравления, про взрывы —
и Софья Петровна была возмущена вместе
с прокурором. «Это как называется? » —
со сдержанным негодованием спрашивал
у подсудимого прокурор. «Подлость!» —
сокрушенно отвечал
подсудимый.
Нет, Софья
Петровна недаром сторонилась своих
соседок в очередях. Жалко их, конечно,
по-человечеству, особенно жалко ребят,—
а все-таки честному человеку следует
помнить, что все эти женщины — жены и
матери отравителей, шпионов и убийц.
11
Прошло
две недели. Алик уехал обратно в Свердловск
на завод. Софья Петровна приступила к
работе в издательстве, так ничего и не
разузнав о Коле.
Женщины
в очереди объяснили ей, что дело, по всей
вероятности, в конце концов поступит в
прокуратуру, а когда дело поступит в
прокуратуру — можно будет пройти к
прокурору. Он принимает не через окошечко,
а за столом, и ему можно все рассказать.
А пока что оставалось одно — ходить на
службу, подсчитывать строчки, улыбаться,
распределять работу и под стук и звон
машинок неустанно думать о Коле. Коля
сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди
бандитов, шпионов и убийц. В камере. На
запоре.
Стараясь
представить себе тюрьму и Колю в тюрьме,
она неизменно представляла себе картину,
изображающую княжну Тараканову: темная
стена, девушка с растрепанными волосами
прижимается к стене, вода на полу,
крысы... Но в советской тюрьме все,
конечно, совсем не так.
Алик на прощанье посоветовал ей никому
не говорить о Колином аресте.—Мне нечего
стыдиться Коли! — начала было гневно
Софья Петровна, но потом согласилась с
Аликом: другие-то ведь не знают Колю и
могут невесть что вообразить. И ни на
службе, ни в квартире она никому ничего
не рассказала — только жене Дегтяренко,
которая однажды застала ее плачущей в
ванной. Жена Дегтяренко сочувственно
вздохнула.— Что ж плакать-то, может, еще
и вернется,— сказала она.— То-то, я
смотрю, вы и днем и ночью бегаете, лица
на вас нет.
Прошло 5
месяцев со дня ареста Коли — зима уже
сменилась весною и весна беспощадно
жарким июнем — а Коли все не было. Софья
Петровна изнемогала от жары, от ожидания,
от ночных очередей. 5 месяцев, 3 недели
и 4 дня, и 5 дней, и 6 дней... 5 месяцев и 4
недели. А Коля все не возвращался, деньги
ему все были «не разрешены», и на службе
у Софьи Петровны вдруг начались
неприятности. Неприятности одна за
другой.
Виновницей
неприятностей была Эрна Семеновна.
Когда Софья Петровна
вернулась на службу после двухнедельного
отпуска, Эрну Семеновну оставили при
ней помощницей: вычитывать переписанные
рукописи. Софья Петровна полагала, что
помощи от нее никакой: сама неграмотна!
как она чужие ошибки исправит? но против
распоряжения Тимофеева не пойдешь. И
Эрна Семеновна вычитывала, а Софья
Петровна молчала.
И вот
однажды хмурый товарищ Тимофеев,
позванивая ключами — он теперь всегда
носил при себе все ключи от всех столов
и от всех комнат,— остановил Софью
Петровну в коридоре и попросил ее послать
к нему после работы Фроленко. Софья
Петровна послала Наташу к нему в кабинет,
а сама осталась ждать ее в раздевалке,
недоумевая, что бы могло товарищу
Тимофееву понадобиться от Наташи.
Наташа вернулась довольно скоро. Серое
лицо ее было бесстрастно, только губы
будто немного дрожали. «Меня уволили»,—
сказала она, когда они вышли на улицу.
Софья Петровна остановилась.
— Эрна Семеновна показала
парторгу мою вчерашнюю работу. Помните,
большая статья о Красной Армии. У меня
в одном месте написано Крысная Армия
вместо Красная.
—
Но позвольте,— сказала Софья Петровна,—
ведь это простая описка. С чего вы взяли,
что вас завтра уволят? Всем известно,
что вы лучшая машинистка в бюро.
— Он сказал: уволят за отсутствие
бдительности.— Наташа пошла вперед.
Солнце било ей прямо в глаза, но она не
опускала глаз.
Софья
Петровна привела ее к себе, напоила
чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля
жил благополучно в Свердловске, Софья
Петровна не мучилась от того, что его с
ней не было. Так, скучала немножко. А
теперь каждая вещь в комнате вопила
Софье Петровне в лицо, что Коли нету. На
подоконнике одиноко чернела его
шестеренка.
— Завтра я
еще приду в издательство, но в последний
раз,— сказала Наташа, прощаясь.
— Не говорите глупостей! — прикрикнула
на нее Софья Петровна.— Не может этого
быть.
Но оказалось, что
может. На следующий день на стене, в
коридоре, висел приказ об увольнении
Н. Фроленко и Е. Григорьевой — бывшей
секретарши директора. Мотивировкой
увольнения Фроленко служило отсутствие
политической бдительности,
увольнения секретарши — связь с
разоблаченным врагом народа, бывшим
директором Захаровым.
Рядом с приказом висел большой плакат,
извещающий, что сегодня, в пять часов
дня, состоится общее собрание всех
работников издательства. Повестка дня:
1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве
на издательском фронте. 2) Разное. Явка
обязательна.
Наташа,
собрав свой портфельчик, сразу после
звонка ушла, сказав всем вместе: «До
свиданья».— «Всего хорошего»,— хором
ответили ей машинистки, одна только
Эрна Семеновна не ответила: она поправляла
прическу, ловя свое отражение в стекле
окна. У Софьи Петровны было тяжело на
душе. Она проводила Наташу до самой
раздевалки.— Приходите вечером,—
сказала она ей на прощанье.
Предместкома уже созывала всех в кабинет
директора. Лифтерша Марья Ивановна
вносила стулья. Софья Петровна вошла и
села в первом ряду. Она чувствовала себя
испуганной и одинокой. Зажгли верхний
свет, задернули тяжелые шторы. Входили
и рассаживались служащие. На всех лицах
приметно было какое-то жадное и тревожное
любопытство.— Что же вам, товарищи,
особое приглашение посылать надо, что
ли? — кричала в редакционном секторе
предместкома.
Тимофеев
стоял у стола, сосредоточенно перебирая
бумаги.
Предместкома
объявила собрание открытым. Лениво
поднимая руки, ее единогласно выбрали
председательницей. Товарищ Тимофеев
откашлялся.
— Мы, товарищи,
собрались сегодня для важного дела,—
начал он,— для того, чтобы кон-стан-тировать
в нашем издательстве преступное
притупление бдительности и сообща
обдумать, как нам ликвидировать его
последствия. (Он говорил на этот раз
уверенно, гладко, он даже почти не
запинался.) В течение целых пяти лет тут
у нас, перед самым носом, если можно так
выразиться, у нашей общественности
подвизался ныне разоблаченный враг
народа, злостный бандит, террорист и
вредитель, бывший директор Захаров.
Захаров уже лишен возможности вредить.
Но в свое время он привел с собою целый
хвост своих людишек, свою, с позволения
сказать, свиту, которая вместе с ним
образовала тут плотное гнездо и всячески
способствовала ему в его грязных
троцкистских махинациях. К стыду нашей
общественности, захаровская свита не
ликвидирована до сих пор. Вот тут передо
мной,— он развернул бумаги,— вот тут
передо мной находятся документальные
данные, которые документально подтвердят
вам об их грязном контрреволюционном
деле.
Тимофеев замолчал
и налил себе воды.
—
Что показывают эти документы? — начал
он снова, утерев рот ладонью.— Вот этот
документ неопровержимо показывает, что
в тридцать втором году, по личному
распоряжению директора, без увязки с
месткомом и отделом кадров, по личному,
я повторяю, распоряжению директора,
была принята на работу некто Н.
Фроленко.
Софья Петровна
вся съежилась на стуле, будто заговорили
о ней.
— А кто
такая Фроленко? Она — дочь полковника,
владевшего в старое время так называемым
поместьем. Что же, спрашивается, делала
в нашем советском издательстве гражданка
Фроленко, дочь чуждого элемента, принятая
на работу бандитом Захаровым? Об этом
нам расскажет другой документ. Под
крылышком у Захарова гражданка
Фроленко научилась чернить нашу любимую
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию,
устраивать контрреволюционные вылазки:
она называет Красную Армию — Крысиной
Армией...
У Софьи Петровны
пересохло во рту.
—
А бывшая секретарша Григорьева? Это —
верная подручная директора, которой он
вполне мог доверять во всей своей, с
позволения сказать, деятельности... Как
же могло случиться, чтобы вредитель и
его прихвостни целые пять лет нагло
морочили советскую общественность?
Это, товарищи, могло объясняться только
одним: преступным притуплением
политической бдительности.
Товарищ Тимофеев сел и принялся пить
воду. Софья Петровна с жадностью смотрела
на воду: такая сушь была у нее во рту и
в горле. Предместкома резко зазвонила
в звонок, хотя все молчали и никто не
шевелился.
—
Кто хочет высказаться? — спросила
она.
Молчание.
— Товарищи, кто просит слова?
— еще раз спросила предместкома.
Молчание.
—
Неужели никто не хочет сказать пару
слов по такому жгучему вопросу?
Молчание. И вдруг — громкий голос от
дверей, на который все повернули
головы.
Это была лифтерша
Марья Ивановна. До сих пор она ни разу
не выступала ни на одном собрании. И
вообще мало кто в издательстве слыхал
ее голос.
—
Пожалуйста, просим, просим, товарищ
Иванова!
Лифтерша, грузно
шагая, подошла к столу.
— Вот я тоже хочу сказать свое
пролетарское слово. Тут насчет секретарши,
это, граждане, правильно. Как, бывало,
войдет в лифт в калошах — наследит,
наследит — а ты вытирай за ей. Она
наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози,
да еще вниз норовит на лифте съехать.
Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз
ее спускай. А как ее не спустишь, когда
она все норовит к директору присуседиться?
Куды он, туды и она. Он в лифт — и она за
им в лифт, он в машину — и она рядышком
в машину. Это верно, что они в одну руку
работали... Только я хочу и товарищу
Тимофееву сказать — по-нашему, по-простому,
по-пролетарскому — сколько разов ему,
бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню!
а ему хоть бы хны! никакого внимания не
оказывал — махнет рукой и пойдет.
Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша
маленький человек, не понимает? Ошибаетесь!
Нонче не старое время! при советской
власти маленьких нет, все большие.
— Правильно, товарищ Иванова,
правильно,— сказала Анна Григорьевна.—
Кто еще, товарищи, просит слова?
Молчание.
—
Можно мне,— тихо попросила Софья
Петровна.
Она встала, потом
села опять.— Я хотела всего
несколько слов, насчет Фроленко...
Конечно, это ужасно, ужасно, то, что она
написала... но ведь у каждого в работе
бывают ошибки, не правда ли? Она написала
не «Красная», а «Крысная»
просто потому, что в машинке — это все
машинистки знают — буква «ы» находится
неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев
говорил, что она
написала крысиная, но
ведь она написала крысная —
а это немного не
то... это не имеет
нехорошего смысла. Просто
описка. Фроленко — высокой квалификации
работник и очень старательная. Это
просто случайность.
Софья Петровна смолкла.
—Будете отвечать? — спросила у Тимофеева
предместкома.
—Доку́менты,—
отозвался из-за стола Тимофеев и постучал
косточками пальцев по бумагам,— против
документов не пойдешь, товарищ Липатова.
Крысная или крысиная — это значения не
имеет. Классово-враждебная вылазка со
стороны гражданки Фроленко налицо.
— Кто-нибудь еще хочет слова?..
Объявляю собрание закрытым.
Люди быстро расходились, торопясь домой.
У вешалки, в раздевалке, уже слышны были
разговоры: о том, что 5-й номер трамвая
редко ходит и что в детском отделе
Пассажа появились прекрасные рейтузы.
Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну
покататься на лодке.
— Да ну вашу лодку! — говорила
она, протягивая к зеркалу губы, как бы
для поцелуя.— Вот в кино бы сходить.
О собрании, о вредительстве — никто ни
слова.
Софья Петровна
быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей
казалось, что когда она придет в свою
комнату и закроет дверь —голова
перестанет болеть, все кончится, ей
будет хорошо. В висках у нее стучало.
Почему это так болит голова? — ведь на
собрании, кажется, не курили. Бедная
Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная
машинистка, и вдруг...
В
комнате, на Колином столике, лежала
записка:
«Уважаемая
Софья Петровна! Я опять приехал. Яша
Ройтман подал на меня заявление в
комсомол, что я был связан с Николаем.
Меня исключили из комсомола, благодаря
тому что я отказался отмежеваться от
Николая, и сняли с работы. Очень тяжело
быть исключенным из рядов. Подойду
завтра. Ваш Александр Финкельштейн».
Софья Петровна повертела записку в
руках. Боже мой, сколько неприятностей
сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь
с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват:
наговорил там чего-нибудь на собрании.
Он стал такой резкий. В день его отъезда,
когда она опять спросила его осторожненько,
не водился ли Коля с худыми людьми, он
весь покраснел, как-то вжался в стенку
и закричал на нее: «Да вы понимаете, что
вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем
не виноват, вы что — сомневаетесь, что?»
Конечно, на самом деле ни в чем, смешно
говорить об этом, но ведь подал же Коля
какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное,
на собрании Алик надерзил начальству.
Разумеется, он должен был заступиться
за Колю — но как-нибудь осторожно,
тактично, выдержанно...
У Софьи Петровны болела голова. Собрание
для нее будто еще не кончилось. В ушах
звучал голос Тимофеева. У нее теснило
в груди — ей казалось, что это голос
Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет,
не то. Она решила принять ванну.
Что-то было такое в словах Тимофеева,
от чего она вся цепенела. Ей казалось,
что, если принять ванну, это сразу
пройдет. Она сама принесла дров из чулана
и затопила колонку. Раньше дрова ей
всегда приносил Коля, потом стал носить
Алик, а после вторичного отъезда Алика
в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот
Алик! Он, конечно, хороший мальчик и
предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя
так, сплеча. Не из-за его ли резкости
и Коля сидит? Один раз в очереди, на
Шпалерной, когда она сказала Алику, что
деньги для Коли опять не приняли, он
громко воскликнул: «бюрократы проклятые!»
Он и в Свердловске, на заводе, так
же мог себя держать.
Софья Петровна пустила воду, разделась
и села в ванну — в белую широкую ванну,
купленную еще Федором Ивановичем. Мыться
ей не хотелось. Она лежала неподвижно,
закрыв глаза. Как она теперь будет на
службе без Наташи? И все эта Эрна
Семеновна! Бывают же на свете такие
завистливые, злые люди! Ну ничего, Наташа
поступит на другое место, где-нибудь
неподалеку, и они будут часто видеться.
Скорее бы Коля вернулся.
Она лежала, глядя на свои руки, измененные
водой. Неужели секретарша директора
была вредительницей? Лучше не думать
об этом. Какой сегодня тяжелый день.
Собрание по-прежнему теснило ей грудь.
Она лежала с закрытыми глазами, в тепле
и покое.
На кухне кто-то
потушил примус, и сразу стали слышны
голоса и грохот посуды. Медицинская
сестра, по обыкновению, произносила
какие-то колкости.
— Я
пока еще не сумасшедшая и не без глаз,
— медленно говорила она. — Керосину я
третьего дня самолично приобрела три
литра. А теперь тут капля на донышке,
коту под хвост. С некоторых пор ничего
невозможно на кухне оставить.
— Кто у вас керосин брать будет? — басом
отозвалась жена Дегтяренко. По голосу
слышно было, что она стоит согнувшись
— моет пол или плиту растапливает. — У
всех своего керосина хватает. Я, что ли?
— Я не о вас говорю. В
квартире кроме вас люди живут. Если уж
один член семьи в тюрьме — то от остальных
всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму
не посадят.
Софья Петровна
замерла.
— Что ж, что сын
в тюрьме, — сказала жена Дегтяренко. —
Посидит, да и выпустят. Он не карманник
какой-нибудь, не вор. Образованный
молодой человек. Мало ли теперь кого
сажают. Муж говорит, многих теперь берут
порядочных. А про него и в газете писали.
Знаменитый ударник был.
— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот
и все, — сказал Валин голос.
— Овечка какая невинная нашлась, —
снова заговорила медицинская сестра.
— Нет уж, извините, пожалуйста, зря у
нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня
же вот не посадят? А почему? Потому, что
я женщина честная, вполне советская.
Софье Петровне сделалось холодно в
ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула
халат и на цыпочках прошла в свою комнату.
Она улеглась под одеяло и сверху, на
ноги, положила подушку. Но дрожь не
унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела
прямо перед собой в темноту.
Ночью, часа в два, когда все уже спали,
она встала, накинула на рубашку пальто
и пробралась в кухню. Она взяла свою
керосинку, свой примус, свои кастрюли
и все перенесла к себе в комнату.
Заснула она только под утро.
12
На
другой день у дверей издательства ее
поджидал Алик. Оказалось, что он и Наташа,
ничего не сказав ей, чтобы она не
беспокоилась зря, с утра заняли очередь
в прокуратуре. Они стояли шесть часов,
сменяя друг друга, и полчаса назад
барышня в окошечке сказала им, что дело
Николася Липатова находится у прокурора
Цветкова. Тогда он и заняли для Софьи
Петровны очередь к прокурору Цветкову.
В комнату № 7.
Алик
уговаривал Софью Петровну зайти домой
пообедать, но она боялась пропустить
очередь и шагала быстро, изо всех сил.
Она шла спасать Колю. От того, что она
скажет сейчас прокурору, зависит Колина
судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу
обдумывала свою речь. Она расскажет
прокурору о том, как Коля мальчиком
вступил в комсомол, почти что против
воли матери; как старательно он учился
и в школе и в вузе, как его ценили на
заводе, как его похвалила ЦО «Правда».
Он был замечательным инженером, честным
комсомольцем, заботливым сыном. Разве
такого человека можно заподозрить во
вредительстве или в контрреволюции?
Какой вздор, какое дикое предположение!
Она, его старая мать, свидетельствует
перед судьями, что это неправда.
Алик распахнул тяжелую дверь, и она
вошла.
За последнее время
Софья Петровна много перевидала очередей,
но такой еще не видывала. Люди стояли,
сидели, лежали на всех ступеньках, на
всех площадках, на всех подоконниках
огромной пятиэтажной лестницы.
По этой лестнице невозможно было
подняться, не наступив кому-нибудь на
руку или на живот. В коридоре, возле
окошечка и возле дверей комнаты № 7,
плотно, как в трамвае, стояли люди. Это
были те счастливцы, которые уже простояли
лестницу. Наташа горбилась у стенки под
большим плакатом: «Выше знамя революционной
законности!» Добравшись до нее, Софья
Петровна и Алик остановились и вместе
тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие
очки и начал протирать их пальцами.
— Ну, я пошла,— сразу сказала
Наташа,— вы будете вот за этой дамой.
Софье Петровне хотелось рассказать
Наташе про вчерашнее собрание и про то,
как она выступила в ее защиту, но Наташина
спина уже мелькала далеко, возле
лестницы.
—
Плохие дела Наталии Сергеевны,— сказал
Алик, кивнув подбородком вслед Наташе,—
на работу ее нигде не берут. Вроде как
меня.
Оказалось, что
Наташа успела уже побывать в нескольких
учреждениях, где требовались машинистки,
но никуда ее не приняли, справившись на
месте предыдущей работы. Алик тоже,
прямо с вокзала, зашел в одно конструкторское
бюро, но, узнав, что он исключен из
комсомола, с ним и разговаривать не
стали.
— Волчий паспорт,
так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы!
И откуда это вдруг столько сволочи всюду
набралось? — сказал Алик.
— Алик! — укоризненно произнесла Софья
Петровна.— Разве так можно? Вот, вот, за
резкость вас и из комсомола исключили.
— Не за резкость, Софья Петровна,—
ответил Алик, и губы у него задрожали,—
а за то, что я не пожелал отречься от
Николая.
— Да
нет же, Алик,— мягко сказала Софья
Петровна, прикасаясь к его рукаву.— Вы
молоды еще, уверяю вас, вы ошибаетесь.
Все зависит только от такта. Вот я вчера
на собрании защищала Наталию Сергеевну.
И что же? ничего мне за это не сделали.
Поверьте, меня замучила история с Колей.
Я мать. Но я понимаю, что это временное
недоразумение, перегибы, неполадки...
надо перетерпеть. А вы уже сразу: негодяи!
мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил
— у нас еще много несовершенного и
бюрократического.
Алик
молчал. На лице у него застыло упорное,
упрямое выражение. Он был небритый,
осунувшийся, с синевой под глазами. И
глаза смотрели из-под очков по-новому:
сосредоточенно и угрюмо.
— Я уже подал заявление в
райком. А если и там не восстановят меня
— в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола,—
сказал он.
«Бедняга! —
думала Софья Петровна.— Трудно ему
будет, пока он без работы. Тетка, верно,
уже сейчас попрекает его». И Софья
Петровна, наклонившись к Алику, прошептала:
«Вот выпустят Колю — вас и восстановят
сразу». И улыбнулась ему. Но Алик не
улыбнулся в ответ.
А до
дверей прокурора все еще было далеко.
Софья Петровна сосчитала человек сорок.
Туда входили по двое — так как в комнате
№ 7 принимал не один, а сразу два прокурора
— и все-таки очередь двигалась медленно.
Софья Петровна разглядывала лица — ей
казалось, что большинство этих женщин
она уже видела раньше — на Шпалерной,
или на Чайковской, или здесь же, в
прокуратуре, возле окошечка. Возможно,
что это те самые, а может быть, и другие.
У всех женщин, стоящих в тюремных
очередях, есть что-то одинаковое в лицах:
усталость, покорность и, пожалуй, какая-то
скрытность. Многие держали в руках белые
бумажки — Софья Петровна знала уже, что
это и есть «путевки» в ссылку. В здешней
очереди слышны были все время три
вопроса: «вы куда?», или «вы когда?», или
«у вас была конфискация?».
Софья Петровна прислонилась к стене и
на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная,
какая злая и глупая женщина — жена
бухгалтера! Вообразить, что Коля —
вредитель! Ведь она его с детства знала.
Софья Петровна теперь никогда, никогда
не переступит порога кухни. До тех пор,
пока медсестра не попросит у нее прощения.
Можно себе представить, как станет ей
стыдно, когда Коля вернется! Софья
Петровна все расскажет Коле — про его
замечательных друзей, Наташу и Алика
(без них ей ни за что не справиться было
бы с очередями), и про эту змею, жену
бухгалтера. Пусть он знает, какие
встречаются на свете мерзавки.
Открыв глаза, Софья Петровна обратила
внимание на маленькую девочку, сидевшую
на корточках возле стены. Девочка была
в пальто, застегнутом на все пуговицы.
«Как это у нас привыкли всегда кутать
детей,— подумала Софья Петровна,— даже
летом». И вдруг, вглядевшись, она узнала
девочку: это была маленькая дочка
директора Захарова. Девочка ерзала
спиной по стене и хныкала, изнывая от
жары. А высокая стройная дама в светлом
костюме, за которой вот уже час стояли
Софья Петровна и Алик,— это была жена
директора. Конечно, она.
— Ну что, цела еще твоя дудочка?
— ласково спросила Софья Петровна,
наклоняясь к ребенку.— Или кисточку ты
уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай
я тебе ворот расстегну.
Девочка молчала, глядя на Софью Петровну
круглыми глазами и дергая за руку
мать.
— Что же ты? Отвечай
тете! — сказала жена директора.
— Я знала вашего мужа,— обратилась к
ней Софья Петровна.— Я работаю в
издательстве.
— А! —
сказала жена директора и как-то болезненно
скривила губы. Губы у нее были подкрашены,
но не по губам, а выше и ниже. Безусловно,
красивая женщина — но теперь она уже
не казалась Софье Петровне такой нарядной
и молодой, как полгода тому назад, когда
она приходила на минутку в издательство
к мужу и в коридоре приветливо отвечала
на поклоны служащих.
—
Ну что ваш муж? — осведомилась Софья
Петровна.
— 10 лет дальних
лагерей.
«Значит, он-таки
был виноват. Вот уж никогда б не сказала.
Такой приятный человек»,— подумала
Софья Петровна.
—
А меня вот с ней в Казахстан — в деревню
или в аул, как там... Завтра ехать. Там я
с голоду подохну без работы.
Она говорила громко, резким голосом, и
все оглядывались на нее.
— А куда направили вашего мужа? —
спросила Софья Петровна, чтобы переменить
разговор.
— А я почем
знаю, куда. Разве они скажут, куда.
— Но как же вы потом... через 10 лет... когда
он освободится... найдете друг друга? Вы
не будете знать его адреса, а он —
вашего.
— А вы думаете,—
сказала жена директора,— что хоть одна
из них,— она махнула рукой на толпу
женщин с «путевками»,— знает, где ее
муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут,
или сегодня увозят, жена тоже уезжает
к черту в тарр-тарр-рары и понятия не
имеет, как она потом найдет своего мужа.
Откуда же мне-то знать? Никто не знает,
и я не знаю.
— Надо
проявить настойчивость,— тихо ответила
Софья Петровна.— Если здесь не говорят,
надо написать в Москву. Или поехать в
Москву. А то как же так? Вы же потеряете
друг друга из вида.
Жена
директора смерила ее взглядом с ног до
головы.
— А у вас кто?
Муж? Сын? — спросила она с такой
энергической яростью, что Софья Петровна
невольно подвинулась поближе к Алику.—
Ну так вот, когда вашего сына отправят
— тогда и проявите настойчивость,
разузнайте его адрес.
—
Моего сына не отправят,— извиняющимся
голосом сказала Софья Петровна.— Дело
в том, что он не виноват. Его арестовали
по ошибке.
— Ха-ха-ха! —
захохотала жена директора, старательно
выговаривая слоги.— Ха-ха-ха! По ошибке!
— и вдруг слезы полились у нее из глаз.—
Тут, знаете ли, все по ошибке... Да стой
же ты, наконец, хорошенько! — крикнула
она девочке и наклонилась к ней, чтобы
скрыть слезы.
Между
дверьми и Софьей Петровной стояли пять
человек. Софья Петровна повторяла про
себя слова, которые сейчас она скажет
прокурору. Она со снисходительной
жалостью думала о жене директора. Хороши
мужья, нечего сказать! Натворят бед, а
жены мучайся из-за них. Едет теперь
в Казахстан, с ребенком, да еще очереди
эти — тут поневоле нервная сделаешься.
— Знаете, я пойду с вами,— сказал
вдруг Алик.— В качестве сослуживца и
друга. Я расскажу товарищу прокурору,
что в Николае мы имеем кристально чистого
человека, несгибаемого большевика. Я
расскажу ему о применении на нашем
заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны
исключительно изобретательности
Николая.
Но Софья Петровна
не хотела, чтобы Алик шел к прокурору.
Она боялась его резкости: надерзит и
все дело испортит. Нет, уж лучше она
пойдет одна. Она уверила Алика, будто
посторонних прокурор не принимает.
Наконец настала ее очередь. Жена директора
открыла дверь и вошла. Следом за нею, с
замирающим сердцем, вошла Софья
Петровна.
У двух
противоположных стен большой пустой
полутемной комнаты стояли два письменных
стола и перед ними — два ободранных
кресла. За столом направо сидел полный
белотелый человек с голубыми глазами.
За столом налево — горбун. Жена директора
с девочкой подошла к белотелому, Софья
Петровна — к горбатому. Она уже давно
слыхала в очередях, что прокурор Цветков
— горбатый.
Цветков
разговаривал по телефону. Софья Петровна
опустилась в кресло.
Цветков был маленького роста, худой, в
синем засаленном костюме. Головка
остренькая, а горб большой, круглый.
Длинные кисти рук и пальцы поросли
черным волосом. Трубку от телефона он
держал как-то не на человечий, а на
обезьяний манер. Он вообще показался
Софье Петровне до такой степени похожим
на обезьяну, что она невольно подумала:
если ему захочется почесать за ухом,
он, наверное, сделает это ногой.
— Федоров? — кричал Цветков
в трубку охрипшим голосом.— Это Цветков,
здоро́во. Скажи там Пантелееву, что я
уже все провернул. Пусть пришлет. Что?
Я говорю — пусть пришлет.
А за другим столом белотелый
полный человек с ясными фарфоровыми,
кукольными глазами и маленькими, пухлыми,
дамскими ручками вежливо беседовал с
женою директора.
—
Я прошу переменить мне село на какой-нибудь
город,— отрывисто говорила она, стоя
перед столом и держа за руку девочку.—
В селе я окажусь без работы. Мне не на
что будет кормить ребенка и мать. По
профессии я стенографистка. В селе
стенографировать нечего. Я прошу послать
меня не в село, а в город, хотя бы
и в том же самом — как его? —
Казахстане.
— Садитесь,
гражданка,— ласково сказал ей
белотелый.
— Вам что? —
спросил Софью Петровну Цветков, оставив
телефон и мельком взглядывая на нее
маленькими черными глазками.
— Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он
арестован по недоразумению, по ошибке.
Мне сказали, что его дело находится у
вас.
— Липатов? —
переспросил Цветков, припоминая.—10 лет
дальних лагерей. (И он снова снял трубку
с телефона.) — Группа А? 244-16.
— Как? Разве его уже судили? — вскрикнула
Софья Петровна.
— 244-16?
Морозову позовите.
Софья
Петровна смолкла, придерживая сердце
рукой. Сердце стучало медленно, редко
и громко. Стук отдавался в ушах и в
висках. Софья Петровна решила дождаться,
пока Цветков кончит наконец говорить
по телефону. Она с испугом смотрела на
его длинные волосатые кисти, на усыпанный
перхотью горб, на небритое желтое лицо.
Терпение, терпение. И слушала стук своего
сердца: в висках и в ушах.
А за противоположным столом белотелый
прокурор мягко говорил жене директора:
— Напрасно вы расстраиваетесь,
гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как
представитель законности, я обязан
напомнить вам, что великая Сталинская
Конституция обеспечивает право на труд
всем без различия. Поскольку никаких
гражданских прав вас никто не лишает —
право на труд остается вам обеспеченным,
где бы вы ни жили.
Жена
директора порывисто встала и пошла к
дверям. Девочка мелкими, сбивчивыми
шажками бежала за нею.
— Вы еще здесь? Чего ж вам
надо? — грубо спросил Цветков, положив
наконец трубку.
— Я
хотела бы знать, в чем мог провиниться
мой сын,— спросила Софья Петровна,
напрягая все силы, чтобы голос у нее не
дрожал.— Он всегда был безупречным
комсомольцем, честным гражданином...
— Сын ваш сознался в своих
преступлениях. Следствие располагает
его подписью. Он террорист и принимал
участие в террористическом акте. Вам
понятно?
Цветков выдвигал
и задвигал ящики письменного стола.
Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были
пустые.
Софья Петровна
мучительно вспоминала: что она еще
хотела сказать? Но она все забыла. Да и
в этой комнате, перед этим человеком,
все слова были тщетными. Она поднялась
и побрела к дверям.
—
Как же я узнаю теперь, где он? — спросила
она от дверей.
— Это меня
не касается.
В коридоре
ее ожидал верный Алик. Молча протискались
они сквозь толпу по коридору, потом по
лестнице. Молча вышли на улицу. На улице
звенели трамваи, блестело солнце,
толкались прохожие. Душному летнему
дню еще далеко было до конца.
— Ну что, Софья Петровна, что? — тревожно
спросил Алик.
— Осужден.
В дальние лагеря. На 10 лет.
— Шутите! — вскрикнул Алик.— За что
же?
— Участвовал в
террористическом акте.
— Колька — в террористическом акте?!
Бред!
— Прокурор говорит:
он сам сознался. Следствие располагает
его подписью.
Слезы
ручьем текли по щекам Софьи Петровны.
Она остановилась у стены, схватившись
за водосточную трубу.
— Колька Липатов — террорист! —
захлебываясь, говорил Алик.— Сволочи,
вот сволочи! Да это же курам на смех!
Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать
так: все это какое-то колоссальное
вредительство. Вредители засели в НКВД
— вот и орудуют. Сами они там враги
народа.
— Но ведь
Коля сознался, Алик, сознался, поймите,
Алик, поймите...— плача, говорила Софья
Петровна.
Алик твердо
взял Софью Петровну под руку и повел к
дому. У дверей ее квартиры, пока она
искала в сумочке ключ, он заговорил
опять:
— Коле не
в чем было сознаваться, неужели вы в
этом сомневаетесь, что? Я ничего не
понимаю больше, совсем ничего не понимаю.
Я теперь одного хотел бы: поговорить с
глазу на глаз с товарищем Сталиным.
Пусть объяснит мне — как он себе это
мыслит?
13
Софья
Петровна всю ночь напролет пролежала
с открытыми глазами. Которая уже была
это ночь со времени ареста Коли —
бесконечная, бездонная? Она уже наизусть
знала все: летнее шарканье подошв
под окном, крики в соседней пивной,
замирающий зуд трамваев — потом недолгая
тишина, недолгая тьма — и вот уже снова
заползает в окно белый рассвет, начинается
новый день, день без Коли. Где-то сейчас
Коля, на чем спит, о чем думает, где он,
с кем он? Софья Петровна ни секунды не
сомневалась в его невиновности ;
террористический акт? бред! — как говорит
Алик. Просто следователь попался ему
слишком старательный, запутал и сбил
его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь
так молод еще. К утру, когда опять
рассвело, Софья Петровна вспомнила
наконец то слово, которое вспоминала
всю ночь: алиби. Она где-то читала про
это. Он просто не сумел доказать свое
алиби.
В первые часы на
службе ей стало как будто немного
полегче. Ярко светило солнце, и пыль
клубилась в солнечном луче, и так
деловито стучали машинки, и машинистки
в перерыве бегали вниз, на улицу, и потом
без конца сосали эскимо на палочках —
все было так обычно... 10 лет! Днем, при
солнечном свете, становилось ясно, что
это чепуха. Она 10 лет не увидит Колю! Да
почему же? Что за вздор! Не может этого
быть. В один прекрасный день — и совсем
скоро — все станет по-старому: Коля
будет дома, будет по-прежнему спорить
с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему
чертить — только теперь уж она ни за
что не отпустит его в Свердловск. Можно
ведь и в Ленинграде устроиться.
В перерыве она вышла побродить в коридор
— сидя, она боялась уснуть. В коридоре
висела новая стенная газета. Перед нею
толпились служащие. Софья Петровна тоже
подошла почитать. Это был большой
нарядный номер, с красными заглавными
буквами и портретами Ленина и Сталина
по обеим сторонам ярко-красного названия
«Наш путь». Софья Петровна подошла к
газете. «Как же могло случиться, чтобы
вредители в течение целых пяти лет без
помехи обделывали свои грязные дела
перед носом советской общественности?
» — прочла Софья Петровна. Это была
передовая Тимофеева. На столбце рядом
начиналась статья предместкома. Анна
Григорьевна язвительно уличала Тимофеева
в том, что выступление его на собрании
было недостаточно самокритично. Если
общественность проглядела вредительство,
то первым за это должен отвечать товарищ
Тимофеев, бывший парторг. Тем более что,
как выяснилось, парторгу своевременно
сигнализировали снизу: сигнализировала
товарищ Иванова, давно раскусившая
секретаршу своим пролетарским чутьем.
Софья Петровна перевела глаза на
следующий столбец. И прежде, чем она
поняла, что читает, у нее стало жарко в
груди. Статья была о ней самой, о Софье
Петровне, о ее выступлении в защиту
Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом
Икс, писал:
«На собрании
произошел возмутительный факт, за
который, по нашему мнению, недостаточно
дали по рукам. Товарищ Липатова выступила
с настоящей адвокатской речью — и кого
же она сочла необходимым защищать?
Фроленко, полковничью дочь, позволившую
себе грубый антисоветский выпад против
нашей любимой Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Известно, что товарищ
Липатова постоянно покровительствовала
Фроленко, предоставляла ей сверхурочную
работу, посещала с ней вместе кинотеатры
и пр. и т. п. Теперь, когда издательству
предстоит напрячь все силы честных
работников, партийных и беспартийных
большевиков, чтобы возможно скорее
ликвидировать последствия «хозяйничанья»
Герасимова — Захарова и К°,— допустимо
ли, чтобы в этот ответственный момент
в рядах работников издательства
находились подобные лица? Выше знамя
большевистской бдительности, как учит
нас гениальный вождь народов товарищ
Сталин! Выкорчуем с корнем всех вредителей,
тайных и явных, и всех, расписавшихся в
сочувствии к ним!»
Раздался звонок, возвещающий конец
обеденного перерыва. Софья Петровна
пошла к себе в бюро. Как это она раньше
не заметила, что сегодня все смотрят на
нее особенными глазами?
Вернувшись домой, она прильнула к подушке
— к своему последнему прибежищу. И сон
сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго,
ей снился Коля. На нем был пушистый
серый свитер. Он привязал к сапогам
коньки. И потом, низко наклонившись,
заскользил по коридору издательства.
Когда она проснулась, за окном синели
поздние сумерки, а в комнате горел свет.
Возле стола шила Наташа. Видно было, что
она шьет здесь уже давно.
— Сядьте сюда, поближе,— слабым
голосом сказала Софья Петровна, облизывая
губы, невкусные после дневного сна.
Наташа покорно перенесла свой стул к
изголовью кровати и села.
— Вы знаете, Колю осудили, на 10
лет. Вам, верно, уже сказал Алик?
Наташа кивнула.
— Ах,
да, знаете? — вспомнила Софья Петровна.—
Обо мне написали в стенной газете, будто
я защищаю вредителей и мне не место...
— Алик арестован. Сегодня ночью,—
ответила Наташа.
14
Если
Софья Петровна ночью не спала — все
часы и минуты суток были для нее одинаковы.
Свет резал глаза, болели ноги, ныло
сердце. Но если ночью удавалось заснуть,
то самой тяжелой минутой, бесспорно,
была минута, следующая после пробуждения.
Открыв глаза и увидев окно, спинку
кровати, свое платье на стуле, в первый
миг она не думала ни о чем, кроме этих
предметов. Она узнавала их: окно, стул,
платье. Но в следующий миг где-то в
области сердца возникала тревога,
похожая на боль, и сквозь туман этой
боли она вдруг вспоминала все сразу:
Коля осужден на 10 лет, Наташу прогнали,
Алик арестован, о ней написано, что она
заодно с вредителями. Да, еще: керосин.
На работе она ни с кем не разговаривала
больше. Даже бумаги, которые приносили
ей для переписки, клала перед машинистками
молча. И с ней никто не разговаривал.
Сидя за своим столиком в бюро, она
вглядывалась в лица машинисток, стараясь
угадать: кто из них написал про нее в
газете? Вероятнее всего — Эрна Семеновна.
Но разве она умеет так гладко писать? И
когда это она видела их с Наташей в кино?
Ее они не видали ни разу.
Однажды, слоняясь в тоске по коридору,
она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа
шла, как лунатик, ступая будто в темноте.—
Наташа, что вы здесь? — испуганно спросила
Софья Петровна.— Я прочла газету. Не
разговаривайте со мною. Увидят, —ответила
ей Наташа.
Вечером она
пришла к Софье Петровне. Теперь она
казалась возбужденной и говорила без
умолку, перескакивая с предмета на
предмет. Софье Петровне еще никогда не
доводилось слышать, чтобы Наташа говорила
так много. И она не вышивала, не шила на
этот раз.
— Как вы думаете,
Коля еще здесь, в городе, или уже далеко?
— спросила она вдруг.
—
Не знаю, Наташа,— со вздохом ответила
Софья Петровна.— Ведь на Шпалерной его
буква 20-го, а сегодня только 10-е.
— Нет, я не о том. А как вы чувствуете? —
Наташа провела рукой по воздуху.— Он
еще здесь, близко от нас, или уже далеко?
Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг
почувствовала: сейчас он уже далеко.
Его уже нет здесь... А знаете, Софья
Петровна, ведь лифтерша отказалась
поднять меня в лифте. «Я не обязана
поднимать всяких...» Да, Софья Петровна,
вам необходимо сейчас же, завтра же,
уйти из издательства. Обещайте мне, что
вы уйдете. Милая, обещайте! Завтра же,
хорошо?
Наташа коленями
стала на диван, на котором сидела Софья
Петровна, и умоляюще сложила перед ней
руки. Потом она села к столу, схватила
перо и сама написала заявление от имени
Софьи Петровны. Она уверяла Софью
Петровну, что ей необходимо уйти по
собственному желанию, иначе ее непременно
уволят за связь с вредителями—«это со
мной»,— улыбнувшись бледными губами,
сказала Наташа,— и тогда уже ни на какую
новую службу ни за что не примут. Софья
Петровна подписала заявление. Она и
сама уже подумывала уходить. Страшно
как-то стало в издательстве. От одного
вида хромого Тимофеева со связкой ключей
в руке ее пробирала дрожь.
— Но мне ведь все равно в Ленинграде не
служить,— грустно сказала она.— Меня
ведь все равно вышлют. Всех жен и матерей
высылают.
— Как вы
думаете,— спросила Наташа, беря с полки
книгу и сейчас же ставя ее на место,—
чем объясняется, что Коля сознался?
Можно сбить, запутать человека,— я
понимаю,— но ведь это в мелочах только.
Как можно было так сбить Колю, чтобы он
сознался в преступлении, которого
никогда не совершал? Этого я, как хотите,
не пойму. И отчего все признались? Ведь
всем женам говорят, что их мужья
признались... Всех сбили?
— Он просто не сумел доказать свое
алиби,— сказала Софья Петровна. —Вы
забываете, Наташа, что он так молод
еще.
— А почему Алика
арестовали?
— Ах, Наташа,
если бы вы знали, какие грубости он
говорил вслух в очереди. Я теперь уверена,
что и Коля погиб из-за его языка.
Наташа собралась уходить. На прощанье
она порывисто обняла Софью Петровну. —
Что с вами сегодня? — спросила Софья
Петровна.— Со мной ничего... Сидите, не
вставайте, не надо! Как вы похожи на
Колю, то есть Коля на вас... Вы подадите
заявление завтра же, да? Не раздумаете?
— спрашивала она, заглядывая
Софье Петровне в
глаза.— И потом — не забудьте, что 30-го
«Ф», надо будет непременно передать
Алику деньги, у него ведь ни гроша, а
тетка побоится передавать... И потом,
дорогая, умоляю вас — пойдите к врачу!
Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!
— Что мне врач... Коля,— сказала Софья
Петровна и опустила налившиеся слезами
глаза.
На другой день с
утра она вошла в кабинет директора и
молча положила заявление на стекло
стола. Тимофеев прочел его и так же молча
кивнул головой. Увольнение ее было
оформлено с необычайной поспешностью.
Через два часа на стене уже висел приказ.
А через три вежливый бухгалтер уже выдал
ей полный расчет.— Покидаете нас?
Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте,
не забывайте старых друзей.
В последний раз идет она по этому
коридору.— До свиданья,— сказала она
машинисткам после звонка, когда
все с треском уже надевали покрышки на
свои «ундервуды».— Всего хорошего! —
хором, как Наташе недавно, ответили все,
а одна даже подошла к Софье Петровне и
крепко пожала ей руку. Софья Петровна
была очень тронута: какая мужественная,
благородная девушка! — Счастливо! —
весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья
Петровна сразу перестала сомневаться,
что именно Эрна Семеновна, и никто
другой, написала ту статью.
Она вышла на улицу — в летний шум, в
грохот. Вот и кончилась служба — кончилась
навсегда. Она пошла было к дому, но скоро
повернула к Наташе. Всюду на углах босые
мальчишки сжимали в потных пальцах
букеты колокольчиков и ромашек. Все
благополучно, вот даже цветы продают.
Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или
едет куда-то под громыханье колес,
весь мир стал бессмысленным и
непонятным.
Поднявшись
— боже, как с каждым днем все тяжелее
подниматься по лестнице! — поднявшись
на пятый этаж, она позвонила. Ей
открыла женщина, соседка Наташина,
вытирая мокрые руки о передник.
— Наталью Сергеевну утром в больницу
отправили — шумным шепотом сказала
женщина.— Отравилась. Вероналом. В
Мечниковскую.
Софья
Петровна попятилась от нее. Женщина
захлопнула дверь.
17-й
долго не шел. Прошли уже две девятки и
два 22-х, а 17-й все не шел. Потом 17-й пополз
медленно, еле-еле, подолгу задерживаясь
у каждого светофора. Софья Петровна
стояла. Были заняты даже все места для
пассажиров с детьми, и когда вошла
девятая женщина с младенцем — никто не
пожелал уступить ей место.— Скоро весь
вагон займут! — кричала старуха с
клюкой.— Ездиют взад-вперед! Мы
небось детей на руках таскали. Поде́ржите,
не помрете.
У Софьи
Петровны тряслись колени — от испуга,
от жары, от злого крика старухи. Наконец
она вышла. Она почему-то не сомневалась,
что Наташа уже умерла. Больница сверкнула
ей навстречу всеми своими вымытыми
стеклами. Она прошла в прохладный белый
вестибюль. Возле справочного окошечка
стояла очередь — три человека. Софья
Петровна не решилась подойти без очереди.
Справки выдавала красивая сестра в
накрахмаленном белом халате. Возле нее,
перед телефоном, в стакане стоял букет
колокольчиков.
— Аллё,
аллё! — закричала она в телефон, выслушав
вопрос Софьи Петровны.— Второе
терапевтическое? — и потом, положив
трубку: — Фроленко, Наталья Сергеевна,
скончалась сегодня в 4 часа дня, не
приходя в сознание. Вы родственница?
Можете получить пропуск в покойницкую.
15
- Девятнадцатого
вечером, надев осеннее пальто, и платок
под пальто, и калоши, Софья Петровна
заняла очередь на набережной. В первый
раз предстояло ей продежурить всю ночь
бессменно: кто теперь мог сменить ее?
Не было больше ни Наташи, ни Алика.
Софья Петровна одна проводила Наташин сосновый гроб через весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь, и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.
Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля? Этого понять невозможно.
Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты, и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.
К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и когда в девять часов толпа кинулась к дверям тюрьмы — Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть с места. -
На
этот раз номер у нее был 53-й. Через два
часа она протянула в окошечко деньги
и назвала фамилию. Тучный, сонный человек
поглядел в какую-то карточку и вместо
обычного «ему не разрешо́но» ответил:
«выслан». После разговора с Цветковым
Софья Петровна была вполне подготовлена
к такому ответу, и все-таки ответ оглушил
ее.
— Куда? — без памяти спросила она.
— Он напишет вам сам... Следующий!
Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.
Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска. Раз сказали в окошечке, что напишет, значит, напишет.
Все последующие дни, не завтракая, не убирая постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газетах было много объявлений: «Требуется машинистка». Ноги сделались у нее, как тумбы, но она покорно ходила целый день по всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла.— Арестованные родственники,— объяснили ей. Солгать она побоялась.— Сын,— сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.
Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней раскланиваться. (Она больше не была квартуполномоченной — вместо нее выбрали жену бухгалтера.) Она как огня боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней?
Она побоялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь — к ней подошла Кипарисова. Кипарисова наведывалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый, день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? кого уже выслали? а кто еще здесь? не переменилось ли вдруг расписание?
— Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! —зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей, зачем пришла.— Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля — и получится нехорошо, пятьдесят восемь-одиннадцать, контрреволюционная организация... Зачем вам это нужно, не понимаю!
— Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги,— робко возразила Софья Петровна.— Спрашивают только — кому.
Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.
— Им незачем спрашивать,— произнесла она шепотом.— Они всё знают.
Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.
Софья Петровна вернулась домой.
На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль не раздражали ее. Пусть! Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»... Изредка она откидывала одеяло и простыню и смотрела на свои ноги: огромные, отекшие, как водой налитые.
Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про Наташино письмо. Оно всегда лежало у нее под подушкой. Софье Петровне захотелось снова перечесть его, и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта.
«Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме. — Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, все наладится еще правильно и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать посылки, и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за все и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня претерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».
Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что, если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом... А быть может, оставить? Ведь Наташа уже умерла.
16
Прошло
три месяца, потом еще три — наступила
зима, январь, годовщина Колиного ареста.
Через несколько месяцев будет годовщина
ареста Алика и сразу за нею годовщина
Наташиной смерти.
В
день Наташиной смерти Софья Петровна
побывает у нее на могиле. А в годовщину
Колиного ареста некуда ей поехать.
Неизвестно, где он.
Письма от Коли не было. Софья Петровна
по пять, по десять раз в день заглядывала
в почтовый ящик.
В ящике иногда лежали
газеты для жены бухгалтера
или открытки для Вали — от ее многочисленных
кавалеров,— но письма для Софьи Петровны
все не было.
Второй
год она уже не знала, где он и что с ним.
Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь
прийти на ум, что настанет время,
когда она не будет знать: умер Коля
или жив?
Она уже
снова служила. От голодной смерти спасла
ее только статья Кольцова в «Правде».
Через несколько дней после этой статьи
— замечательной статьи о клеветниках
и перестраховщиках, понапрасну обижающих
честных советских людей, — Софью Петровну
приняли на службу в одну библиотеку: не
в штат, правда, а вне штата, но все-таки
приняли. Она должна была особым
библиотечным почерком писать карточки
для каталога: четыре часа в день, 120
рублей в месяц. На своей новой
службе Софья Петровна не только ни
с кем не разговаривала, но даже не здо
ровалась и не прощалась. Сгорбившись
над заваленным книгами с толом, в
очках, с седыми стрижеными волосами,
падающими на очки, она высиживала на
стуле свои четыре часа, потом
поднималась, складывала карточки
стопочкой, брала палку с резиновым
кончиком, стоящую всегда возле ее
стула, запирала карточки в шкаф и
медленно, ни на кого не глядя, выходила.
Целая колонна крабовых консервов
возвышалась уже на подоконнике в комнате
Софьи Петровны, под ногами скрипела
крупа, и все-таки ежедневно после
службы она отправлялась закупать
продукты еще и еще. Она покупала консервы,
топленое масло, сушеные яблоки, свиное
сало — всего этого было в магазинах
вдоволь, но ведь когда Коля пришлет
письмо, то или другое может как раз
исчезнуть. А иногда рано утром, до
службы еще, Софья Петровна брела на
Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь,
купила он там шапку с ушами, шерстяные
носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой,
нетопленой комнате, она сшивала из
старых тряпок мешки и мешочки. Они
понадобятся, когда нужно будет уложить
посылку. Из-под кровати торчали
фанерные ящики разных размеров.
Она теперь почти никогда ничего не ела
— только чай пила с хлебом. Есть не
хотелось, да и денег не было. Продукты
для посылки стоили дорого. Из экономии
она топила у себя не чаще раза в неделю.
И потому дома всегда сидела в старом
летнем пальто и напульсниках. Когда
ей делалось очень уж холодно, она
забиралась в кровать. В холодной комнате
убирать было незачем — все равно холодно
и неуютно,— и Софья Петровна не мела
больше пол и пыль сметала только с
Колиных книг, с радио и шестеренки.
Лежа в кровати, она обдумывала очередное
письмо к товарищу Сталину. С тех пор,
как Колю увезли, писем товарищу Сталину
она написала уже три. В первом она
просила пересмотреть Колино дело и
выпустить его на свободу, потому что он
ни в чем не виноват. Во втором она просила
сообщить, где он, чтобы она могла поехать
к нему и увидеть его еще один раз перед
смертью. В третьем она умоляла сказать
ей только одно: жив он или умер? Но ответа
не было. Первое письмо она просто опустила
в ящик, второе сдала заказным, а третье
— с обратной распиской. Обратная расписка
вернулась к ней через несколько дней.
В графе «Расписка получателя» стояло
что-то непонятное, с маленькой буквы:
«...ерян».
Кто такой
этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу
Сталину? Ведь на конверте было написано:
«В собственные руки. Личное».
Регулярно раз в три месяца Софья Петровна
заходила в какую-нибудь юридическую
консультацию. С защитниками беседовать
приятно, они учтивые, не чета прокурорам.
Там тоже очередь, но пустяковая,
не больше чем на какой-нибудь час. Софья
Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле
в коридорчике и опираясь обеими
руками и подбородком на свою
палку. Но ждала она зря. К какому бы
защитнику она ни обращалась, каждый
вежливо объяснял ей, что помочь ее
сыну ничем, к сожалению, невозможно.
Вот если бы дело его было передано в
суд...
Однажды — это
было ровно год, один месяц и одиннадцать
дней после ареста Коли — в комнату Софы
Петровны вошла Кипарисова. Вошла она
не постучавшись и, тяжело задыхаясь,
опустилась на стул. Софья Петровна
взглянула на нее с удивлением: Кипарисова
опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича
не связали с Колиным делом, и потому
никогда не заходила к Софье Петровне.
И вдруг пришла, села и сидит.
— Выпускают,— хрипло сказала
Кипарисова,— людей выпускают. Сейчас
в очереди сама своими глазами видела:
один из выпущенных пришел за документами.
Не худой, только лицо очень белое. Мы
его все обступили, спрашиваем: ну, как
у вас там было? Ничего, говорит.
Кипарисова смотрела на Софью Петровну.
Софья Петровна смотрела на Кипарисову.
— Ну, я пойду,— Кипарисова
поднялась.— У меня очередь в прокуратуре
занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы
нас в коридоре никто вместе не
видел.
Выпускают.
Некоторых людей выпускают. Они выходят
на улицу из железных ворот и возвращаются
домой. Теперь и Колю могут выпустить.
Раздастся звонок, и войдет Коля. Или
нет, раздастся звонок, и войдет почтальон:
телеграмма от Коли. Ведь Коля не
здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму
с пути.
Софья Петровна
вышла на лестницу и отворила дверцу
почтового ящика. Пусто. Пусто в его
нутре. Софья Петровна с
минуту смотрела на его
желтую стенку — как бы надеясь, что
взгляд ее вызовет из этой
стенки письмо.
Не
успела она вернуться к себе и вдеть
нитку в иглу (она шила очередной мешок),
как дверь ее комнаты опять
отворилась без стука и на пороге
показалась жена бухгалтера и за ней
управдом.
Софья
Петровна встала, загораживая спиною
продукты.
Ни медсестра,
ни управдом не поздоровались с Софьей
Петровной.— Вот видите! —сразу заговорила
медсестра, указывая на керосинку и
примус.— Обратите ваше внимание: целую
кухню здесь устроила. Копоть, гадость,
весь потолок закоптила. Разрушает
домовое хозяйство. На кухне, с другими,
не желает, видите ли, стряпать — гнушается
с тех пор, как мы уличили ее в систематических
покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен
как враг, сама без определенных занятий,
вообще — подозрительный элемент.
— Вы, гражданка Липатова,— сказал
управдом, оборачиваясь к Софье Петровне,—
вынесите немедленно принадлежности на
кухню. А не то в милицию заявлю...
Они ушли. Софья Петровна перенесла
примус, керосинку, решето и кастрюли в
кухню, на прежнее место, потом легла на
кровать и громко зарыдала. «Я не могу
больше терпеть,— говорила она вслух,—
я не могу больше терпеть». И снова,
высоким голосом, не сдерживая себя, по
слогам: «я не мо-гу, не мо-гу больше
тер-петь». Она произносила эти слова
так убедительно, так настойчиво, будто
перед нею стоял кто-то, кто утверждал,
что, напротив, у нее еще вполне хватит
сил потерпеть. «Нет, не могу, не могу,
невозможно больше терпеть!»
К ней вошла жена милиционера.
— Вы не плачьте,— зашептала она,
укутывая Софью Петровну в одеяло,— да
вы послушайте, что я вам скажу! Они не
по закону поступают. Муж говорит: раз
не выслали вас, значит, никто
права не имее т притеснять. Да вы не
плачьте! Муж говорит, многих сейчас
выпускают — бог даст, и Николай
Федорович скоро вернется... Ейная
дочка выходит замуж — вот мамаша и
нацелилась на вашу комнату. А вы не
выезжайте, и все. Мамаша для дочки
нацелилась, а управдом для полюбовницы
для своей. Вот они и передерутся...
Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.
17
Зимою
сквозь двойные рамы уличные звуки по
ночам почти не проникали в
комнату. Зато квартирные шорохи и
скрипы слышны были Софье Петровне всю
ночь. Настойчиво скреблись мыши — как
бы они не подобрались к салу, купленному
для Коли. В коридоре скрипели
половицы, и, когда мимо проезжал грузовик,
вздрагивали входные двери. В
комнате бухгалтера каждые пятнадцать
минут важно били часы.
Коля скоро вернется. В эту ночь Софья
Петровна не сомневалась больше, что
Коля скоро вернется. Кипарисова
говорит и милиционер
Дегтяренко... Он должен вернуться, потому
что, если он не вернется, она умрет. Раз
невиновных начали выпускать,
значит, и Колю скоро выпустят. Не
может же быть, чтобы других выпустили,
а его нет. Коля вернется — и как
тогда будет стыдно
медицинской сестре! И управдому. И
Вале. Они глаз на него не посмеют
поднять. Коля не станет даже и здороваться
с ними. Пройдет мимо, как мимо
стены. Когда он вернется, ему сразу дадут
какую-нибудь ответственную
службу — и даже орден! —
чтобы поскорее загладить свою вину
перед ним. На груди у него будет
орден, а с медицинской сестрой и с
Валей он не станет
здороваться...
Под
утро Софья Петровна уснула и проснулась
поздно, только в десять часов. Проснувшись,
она вспомнила: что-то вчера было хорошее,
что-то она узнала хорошее про
Колю. Ах, да, людей стали выпускать из
тюрьмы. И раз начали выпускать,
значит, скоро и Коля вернется. И Алик.
Все будет хорошо, все по-прежнему. Софья
Петровна поймала себя на быстрой
мысли: значит, и Наташа вернется. Нет,
Наташа не вернется, но Коля — Коля уже
едет домой, может быть, вагон его уже
подъезжает к вокзалу.
Возвращаясь в этот день из библиотеки,
Софья Петровна остановилась перед
витриной комиссионного магазина
и долго перед ней простояла.
В витрине был выставлен
фотографический аппарат «Лейка». Коля
всегда мечтал о фотографическом
аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь
и купить Коле ко дню его возвращения
«Лейку». Фотографировать Коля
научится быстро — ведь он такой
умелый, такой сообразительный.
Весь день Софья Петровна была в
приподнятом, радостном состоянии духа.
Ей даже есть захотелось — впервые за
много дней. Она уселась на кухне чистить
картошку. Если приобрести для Коли
фотографический аппарат — то вот
затруднение: где он будет проявлять
снимки? Необходима абсолютно темная
комната. Ну, конечно, в чулане. Там дрова,
но можно очистить место. Можно потихоньку
часть своих дров унести в комнату и
попросить жену Дегтяренко, чтобы и она
взяла вязанку к себе — она не откажет
— вот и очистится место. Коля всех
будет фотографировать: и Софью Петровну,
и близнецов, и знакомых барышень —
только Валю и медсестру снимать ни за
что не будет. У него составится целый
альбом фотографий, но Вале и медсестре
в этот альбом не попасть.
— У вас еще много дров в
чулане? — спросила Софья Петровна жену
Дегтяренко, когда та вошла в кухню
за веником.— Вязанки этак три,— отозвалась
жена Дегтяренко.— Вы любите сниматься?
Я очень любила в молодости, у хорошего
фотографа, конечно. Знаете что? Колю
выпустили.
— Да ну!
— вскрикнула жена Дегтяренко и выронила
веник.— Ну вот, а вы убивались! (Она
расцеловала Софью Петровну в обе
щеки.) — Письмо прислал или телеграмму?
— Письмо. Только что получила. Заказное,—
ответила Софья Петровна.
— А я и не слыхала, как почтальон
приходил. С этими примусами совсем
оглохнешь.
Софья
Петровна ушла к себе в комнату и села
на диван. Ей надо было посидеть в
тишине, отдохнуть от своих слов, понять
их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из
зеркала смотрела на нее сморщенная
старуха с зелено-серыми, седыми волосами.
Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она
вглядывалась в глубь зеркала до тех
пор, пока все не поплыло перед
нею, и она перестала понимать — где
настоящий диван, а где отражение.
— Знаете, моего сына выпустили. Из
тюрьмы,— сказала она в библиотеке
сотруднице, писавшей карточки за одним
столом с ней. Та до сих пор не слышала
от Софьи Петровны ни единого
слова, а Софья Петровна не знала даже,
как ее зовут. Но ей необходимо было
повторять свое заклинание.— Вот как! —
ответила сотрудница. Это была неряшливая,
толстая женщина, вся осыпанная
волосами и пеплом от
папирос. — Ваш сын, вероятно, ни в
чем не был виноват — вот eго и выпустили.
У нас не станут держать человека зря...
И долго сидел ваш сын?
— Год два месяца.
—
Что ж, разобрались и выпустили,— сказала
толстая женщина, отложила папиросу и
принялась писать.
Вечером, столкнувшись с Софьей
Петровной в коридоре, милиционер
Дегтяренко поздравил ее.— С вас магарыч,—
сказал он, пожимая ей руку и широко
улыбаясь.— А когда же Николай
Федорович к мамаше пожалует?
— А вот проработает месяц-другой
на заводе, потом поедет в Крым отдыхать,—
он так нуждается в отдыхе! — а потом и
ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу,—
ответила Софья Петровна, сама удивляясь
легкости, с какой она говорит.
Она была радостно возбуждена, и даже
ноги носили ее быстрее. Ей хотелось
каждую минуту говорить кому-нибудь:
Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю!
Но некому было говорить. Вечером она
вышла в магазин за хлебом и сразу
встретила любезного издательского
бухгалтера. Еще день тому назад, увидев
его, она перешла бы на другую сторону,
потому что все, что напоминало ей службу
в издательстве, причиняло ей боль. Но
теперь она приветливо заулыбалась
ему.
Он галантно
поклонился и сразу спросил:
— Слыхали наши новости?
Тимофеев арестован.
— Как? — смутилась Софья Петровна.—
Ведь он же... ведь он же всех и разоблачил...
вредителей...
Бухгалтер
пожал плечами.
— А
теперь его кто-то разоблачил...
— У меня, знаете, радость,— поспешно
сказала Софья Петровна.— Сына
выпустили.
— Вот как!
Примите мои поздравления. А я и не знал,
что сын ваш был арестован.
— Да, был, а вот теперь его выпустили,—
весело сказала Софья Петровна и простилась
с бухгалтером.
Возвращаясь домой, она машинально
заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет
письма. У нее сжалось сердце, как всегда
сжималось возле пустого ящика.
Ни строчки за целый год. Неужели
потихоньку ни с кем невозможно
переслать письмо? Год и два
месяца нету от него вестей. Не умер ли
он? Жив ли он?
Она
легла в кровать и почувствовала, что ни
за что не заснет. Тогда она приняла
люминал, двойную порцию. И заснула.
18
- — Сегодня
я получила еще письмо,— рассказывала
в кухне Софья Петровна на следующее
утро.— Представьте, моего сына директор
завода назначил своим помощником.
Правой рукой. Местком приобрел для
него путевку в Крым — роскошная там
природа, я бывала в молодости. А когда
он вернется, он женится! На одной
девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила
— правда, красивое имя? Я буду звать ее
Милочка. Она ждала его целый год,
хотя имела много других предложений.
Она никогда не верила про
Колю худому. - Софья Петровна
победоносно взглянула на жену бухгалтера,
стоящую возле своего примуса.— И теперь
он на ней женится — сразу, чуть вернется
из Крыма!
— Внучат, значит, нянчить будете,— сказала жена Дегтяренко.
Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходив к себе за солью, снова вышла в кухню, медсестра сказала ей: «Здравствуйте!» — будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.
У Софьи Петровны был выходной день, и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало, Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Женщина должна следить за собой до своего последнего дня. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала: куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобятся, всегда можно в магазине купить.
Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.
Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.
В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой»,— прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штемпеля — ничего.
Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?
«Милая мамочка! — написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком.— Милая мамочка, я жив, и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу и видел, так как он учился в другом вузе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому что здесь не долго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».
Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бежала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее: как ни торопилась она, до Кипарисовой все еще было далеко.
Наконец она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж. Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э.— 1 звонок».
Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Coфья Петровна наобум отворила дверь и вошла.
Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустилась на сундук рядом со старухой.
— Меня высылают,— сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней.— Завтра утром еду. Все до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.
Софья Петровна протянула ей Колино письмо.
Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и запихала его в карман пальто Софьи Петровны.
— Пойдемте в ванную, тут телефон,— шепотом сказала она.— При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку, и теперь ни о чем нельзя разговаривать — каждое слово на станции слышно.
Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.
— Вы уже написали заявление?
— Нет.
— И не пишите! — зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым.— Не пишите, ради вашего сына. За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут подальше... А через кого прислано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?..— Она безумными глазами обвела ванную.— Нет уж, ради бога, ничего не пишите.
Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.
Выкинув из кармана письмо на стол, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать,— но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов бил меня...» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей наверху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.
Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где в этой комнате выключатель? Невозможно вспомнить, где был в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натыкаясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.
Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подожгла письмо с угла. Оно горело медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.
Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.
- Ноябрь 1939 —
февраль 1940
Ленинград -
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





