ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
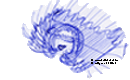


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Горшман Шира 1963
По воскресеньям, на рассвете, когда птицы еще спят в гнездах, тряпичник Хацкель уже запрягал свою одноглазую клячу. Связанные узлами вожжи, расползшийся хомут, унылая кляча, зеленовато-коричневый пиджак тряпичника и сам тряпичник как будто без слов вопрошали: «Доколе?!»
Из хибарки быстро выходила Хая-Гинда в бархатном жакетике, который, казалось, был из жести, — полоска бархата осталась только под воротником — и, бросив взгляд на телегу, на Хачу, по-мужски вскакивала на дробину и говорила:
— Хача, будет дремать! Возьми вожжи, нищие уже десятую деревню обходят.
Всю неделю она и Хача таскались по деревням и деревушкам, выпрашивая и добывая любую тряпицу, какая еще завалялась на крестьянских чердаках.
Но в пятницу после обеда Хая-Гинда, хоть гром и молния, возвращалась к детям. Казалось, она еще не успела сойти с телеги, а из печной трубы уже валит дым. Вот так, в своем «жестяном» жакетике, в платке, на котором столько же заплат, сколько листьев на вилке капусты, Хая-Гинда хватает, проходя через сени, несколько поленьев дров, бросает их в печь, затапливает и вдвигает в дым несколько чугунков и два глиняных горшка с водой — мыть головы детям. Выплеснув нагретую воду в большую бадью, прикрыв ее одеялом, чтобы вода не остыла, протянув Хаче пару белья: «Ну, поскорей в баню!», она принимается «готовиться к субботе». Яства, которые она стряпала, были притчей во языцех для всего переулка.
— Если это налить свинье, ее вырвет желчью, — говорили соседки, вдыхая запахи, долетавшие из домишка Хачи.
— Стряпуха она, прямо скажем, неважная, но что ей, горемыке, делать? — заступались другие за тряпичницу.
Сама Хая-Гинда никогда никому не жаловалась. Земляной пол в избе выровнен и посыпан песком. Два медных подсвечника сверкают на столе. Даже скатерть — грубая, вся в заплатах, но чистая-чистая.
Часто по пятницам она топила печь лишь для того, чтобы из трубы шел дым, — пусть люди думают... А на деле в такие субботы у нее было всего только шестеро вымытых и причесанных ребят, которые вместе с ней грызли редьку, ели натертый чесноком ломоть черного хлеба и запивали водой из колодца, что во дворе синагоги.
В субботу вечером она стирала «белье», накопившееся за неделю, а когда Хача, бывало, ворчал, что уходит много мыла, она твердила свое:
— Моим детям нечем кормить вшей. Без хлеба — да, без мыла — не могу.
— Дай бог всю мою жизнь не хуже, — отвечала она, когда соседка спрашивала, удался ли ей «чолонд»[1].
Из одиннадцати детей у нее остались шестеро. Остальные умерли, — сохрани бог, не от эпидемии.
Первую двойню — двух крепеньких мальчиков — она прислала. Чуть с ума не сошла. Не помогли утешения Хачи: «Гинда, перестань. За сон нельзя поручиться».
Одного ребенка Хача в канун пасхи обварил в бане. Не помогли тряпки с кислым молоком, которые фельдшер велел прикладывать, — мальчик умер на пасхальной неделе. Хача опять утешал:
— Довольно, Гинда, перестань! Все мы в руках божьих. Когда бог пожелал — нашлось же кому помешать праотцу нашему Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. Видно, так нам суждено. Твои слезы для меня — селедочный рассол на раны.
Один выпал из окошка. Невысокое окно. И что ж, — как на злую погибель, должен был лежать под ним острый камень. В тридцать пять лет Хая-Гинда поседела как лунь. Она перестала выезжать, все время сидела дома.
Но без нее Хача приезжал с пустой телегой. «Сколько же можно оплакивать мертвых, когда живые помирают без кусочка хлеба?» — подумала она и снова оставила детей на милость божью.
Одного раздавил жеребец почтаря Лейбы. Каждую субботу почтарь выпускал коня, чтобы он «пошалил» и чтобы «кнутовщики» лопались от зависти. Жеребец вихрем пронесся по переулку, и Лейбка, сынок Гинды, остался лежать мертвым. И случилось это как раз в субботу после обеда, когда Хая-Гинда даже не спала — они сидели с Хачей дома и жевали вареные бобы. Соседи внесли шестилетнего Лейбку в дом. Мать схватила ребенка на руки и побежала к дому почтаря. Хача бежал следом за ней. Она положила Лейбку на крыльцо и кулаками вышибла стекла из выходивших на улицу окон большого дома почтаря Лейбы.
Лейба вышел на крыльцо и раскричался:
— Женщина, корова! С ума сошла?! Бейся головой о стенку, но оставь людей в покое! Не могу я жеребцу поставить свою голову! Случается!
— А почему с вашими детьми не случается? Разбойники! Кровопийцы! — крикнула ему Хая-Гинда.
Бегая с мертвым ребенком на руках по субботней улице, она громко кричала:
— Боже милостивый, что ты молчишь?! Нашу кровь на их головы... Нашу кровь на их головы!..
А Хача тащился следом за ней и бормотал:
— Шадай[2], ты прав и суд твой праведен!
В дома врывались вопли Хаи-Гинды. Губы зажиточных обывателей в страхе шептали: «Пусть ее слова падут на пустые поля, на глухие леса...», но никто не помог матери с мертвым ребенком на руках.
Только соседки из переулка плакали и причитали. Но Хая-Гинда не плакала. Она сидела понуро и каждую минуту спрашивала у Хачи:
— Как ты думаешь, есть все-таки бог?
— Молчи, Хая, сжалься! У нас еще дети, молчи, говорю тебе.
Больше от Хачи ни слова не слыхали. Он замкнулся в себе, стал молчаливым и все ниже склонял голову, словно ждал еще ударов от господа бога.
Теперь у Хаи-Гинды пять мальчиков и одна девочка, и она сама удивляется, как они еще живы у нее. Хозяйкой в доме остается ее тринадцатилетняя Ханка. За каждую лишнюю копейку, которую девочка берет в долг у пекаря или в лавчонке, Хая-Гинда выщипывает у нее куски мяса.
— Нечего девке смотреть, что другие покупают, что другие едят! Я тебе тысячу раз твердила — в животах окошечка нет. Не плачь, молчи... — втолковывала Ханке Хая-Гинда потихоньку, чтобы, упаси бог, соседи не услышали.
Ханка, давясь слезами и держась за багровые синяки, оправдывалась:
— Бублик я купила для Шмулика. От него житья нет! Он бежит за мной до самого дома пекарши Хаи и чуть не надрывается от крика: купи мне бублик, хочу кушать!
С пятилетним Шмуликом действительно никакого сладу не было. Весь переулок имел с ним дело. Матери предупреждали своих детей: «Съешь дома, не то Шмулик выхватит!»
— Хая-Гинда, смилуйтесь, найдите управу на вашего Шмулика! Вы хотите, чтоб он взломщиком стал? — говорили ей соседки в субботние вечера.
Из-за Шмулика остальные дети Хаи-Гинды всю неделю едят постную похлебку. Молоко от козы Ханка ставит на самую верхнюю полку, но Шмулик находит его и выпивает.
«Мальчик и правда выглядит так — всем детям пожелать бы!» — думает Хая-Гинда, глядя на Шмулика, а Шмулик мчится верхом на палочке по переулку. Его черные глазки рыщут, щечки рдеют, а зубы что-то жуют. Он всегда здоров и никогда не сыт.
В этом-то и беда Хаи-Гинды. Весь переулок уже знает, что в ее Шмулике засел «едунчик».
В одно из воскресений Хача один уехал в деревню. Хая-Гинда пошла к огороднице Тойбе, чтобы посоветоваться с ней.
Огородница знала заговоры от дурного глаза, умела вырвать молочный зубик, приготовить снадобье от чесотки и вытащить занозу из-под ноготка. Тойба выслушала Хаю-Гинду и сказала:
— Послушай! У моего Велвела тоже был «едунчик». У него ведь, упаси бог каждого, рот не закрывался! На ночь он, бывало, прятал под подушку корочки и грыз, как мышь. Короче говоря, я дала ему в меду клочок странички с молитвой «Ширгамайла»[3] и на полчаса закрыла его в нижний ящик комода. И вылечился — твоему того же пожелать бы.
— Знаете, Тойба, что я вам скажу? Не справлюсь я с ним. Недавно я ему мыла голову, и он так рвался и буянил, что я — срам сказать — отпустила его с намыленной головой.
— Я пойду с тобой, — сказала огородница.
Женщины пошли. По дороге Хая-Гинда купила у переплетчика Арна отпечатанную на бумажке молитву.
Они заманили Шмулика в дом. Хая-Гинда велела ему откусить кусочек принесенной ими бумажки. Шмулик послушался — откусил, пожевал, выплюнул и сказал: «фе».
— Оторви еще клочок и заверни в него кусочек сахару, тогда он съест, — сказала Тойба Хае-Гинде.
На этот раз Шмулик проглотил и попросил еще.
Ханку и других четырех мальчиков выслали на улицу и закрыли дверь на крючок. Хая-Гинда выбросила все тряпье из нижнего ящика комода, немного выдвинула остальные четыре, чтобы было чем дышать, и женщины стали уговаривать Шмулика:
— Полезай лучше сам в ящик! Не то мы позовем трубочиста Янкеля, а он уж, поверь нам, справится с тобой.
Услышав такие речи, Шмулик бросился к двери. Тут Тойба и Хая-Гинда поймали его. Он расцарапал им руки до крови и так визжал, что у обеих женщин дрожали руки и ноги, но они его одолели и засунули в ящик.
Шмулик лежал в темноте. В первую минуту он понял только то, что улицы ему уже больше не видать. Он рвался из затхлого ящика и бился головкой о деревянные стенки. Комод ходуном ходил. Потом Шмулику показалось, что трубочист Янкель берет его за ноги и сует в тесную трубу. Шмулик был бы уже рад втиснуться туда, но труба так узка, что головка Шмулика никак не может в нее влезть. Глаза у трубочиста без зрачков, белые, а жесткая, чужая борода нестерпимо щекочет его босые ножки... Шмулик заходится, ему становится холодно-холодно...
Когда женщины вынули его из комода, Тойба вылила на него кружку воды, и он пришел в себя. Хая-Гинда кухонным ножом прижала шишки на его голове и уже сильно раскаивалась во всей этой затее.
— Не томись, глупенькая, не сокрушайся! Думаешь, избавиться от «едунчика» — все равно что вытащить волосок из молока? — утешала Тойба.
Шмулик действительно избавился от «едунчика». Козье молоко стоит теперь на окне, а Шмулик хоть бы что...
В следующее воскресенье Хая-Гинда, перед тем как ехать в деревню, сказала дочери:
— Ханка, купи Шмулику бублик. Поглядывай за ним! Ох, горе мне...
Но Шмулик смотрел на бублик водянистыми глазами. Он зарывался в постель и тихо лежал там целыми часами.
В субботу Хая-Гинда изливала Тойбе свое горькое сердце:
— Еда может заплесневеть, а он к ней и не притронется. Ест, бедняжка, как птичка, и смотрит на меня как несмышленыш — сердце обливается кровью.
— Ничего, пройдет. Он, даст бог, подрастет. Не он первый, не он последний... — утешала Тойба Хаю-Гинду.
На том и порешили.
Плохо только, что у Шмулика глазки водянистые. В хедере он ничего не соображает, зимой сидит дома, а летом — на куче тряпья. Хая-Гинда научила его отрезать с тряпья пуговицы и крючки, отделять шерстяное тряпье от бумажного и льняного. Работа эта, говорят в переулке, только и подходит дурачку. У Хаи-Гинды слезы уже иссякли. Она смотрит на Шмулика и шепчет:
— Такую мать убить мало... Лучше б тогда у меня руки и ноги отнялись, куда лучше было бы... Злосчастная моя доля!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





