ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


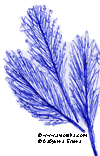
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Фигули Маргита 1940
Однажды мною овладело неодолимое желание воздвигнуть для себя вавилонскую башню. Этакую громадину. Но стоило мне мысленно коснуться облаков, как послышался насмешливый хохот. Кто-то разрушал мою мечту, грозя, что небо покарает богохульство.
Так повезло жителям Вавилона.
Но, не обращая внимания на предупреждения, я все же вполне сознательно покорилась стихии наслаждения и, не проронив ни звука, в трепетном безмолвии, всячески поддерживала огненную дрожь, бурное брожение крови.
Началось это как-то вечером. Звездное сияние, переливаясь, струилось во тьме. Именно в эту чудесную пору семейство Павлович праздновало день рождения матери. Меня тоже пригласили. Что ж, я отправилась. Как только я переступила порог, пани Сида, веселая, будто беспрерывным хихиканьем разлущенное зернышко истины, с явным нетерпением по секрету сообщила, что здесь мне предстоит познакомиться с будущим мужем. Сложная игра чувств отразилась на моем лице. И, очевидно, чтобы помочь мне преодолеть смущение, пани Сида, подкрепившись новым смешком, мило добавила:
— Ты ведь уже не маленькая. Пора подумать и о будущем.
— Вот как? — словно щепочка, с моих губ сорвалось удивление.
Значит, торги! Мысленно вступив на рыночную площадь, мучительно пытаюсь отгадать, чего же пожелает пан — тело или, может, душу? Или и то и другое в безупречной упаковке?
Торги!
Признаюсь, мой клиент оказался редкостным экземпляром. Мы всей компанией отправились ужинать. Он производил впечатление спокойного, несколько задумчивого человека. Во взгляде светилось душевное равновесие. Порой он чуть презрительно, а иногда и сурово сжимал губы. Хотя и они свидетельствовали о его добродушии. Сперва я как-то машинально поглядела на них, но чем-то они привлекли мое внимание, и я принялась изучать их, про себя размышляя: «В самом деле, можно ли их полюбить?»
Но в этот момент кто-то из гостей отвлек меня вопросом:
— Эвица, ты довольна нашим выбором?
Я поспешно опустила веки, скрыв под ресницами любопытствующий взгляд, краска бросилась мне в лицо. Я сгорала со стыда под назойливыми взглядами присутствующих. Меня захлестнуло ощущение вины, сознание того, что они могут заподозрить, будто я уже согласилась продаться, более того — признательна им. Разволновавшись, в порыве гнева я окинула своего соседа презрительным взглядом. Но он просиял и улыбнулся светло и нежно. Облик его выражал не только профессиональную учтивость, приличествующую инженеру-экономисту. Это было скорее бескорыстное движение души. Но именно это бескорыстие обезоружило меня. Я притихла и беспомощно позволила присутствующим с любопытством оглядывать себя. Я страдала, и, словно бы в отместку, мне захотелось задеть кого-нибудь, чтобы он вскрикнул и прекратил эту немую сцену.
Не знаю, как долго это еще продолжалось бы, если бы не старая пани Павлович, — она пришла мне на помощь. Вероятно, она сочувствовала мне, потому что с материнской нежностью подсела к нам, погладила меня по волосам, будто котенка с розовым бантиком на шее, и на удивление громко произнесла:
— Ты, наверное, еще не видела, какой подарок преподнес мне сын. Пойдем посмотрим.
И, словно мы с ней находились в комнате только вдвоем, она, подхватив меня под руку, повела в свою комнату.
— Ну что, хорош? — в шутливой манере, свойственной пожилым людям, стала допытываться она.
— Ой, да, — поторопилась я подтвердить свое восхищение шедевром, по всей видимости, большого мастера, — ваш сын — великолепный знаток произведений искусства.
— Тебе и в самом деле нравится? — с удивлением она покачала головой, а затем украдкой шепнула: — Знаешь, нас воспитывали в духе преклонения перед Рубенсом, Рембрандтом, Рафаэлем. — Она вздохнула: — Ах, Тициан Вечеллио... Возможно, я слишком стара и ничего не смыслю в нынешних временах.
Видимо не доверяя моей оценке, она настояла, чтобы я еще раз хорошенько вгляделась в рисунок.
Смотрю.
Крупная, неуклюжая, написанная во весь рост женщина. Пальцы покорно перебирают четки. Руки сильные, ладони широкие, словно созревший жилистый лист. Лицо молодое, но плоское, костлявое. Довольно бледное. Глубоко запавшие глаза. Такой я представляла себе О-лайн, рабыню Хвангов и жену Ван Лунга. Самое обычное существо, но во взгляде таится надменность, отрешенность от мирских забот. Некий божественный экстаз.
Так ли это?
Спрашиваю:
— А что это означает?
И тут я замечаю, что молодой Павлович стоит в дверях. Он произносит:
— Умиление.
— Умиление? — вторю я и, покоряясь его духовной ясности, добавляю, сама не зная зачем: — Impresse de la priere[1]...
— Вы правы, Эвица, а русский выразился бы так: «Упоение молитвой»...
— А почему вам вспомнились именно русские?
— Всякий раз при виде прекрасного я думаю о них. Ибо только русская душа способна стать столь совершенной, возвыситься над обыденностью. Широкая. Вселенская. Загадочная.
Он говорил, а в глазах его еще поблескивали искорки волнения. Волосы его растрепались, взгляд, родственный взору той, что была изображена на картине, надменный, бездонный, был вместе с тем трезвым и бесконечно мечтательным взором поэта.
Молча взирала я на молодого человека, пока он в напряженной тишине рассуждал о глубинной душе картины. Закончив, он как-то смущенно улыбнулся, и будто извиняясь за то, что последовал за нами, покинув общество, произнес несколько слов в свое оправдание. Ему почему-то не хотелось оставаться там; потом, чуть позже, он признался, что вынудило его уйти от них невыносимое обсуждение одного и того же сюжета.
В те дни весь город был взбудоражен историей одной юной девы, потерявшей честь, не воспротивившейся любви своего начальника. В любовном забытьи она не желала знать, что он женат. И лишь когда дело зашло слишком далеко, семейная драма предстала со всей очевидностью. Тогда-то непорочным блюстителям нравственности и захотелось подбросить дровишек в огонь, которым они, словно адским пламенем, уничтожили ее чувство.
На улицах, в домах — повсюду только и было разговоров, что о ее падении. Очевидно, люди изменили бы своим привычкам, если бы это происшествие не вдохновило гостей, собравшихся сегодня в доме Павловичей. Развязно и непристойно забавлялись присутствующие, обсасывая эту историю. Молодой Павлович и предпочел улизнуть.
Здесь он, по крайней мере, отвел душу и, умолкнув, внимательно взглянул на меня.
— Ну а вы, — спросил он, помолчав, — вы тоже ее осуждаете?
— По-моему, в любви — превыше всего уважение, — ответила я, — а потом... как же можно незамужней девушке любить женатого человека?
Улыбка исчезла с его лица, прищурившись, он запротестовал:
— Но, Эвица, ведь уважение — это совсем не то, что выдумал непоследовательный закон, это то, что чувствует сам человек. Может, вы придерживаетесь другого мнения?
Мне пришлось разубеждать моего Абсолона в обратном — ведь его премудрые мысли витали в неведомом мне мире прекрасного. Разве не спалили бы его на костре, словно колдуна? Ах, мой милый, упрямый преобразователь жизни. Революционер чувств! Ах, я совсем забыла, ведь ему все дозволено: он — поэт. Licentia poetica[2]. И эликсир вечной жизни для него — бессмертие.
— Ну, во-первых, — сражаюсь я с ним, — хоть вы и смеетесь надо мной, но я бы не смогла унизиться до того, чтобы отдать свою любовь человеку, у которого жена, дети... Ах нет! Даже если бы я решилась пренебречь законом, та, другая, всегда была бы мне помехой.
— Вот я то же самое говорю, — обрадованно воскликнул он, — вы только подтверждаете мою теорию. Даже вы предпочтете закону естественное чувство. Вот видите, Эвица!
Он пропел мое имя, будто волшебную мелодию, словно тост за здравие и любовь.
Неужто всерьез? В эту минуту я осознала, что еще никогда не любила. Мысли мои путались. Вот так, нежданно-негаданно, приросла к моему сердцу обитель Павловича. Гм. А ведь, по всей вероятности, Даня ожидал моего возвращения. Говорят, мой суженый. Я отчетливо представила себе супружескую упряжку на славу вышколенных лошадок. Мне захотелось жалобно заржать. Ах уж этот сверхинтеллигентный торгаш, явившийся тайком глянуть на свой товар! Не явно. Возьмет только в том случае, если я ему приглянусь. Все во мне негодовало.
Я не сводила с Павловича глаз. Искала в нем утешения. А он все рассуждал о своих новых принципах. Не стоило мне с такой покорностью следить за движением его губ. И вдруг, сама не знаю как и почему, только в святой уверенности я сказала себе: «Этих уст я хотела бы коснуться».
Я не люблю целоваться, но теперь, впившись в них взглядом, я думала только о наслаждении, еще неведомом мне, но реальном.
Растревоженные струны души, всегда накрепко запертые, вдруг ослабли. Да, видно, оба мы оборвали нить, связывающую нас с остальными, хотя смех и обрывки разговоров доносились из соседней комнаты и сюда.
Мне ужасно хотелось потихоньку проследить, не заметила ли чего-нибудь старая пани Павлович.
Но в это время в комнату вошла пани Илона, жена молодого Павловича, и прочирикала важное известие, что, мол, Даня намеревается сыграть на рояли несколько своих произведений. Ее сладкая улыбка была обращена прежде всего ко мне, как будто слушать его для меня была безмерная радость. В душе желая поражения этому хвастуну, я потерпела неудачу. Музыка оказалась хорошей. Восхищение присутствующих, вырвавшееся наружу, обратилось в восторженное лепетание. Искренние рукопожатия, изысканные выражения слышались вокруг — Даня принимал поздравления. И только я стояла не шелохнувшись, но пани Сида подтолкнула меня, словно ребенка: мол, и мне следует его поздравить. Смущенно протянула Дане руку, он поцеловал ее, и я ощутила тепло его губ. Он прошептал:
— А теперь специально для вас.
Опустив пальцы на клавиши отточенным движением руки, он начал играть. Но, расстроившись, я прервала его:
— Нет-нет! Я не хочу, чтобы вы играли для меня одной. Играйте для всех!
Он остановился, с сомнением восприняв мой каприз.
— Серьезно? — спросил.
— Вполне, — заверила я.
При этом я похоронила в душе его умоляющий взгляд, ибо больше глазами, нежели устами Даня вопрошал меня, не прикажу ли я еще чего-нибудь. Меня мучили сомнения, я запрокинула голову, казалось, я раздумываю, что бы такое попросить его сыграть. Но это только для вида. На самом деле какая-то печаль не отпускала меня, я непрестанно думала о молодом Павловиче. Подсознательно поняла, что он любит русских. Наверное, поэтому, чтобы скрыть свое замешательство, я быстро проговорила:
— Анданте из симфонии Чайковского.
По-видимому, я чересчур больно ранила моего поэта, потому что где-то в середине пьесы молодой Павлович, окинув гневным взглядом жену и меня, демонстративно вышел из комнаты.
Его вызывающее поведение, необъяснимое состояние духа испортили общее настроение. И вскоре прекрасный вечер, радостное волнение испарились. Что-то вынудило нас разойтись по домам.
Даня предложил проводить меня. Но, ловко накинув платок на плечи, я попрощалась и с легкой игривой улыбкой шепнула ему, чтобы он отвел домой пани Сиду. Я, мол, живу поблизости, сама добегу. Он оскорбился, но я одарила его такой обворожительной улыбкой, что он поверил в мою искренность. А я вынуждена была притвориться, я мечтала остаться одна, наедине с украденным запретным счастьем.
А ночью, когда подкравшийся сон уже готовился приковать меня, растревоженную, к постели, я почувствовала, что глаза мои затуманили слезы. Тщетно я старалась забыться, сон не приходил. Я металась на подушках, мозг терзали сомнения. И тогда, вероятно бессознательно, думая о чем-то совсем другом, я жалобно всхлипнула:
— Доведется ли нам еще встретиться с вами?
Три бесконечных дня и три ночи безнадежно канули в бездну. Как и мои раздумья, их унес поток времени, напоминавший полет диких гусей в прибое мглистых осенних облаков.
Три дня.
И тут молодые Павловичи вдруг вздумали пригласить меня к себе. И я пошла. По пути неустанно думала об этих людях. Я открою вам тайну. Даня интересовал меня совсем немножко, а бесконечные прекрасные мгновения я провела с ним. В моих фантазиях он представал в самых разных обличиях, и в конце концов я вообразила себе его в виде бездыханного цветка. Он и был такой. Провожая меня в свой кабинет, он молча следовал за мной, будто мы были незнакомы. А я рада была обманывать себя мыслью, что принадлежу лишь ему одному.
О-лайн, и ты была такой верной рабой? Или «Умиление», чье изображение висело в комнате его мамы, не пожелало оскорбить меня своим чувством? Потому что божество, говорят, можно увидеть лишь за пеленой тумана, голубой, словно очи, и величают его небом. Бог! В ту пору моим богом стал Павлович.
В полном самозабвении я сидела против него в его комнате.
Немного погодя, чуть нервным, но и властным движением он вынул из ящика стопку исписанных листков — новую книгу стихов. Робея, как все, кто с трудом поверяет свою тайну другому, окинул их взором. А потом, вдруг одарив себя привычной улыбкой, произнес с какой-то задумчивой безучастностью:
— Я написал стихи... о любви. Мне хотелось бы знать хотя бы ваше мнение, не испортят ли эти несколько строк целое? Послушайте, хорошо?
Он принялся читать.
Я отвернулась, чтобы мой взгляд не смущал его.
В противоположном углу комнаты, распластав листья, словно крылья, возвышалась высокая пальма. Я смотрела на нее и видела, как дрожат ее тонкие, широко раскинувшиеся листья. Над ними парил его голос. А мне захотелось протянуть руки и завладеть этой чужой жизнью. Но звук его слов останавливал меня. Он был слишком недостижим.
Он закончил, и тут я, с закрытыми глазами, захлестнутая волной восхищения, встала и, чтобы скрыть свое состояние, подошла к полкам его библиотеки.
— Лучше познакомьте меня со своими сокровищами, — проговорила я, — очень люблю рыться в том, что оставлено нам бессмертными душами.
— А ваше мнение о стихах? — удивился он. — Неужели я читал впустую? Но, может, они ничего и не стоят?
— Они чудесны, если вам так уж необходимо знать мое мнение. По-моему, вы писали о небывалом чувстве, никогда прежде не испытанном, оно доступно разве только тому, кому еще только надлежит родиться.
— Эвица, вы... настоящая женщина! Ведь именно это я и хотел выразить. Любовь существует, но она созерцательна. Любовь в новой ипостаси, ибо я узнал и такой род любви.
Мне не терпится спросить, в чем же сказывается эта любовь. Но он, вне себя от радости, распахивает стеклянные дверцы шкафа, и в его руках оказывается то одна, то другая книга, извлеченная им из великого их множества. Он держит их в ладонях любовно, уверенно и самозабвенно.
Скованная чудодейственным сводом законов, я стою рядом с ним. В смущении и страхе трепещу при мысли о том, что, перелистывая страницы, он нечаянно касается меня. Ощущение такое, словно меня нет, и только незримое пламя чувств превращает меня в некую ниточку паутины. Слышу лишь шуршание бумаги под его тонкими пальцами да редкую хвалу по адресу знаменитых литераторов.
Вдруг он, поколебавшись, открывает боковую створку шкафа и достает томик Рембо. Тихонько, как будто говоря нечто шепотом, всматривается мне в глаза. И раскрывает книгу, словно прокрадываясь в чужие сады. Я вижу, что он делает это обдуманно и бережно, словно опасаясь, как бы сорванным яблоком не обнаружить потаенные глубины своей души.
Я стою затаив дыхание, потому что знаю: сейчас он вымолвит нечто очень важное. Лучше бы меня в этот миг не было с ним рядом, чтобы он весь, без остатка, мог предаться мгновенью, когда человек берет верх над поэтом. Но вот он решается и начинает:
В голубой летний сумрак пойду я блуждать по тропинке,
и стегнет меня колос, и луг зашуршит в тишине,
как во сне, я почувствую там свежесть каждой травинки
и позволю, чтоб ветер расчесывал волосы мне.
Ничего не скажу и подумать сумею едва ли,
лишь любовь небывалая грудь переполнит мою,
и уйду я с цыганами в дальние горные дали,
и с Природой, как с женщиной, душу и тело солью[3].
Он задумался. Его голова, увенчанная пышной каштановой шевелюрой, склонилась на грудь. Что там творится? В какую даль его влечет? Может... кто знает, разве русские степи не скорбят так же, как я, разве сердце какой-нибудь неведомой женщины не тоскует там о нем, а он принадлежит лишь ей одной. Что за сумасбродство! И не приходится ли со всем этим только смириться? О... боже, да разве этого не может быть?.. Любовь.
Гмм. Пожалуй, сомнений уже не остается. Только что же это меняет? Мое чувство постучалось в глухие двери. Оттуда отзывается лишь неумолимый глас закона. Ребенок. Жена. Нет! В таком случае не может быть подлинной любви. А может, так нужно? Сказать себе, что честь — наивысшее наслаждение в жизни, а сердце убить лермонтовским скептицизмом?
Пани Илона! Какое наслаждение получили бы вы, отдай я вам на суд свою тайную любовь! Как отхлестало бы меня общество бичом праведным за эти недозволенные чувства! Ну, бросьте же в нее камнем, у кого грехов поменьше! Ведь так трудно отказаться от любви, когда сердце само собой воспламенилось. Да нет, не воспламенилось, а только остановилось, как часы, в сладостном неподвижном отдохновении.
Я хотела быть мужественной и честно подавить в себе этот бессмысленный первый вихрь. Ведь на самом деле, дозволено ли незамужней девице любить женатого мужчину? И тут я вспомнила о том, что ты сказал три дня назад. И еще сильней разволновалась. И благодарила бога, что на землю опустились сумерки, что хоть тьма немного скрывает смятение чувств, отразившееся на моем лице.
И как раз в этот момент вошла пани Илона, с удивлением спросив:
— Что же вы в такой темноте? — и зажгла лампу.
Трудно мне было оказаться на свету. Потому что в душе шла мучительная борьба; чувство и разум оказались меж собой не в ладу, смешались и вовлекли меня в водоворот нахлынувшей страсти и выдуманного закона.
Притворство мне было отвратительно, и под пристойным предлогом я сбежала от этой разбушевавшейся стихии домой.
Но пламя, вспыхнувшее в моей душе, не затухало. Оно питало меня дивным ощущением счастья. Это была не просто жизнь, а блаженство. На какое-то время я совершенно забыла, что на свете существует зло. Забыла и о самом свете.
И, несмотря на то что Даня каждый день теперь искал повода встретиться со мной, он представлялся мне лишь неотъемлемой частью только семейства Павлович, которым оно гордится. Лишь так воспринимала я его, не одарив и каплей моего чувства.
Я сотворила свой собственный мир. Совсем иначе, чем прежде, текли дни моей жизни. Неким чудесным потоком. Берега затоплены красотой, ветер, прогуливаясь вдоль них, с шаловливой радостью трепал изумрудный ковер трав и мои волшебные грезы. В своем игриво-ребяческом увлечении я не заметила, как любовь моя к поэту с каждым днем становилась все сильней и сильней. Не сознавая этого, я уже помышляла о своих правах на него: ощущала нашу связь — такую близкую и вместе с тем такую недосягаемую. А пани Илона? Ах! Amica vincit uxorem[4].
Но чем упорнее я припадаю губами к источнику счастья, тем сильнее страдание. Это неодолимо, подобно искушению в раю. Павлович, подлинный живой Павлович.
Дни моего пребывания в его краю были уже сочтены. Нам предстояло расстаться до следующего мучительного лета. Приходилось смириться. Я не в состоянии была одолеть стремительный поток чувств, овладевших мною в те дни. Я была в смятении.
С той минуты в душе моей поселилось страдание, втайне от всех я даже написала ему письмо:
«Вы будете удивлены: я намереваюсь признаться, что люблю Вас. Наверное, мне следовало вести себя сообразно с общепринятыми нормами. Но ведь Вы сами говорили, что не стоит сдерживать себя преходящими условностями. Это придает мне смелости. Не возмущайтесь: я люблю Вас так, как любят прекрасную книгу или картину, то есть то, что является чужой собственностью. Страстно, вся сгорая, позволила я Вам — человеку, столь тонко чувствующему красоту, искусство и такому холодному к людям, — ввести себя в заблуждение. Вероятно, это грех, но ведь и боги тоже любили и тем не менее остались богами...»
Я не успела закончить. Нить признания, которую я пряла, оборвал Даня. Запыхавшись, сам не ведая зачем, он примчался известить меня, что чета Павлович отбывает сегодня на дачу. Поезд около одиннадцати.
Ощущение приближающегося краха отозвалось ноющей болью, осколки разбитых чувств плавно опускались на дно моей души.
В смятении я не заметила, что оставила письмо на столе, возле которого Даня преспокойно уселся, пытаясь с помощью чар самоуверенного красавца уговорить меня пойти с ним на прогулку. Я торопливо собралась, подхлестываемая надеждой, что с пригорка за домом мне еще удастся увидеть поезд, издающий победные гудки. Опечаленная, униженная, я всей душой желала, чтобы Даня прочитал мои строчки. Но, со свойственной воспитанному человеку деликатностью, он нарочно отвел взгляд в сторону.
Чуть позже, выйдя из дома, мы остановились, услышав пронзительный свисток. Это был триумф паровоза. Он издевался над столь рискованным самопожертвованием.
Вся во власти чувств, я вдруг рассмеялась.
— Вы очаровательны, — удивленно заметил Даня, — никогда прежде я не замечал, чтобы вы так заразительно умели смеяться.
— Гмммм, — притворяюсь я, мороча его, — я всегда безудержно весела, когда безмерно счастлива.
Радость осветила его лицо, обольстительным и вместе с тем многозначительным взглядом посмотрел он на меня и в знак благодарности поцеловал руку.
— Ох, как вы безумны, — пряча подступившие слезы и опустив глаза, улыбнулась я через силу.
По всей видимости, его нисколько не удивило мое высказывание, потому что он по-прежнему нежно смотрел на меня — он полагал, что я, очарованная его присутствием, становлюсь сговорчивее. А как же иначе! Известный музыкант, инженер-экономист, гордость семейства Павлович. Ах! Ну как иначе! Может, мне даже завидовали. Не знаю, до сих пор не понимаю, почему тогда свои чувства к нему я именовала ненавистью и почему с такой резкостью вырвала свою руку из его ладони.
— Ах, — шумно вздохнула я, подумав лишь: «Оставьте меня, оставьте, мне невыносимо ваше прикосновение».
Поколебавшись, смирив отвращение симпатией, я проговорила:
— У меня такое чувство, будто вы плохо понимаете мое сердце.
— Отчего же?
— Не понимаете! Нет! Но все равно, я должна вам признаться, что люблю, люблю всем своим существом, а иначе эта тайна меня задушит.
— Эвица... — взволнованно прошептал он, будучи уверен, что признание относится к нему.
Его глаза вспыхнули благодарным огнем, но я тут же загасила его одним быстрым движением. Повернувшись, я хотела убежать. Но в этот момент, словно несущий смерть великан, на моем пути выросли стены моей вавилонской башни. Я вижу, как сверху она рушится. С небес сквозь облака слышен насмешливый хохот. Мой мозг заливает кровью. Мощный грохот каменьев подтвердил, что мое бессмысленное строение рухнуло.
Ах! Birs Nimrud!
В полном смятении взлетаю я на верх пригорка.
Вдали еще плывет колечко дыма, оставленное поездом. Это приветствие. Наверное, от Павловича. Облачко, забытое в долине. Я подставляю ему губы, чтобы оно поцеловало меня. Но оно растаяло. Не долетело.
Новая буря всколыхнулась в моем сердце. Оно билось неутишимо. В мучительном успокоении, обхватив землю руками, я прижалась к ней. Уткнулась лицом в траву, трепетно и жадно пила аромат стихов Рембо средь тоненьких стебельков.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





