ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


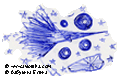
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Достян Ричи 1985
ЗАПАХ УДАЧИ
Сухим и знойным летом пятьдесят второго года по Волге ходило все, что могло ходить — от новейших тогда дизель-электроходов до старичков колесных пароходов. Для этих не было пристани опаснее Васильсурска. Под берегом — запани; на рейде — плоты; по всему плесу — топляки...
Когда громоздкий грузопассажирский теплоход «Академик Бах» осторожно отваливал от причала, уже садилось солнце.
На отяжелевшей воде лежали круглые, не светящие в этот час огни бакенов. Могло показаться, что позагорались они от последнего луча вечерней зари.
Обойдя нескончаемые караваны плотов, теплоход прибавил ходу, имея на борту тысячи тонн груза и восемьсот пассажиров. По судовой роли восемьсот, а на самом деле восемьсот одного.
Его поймали на корме.
Он был измучен, голоден и грязен, однако больше всего страдал от стыда. Люди видели, как вахтенный матрос вытащил мальчишку из-под брезента, которым были покрыты мешки с мукой, и прямо жгли его глазами, а он не мог понять, почему такое злорадство на лицах. Только одна девчонка, сидевшая на ящике с надписью «кошма», сочувственно ойкнула.
Вахтенный крепко держал его за шиворот — даже через ткань чувствовалась злость чужой руки. Это обижало, но досада была сильней: волосы выдали, будь они прокляты! Будь оно проклято, «чистое золото». А может, и хорошо, что попался, — дышать там было уже нечем, одежда липла к телу, голова зудела от пыли и пота. Но самое худшее произошло минутой позже, когда вахтенный приволок его к капитану.
Мальчишка только скользнул взглядом по громадной фигуре немолодого капитана и на всю жизнь запомнил покатые плечи, угрожающе мощный нос и под перекладиной сведенных бровей глаза, выражение которых распаляло стыд.
Матрос зачем-то вплотную подвел его к капитану, и теперь он видел только нижнюю пуговицу кителя и не понимал смысла гулких от оканья слов:
— Откуда этОт Есенин?
— Зайцем едет, товарищ капитан!
— А сколько зайцу лет?
— Шут его знает, товарищ капитан, — вахтенный отвечал и раздраженно и весело, а потом ткнул «зайца» в бок.
— Двенадцать, — буркнул наконец мальчишка и почувствовал тяжесть на темени. Капитан пытался запрокинуть ему голову, но он отчаянно прятал лицо.
Капитан отнял руку и жестом отпустил вахтенного.
Некоторое время они стояли молча.
— ПОлслова сОврешь, на первОй пристани ссОжу!
Мальчишка мгновенно успокоился, отер ладонью лоб и выложил все: едет к бабушке в Писковатку на целое лето. Мать больна, оттого не провожала, и вот... а деньги на билет есть. Он быстро нагнулся, снял ботинок, вынул из-под стельки спрессованные пятерки, показал и тут же спрятал, пояснив, что на новые удочки приберег, думал — доедет и так... а не есть может хоть день, хоть два...
— Все?! — сурово спросил капитан.
Сначала он не понял, что «все», а когда понял, растерянно развел руками, выдохнул «нуу-х»... и наконец пришибленным голосом сказал:
— Одно яблоко... там ящики в проходе есть... темно там, а рука у меня узкая... все равно выбросил — когда тянул, оно ободралось.
— Теперь все?
— Все! — твердо ответил мальчишка, тряхнув пыльными патлами, и в первый раз спокойно посмотрел капитану в глаза.
Капитан подозвал вахтенного, стоявшего в сторонке, но на виду.
— Отведешь Есенина в душевую, пОтОм к парихмахеру, скажи — я велел. ПОстОй, из душевой сведи сначала на камбуз, к парикмахеру после и боцману не забудь — до Писковатки — ясно?!
— Все ясно, товарищ капитан, — с ухмылкой ответил вахтенный и опять положил руку «зайцу» на ворот, но уже не обидным жестом, а покровительственно.
Они долго шли по душным закоулкам нижней палубы.
Двумя часами позже мальчишка стоял на носу верхней пассажирской палубы чистый и сытый, подставляя легкое тело встречному ветерку, и ни о чем не думал. Кожа «думала» за него. Ею он воспринимал радостное изумление своего существования на земле; ею он читал на лицах пассажиров первого класса то, что не устает повторять бабушка о его волосах, которые теперь и в самом деле были «чистое золото».
Фиолетовая чернь южного неба опрокинула себя в Волгу, накрошила туда звезд, и они тлели в глубине. Тлели и покачивались.
С кормы долетала музыка. Влажный ветер плескал в ноздри запах ржавых якорных цепей и собственной чистой кожи... Эта странная смесь отныне и навсегда станет для него запахом удачи.
Внуково, 1983
О МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ БЕЗ ПРИЧИНЫ
Однажды давним летом в деревню Ахал-Даба приехал из Боржоми ветеринарный врач. Он ходил по дворам с тяжелым черным чемоданом и всюду, где были свиньи, делал им уколы.
Дети толпились вокруг него, правда, на порядочном расстоянии — громадный шприц с ярко-синей жидкостью отпугивал.
Свиней загоняли в хлев, валили на землю и по требованию врача крепко держали. Бедняги поднимали визг задолго до того, как в ляжку им вонзалась игла. Жидкость, видимо, здорово жгла, и уколотые вопили уже не переставая.
Так дошла очередь до одного двора, в котором жила большая и, по уверению хозяйки, очень умная свинья. Ее не пришлось ловить и валить. С нею по-хорошему поговорили, и она сама, покряхтывая, легла, но!.. Ее визг перекрыл хор всех свинарников деревни. Врач даже вздрогнул и кинулся запирать хлев, но было уже поздно, свинья по имени Нуца сбила его с ног и с ужасающим ревом вырвалась на улицу. Детвора, конечно, за нею. Перепуганная хозяйка тоже!
Во всех дворах, мимо которых проносилась Нуца, люди сначала кидались к изгородям, а затем с хохотом и гиканьем пускались вдогонку.
Уже полдеревни бежало за нею. Кое-кто вооружился камнями, опасаясь, что животное от боли взбесилось. Как звенящий трамвай, летела свинья через Ахал-Дабу. А над всем этим, жуть наводяще, гремело по ущелью эхо.
Люди уже из любопытства не отставали от Нуцы, на бегу друг у друга спрашивая: «Куда ее черти несут?!»
У околицы Нуца неожиданно нырнула в чужой огород и, срезая углы, понеслась поперек грядок. Только тогда все поняли, что животное рвется к реке. Первой это смекнула ее хозяйка, сорвала с головы платок и, словно по умершему, запричитала: «Люди, лю-у-ди-и, она хочет утопиться...»
Юркая детвора первой достигла прибрежного склона и, обессиленная смехом, завалилась в траву.
Замерла и толпа, пораженная тем, что увидела: свинья у самой кромки воды оборвала визг, медленно развернулась и, задним ходом войдя в ледяной поток, села...
Тишина разлеглась первозданная — ни смешка, ни единого слова.
Детей эта картина заворожила до того, что они перестали двигаться. И только маленький мальчик, спокойно сидевший поодаль, потому что приплелся последним, вдруг отчаянно заплакал. Никто не трогал его. Мальчик просто сидел и глазел и вот расплакался. Да еще как! В толпе кое-кто обернулся, но, не заметив какой-либо причины, снова уставился на свинью.
Нуца была очень длинной: в то время как задняя половина ее сидела в воде — передняя стояла на берегу.
До слуха притихших детей доносились не то стоны, не то сладкое покряхтывание. Пожалуй, только уши Нуцы, потерявшие свой розовый цвет, говорили об испытанном потрясении — они пыльными лопухами свисали по обе стороны задумчивого рыла.
Толпа редела. За спиной у мальчика, который все горевал и горевал, оказалась девочка, в чьей десятилетней голове сверкнула пронзительная мысль: так вот, внезапно, начинает плакать ее младший брат... Увидит ли что-то, ему одному видимое, услышит ли музыку. Особенно если при нем заиграют на скрипке.
Внуково, 1983
НЕ ТРОГАЙ ЕГО — ОН ДОХЛУЮ КОШКУ ЕЛ
На окраине города Подольска, в одном из новых его районов, дома стоят в чистом поле. Живется здесь людям хорошо. И город, и дача со всеми удобствами.
Жильцы одного из этих домов стали замечать собаку — не то большая лайка, не то маленькая овчарка. Чистенькая, вежливая и необыкновенно терпеливая. Сидит у какого-нибудь подъезда и ждет: а вдруг поесть дадут!
В четвертом подъезде нашелся кто-то добрый.
Собака прижилась. Дети назвали ее Шарик. Тогда и взрослые, вынося объедки, стали спрашивать: «Нашего Шарика не видели?» А Шарик запомнил первую добрую руку и чаще всего околачивался у четвертого подъезда. Ночевал тут же на ступеньках, но своим домом, как оказалось, считал всю эту длинную девятиэтажную домину. Когда мимо проходил пьяный, Шарик преследовал его до самого угла. Случалось, что подгулявший и не шатается, и не голосит, а пес все равно вне себя! Этим Шарик снискал всеобщее признание.
Так прошли два лета и две зимы. В четвертом подъезде кинули под лестницу старый ватник, на нем Шарик спал в морозные ночи, а вообще он был дворовый пес, за что его больше всего ценили. Своим присутствием он как бы усиливал иллюзию дачи!
В начале третьего лета в доме появились новые жильцы — молодая женщина с пятилетней дочкой. Кто-то выехал, а они въехали.
Во дворе, обращенном в поле, стала появляться славненькая девочка. Сначала с матерью, а потом и одна. Детвора новенькую сразу приняла в свое общество, и через какое-то время никто бы не сказал, что эта девочка выросла не здесь.
Как-то шла из магазина ее мама, увидела во дворе доченьку и дала ей печенье. Девочка тут же отломила кусочек и протянула Шарику, а когда он очень деликатно взял, погладила его по голове.
— Не трогай его, — закричала мать, — не смей его трогать — он дохлую кошку ел!
Девочка вздрогнула и зашлась в реве. Она вытирала руку о платьице, трясла ею и вся тряслась от отвращения.
На истерический крик ребенка выглядывали из окон, выбегали во двор, а когда все в конце концов стихло и соседи стали расходиться, то один другому шепотом говорил: Шарик, оказывается, дохлую кошку ел.
И Шарика стали гнать...
У новой жилички мгновенно нашлись сочувствующие, а она, как только спустится во двор, сразу в крик: «Что это за люди, что это за родители! Что это за мужчины, которые не могут заразную собаку убрать!»
Темным пятнышком далеко в осеннем поле маячил отверженный Шарик и с тоскою смотрел на свой дом.
Дети, все без исключения, с наступлением темноты тайком носили Шарику еду. Но расправа не могла не произойти. Чья-то мама обнаружила просаленный карман у сына, чей-то папа размозжил Шарику голову кирпичом.
Окровавленный Шарик пролежал в поле два дня. Дети ходили смотреть и подолгу простаивали там. Девочка новой жилички тоже. Теперь, встречаясь, сосед соседу шепотом говорит, что эта девочка кричит по ночам и, от собственного крика проснувшись, долго плачет.
А в этом громадном новом доме, между прочим, не было еще ни одной кошки.
Внуково, 1983
ДВА ОДИНОЧЕСТВА
Раз в году, в день рождения Одинокого человека, съезжалось к нему довольно много гостей. Среди них только двое были его давними друзьями, остальные — приятели этих друзей, а то и просто малознакомые хозяину дома люди, которые пользовались возможностью провести летний день на даче, среди прекрасных лесов Всеволжской. Есть такой замечательный уголок под Ленинградом.
Золоторунный, кареглазый, миломордый собачий подросток встретил гостей у садовой калитки и вместе с хозяином ввел их в дом, но тут же удалился в дальний угол и залег там, странно безучастный.
Гости галдели и суетились, и в этом веселом гаме только одна девушка обратила внимание на красивую собаку, которая не путается под ногами и не норовит лизнуть каждого, как это принято у балованных комнатных собак.
Когда вся ватага уселась за столом, накрытым в саду, пес и здесь не приставал к людям. Выбрал себе местечко поодаль и в полулежачей позе зрелых псов, кладущих тяжелые морды на скрещенные передние лапы, поглядывал исподлобья.
После обеда компания отправилась на прогулку в лес. Те, кто был под хмельком, дурачились. Собака, несмотря на свой щенячий возраст, в играх участия не принимала. Ее пытались растормошить, но это выглядело странно — не собака бегала за людьми, а они за ней. Валили в траву, гладили, щекотали, не замечая при этом, что морда у пса такая, будто ему делают операцию. Ну а если это продолжалось слишком долго, у добродушной на вид псины начинала дергаться верхняя губа, обнажая клыки, а в горле возникал нудный, еле сдерживаемый рык — того и гляди залает или цапнет.
— Почему он не играет? Нос холодный — значит здоров.
— Не надо его трогать, — мягко и в то же время настойчиво ответил хозяин дома, — не надо...
История этой собаки по нашим временам более чем обычна: какой-нибудь дачник потешил себя на досуге, а уезжая в город, избавился от обузы — выпустил или выгнал из электрички привязчивую тварь.
На платформе станции Всеволжская уже лежал снег, когда Одинокий подобрал щенка.
Накормленный и отогревшийся, он не повеселел ни через день, ни через месяц. А ласку принял, отзываясь на нее вялыми взмахами хвоста, даже клал морду на колено, но Одинокий в глаза смотреть ему избегал — там было горе.
Днем Пес неохотно слонялся по дому. Больше спал часов до пяти, затем, с поразительной точностью угадывая время, поднимался — и к двери. Так было изо дня в день, из месяца в месяц. В начале шестого часа, словно бы по сигналу, ровной монотонной трусцой он отправлялся на станцию. Там переходил пути, грамотно кинув глазом сначала налево, потом направо. По шаткой разбитой лесенке поднимался на платформу, не спеша плелся по ней и садился на тот клочок асфальта под железной оградой, где был найден.
Электричка еще на подходе, а он уже встает, переминается с лапы на лапу. В гуле колес тонет тонкий свист. Не скулеж, не пение, не вой, а тоскливый свист на очень высокой ноте.
Но вот поезд остановился, открылись двери. Пес, подрагивая от напряжения, смотрит только на ноги. Случалось, мерещилось ему что-то в толпе, и он слепо кидался в нее, но, быстро убедившись, что зря, плелся назад, на свое место... до следующей электрички, до нового проблеска надежды.
Домой возвращался в сумерках — то ли измученный, то ли виноватый.
Человек, приютивший его, догадывался, где он пропадает часами, а когда убедился — домой загонять не стал. Поглядел издали на платформу и решил поступить с ним так, как поступил бы с неблагодарным человеком.
В какой-то из дней выждал, когда собака уйдет в свою безнадегу, и не спеша тоже отправился на станцию.
Стоял он на изрядном расстоянии от горемыки, видел, как «его» собака отчаянно мечется по опустевшей платформе, как не верит, что и на этот раз НЕТ, еще и носом удостоверяясь, что нету, нет! До следующей электрички было больше получаса. На платформе оставались только они вдвоем: Пес на неизменном своем месте, поодаль Одинокий, небрежно облокотись об ограду и головы к собаке не оборачивая.
Пес лег, по-стариковски уронив морду на лапы, и тут же сел. Заметил, вернее, узнал, судя по изумлению во всем его силуэте.
Пес поднялся во весь рост и робко шагнул к Одинокому. Еще шажок, но уже на пригнутых лапах. К ботинкам подползал на пузе, хвостом подметая пыль с неметенной платформы, а когда почувствовал руку на лбу, заскулил так, словно его ударили.
— Пошли, — сказал Одинокий человек и выпрямился. Собака тоже поднялась.
С платформы они спускались вместе.
Нельзя сказать, чтобы домой Пес бежал весело, но с этого дня на станцию ходить перестал.
Живется ему хорошо. Он спокоен и очень послушен, а вот играть... даже хозяин заставить его не может. А когда собаки пристают к нему с игрой — огрызается.
Внуково, 1983
ШЛЯПА
Нелепостей в жизни гораздо больше, чем это можно себе представить. Они подстерегают нас на каждом шагу, особенно когда чего-то очень ищешь. Я искала уединения и покоя. Искала долго и нашла на окраине Ялты, под горою.
Окно моей мансарды выходило в чужой двор. Маленький, прибранный, с газонами по бокам и одной виноградной лозой. Но эта лоза была толще фруктового дерева. Внизу она росла стволом, а на высоте первого этажа расходилась над всем двориком висячей плетеной крышей. Когда на ней появятся листья, я уже не смогу видеть, что делается в этом дворе.
Пока дули февральские ветры, то с гор, то с моря, люди под моим окном пробегали так быстро, что я не успевала толком их рассмотреть.
В марте сразу началась теплынь. Воробьи стали купаться в луже, несколько дней подряд было пасмурно, а по ночам мороз губил цветы на миндальных деревьях.
Но все это уже позади. Снова светит солнце, и во дворике под моим окном ежедневно сушится чье-нибудь белье. Такое впечатление, что каждая семья вывешивает свои флажки, по которым я многое узнаю. Например, есть ли там дети. Сколько им примерно лет. Да и вообще, когда твое окно выходит в чужой двор, он недолго остается чужим.
Теперь я уже знаю, кто из ребят опаздывает в школу, а кто нет. Знаю их имена, потому что здесь люди говорят очень громко. Я бы сказала — слишком громко.
Но мне нравится этот двор. Очень открыто и доверчиво живут в нем. Даже мне известно, где чьи ключи лежат. У кого под тряпкой у порога, а у кого просто на гвоздике, прибитом подле двери. Правда, в этом дворе живут еще две собаки и в случае чего шум поднять могут. Но не больше.
Одна — старая унылая гончая с неожиданным для Крыма именем Дунай. Другая — черный взъерошенный песик с очень удачным именем Жучок.
Днем, когда все по школам и по работам, во дворе тихо. Там в основном остаются только две чьи-то бабушки.
Одна — обыкновенная, я хочу сказать, настоящая бабушка. В любую погоду ее можно увидеть гуляющей с малышом на руках.
Другая?.. Вот все дело как раз в этой другой.
Она еще не очень старая, у нее, видимо, нет внуков, но важно не это. Каждый день, даже несколько раз на дню, эта странная «бабушка» выходит во двор и в неопределенном направлении, так просто, в воздух, громко кричит:
— Шляпа!.. Шляпа!..
Но ведь такое долго выдержать нельзя. Просто жить мне это не дает. Как услышу ее голос — кидаюсь к окошку и... никого и ничего. Меня, я думаю, многие поймут. Нет ведь ничего неприятнее, когда у тебя под носом творится чепуха какая-то, а ты ни понять, ни вообразить не можешь, что это такое?
Был недавно на редкость хороший день. Безветренный, ласковый, тихий и вдруг — опять эта «шляпа»!
Выглядываю. Дунай дремлет на солнышке во дворе. Жучок сидит у калитки, а эта странная бабушка опять орет, и, конечно, никого ни в шляпе ни без шляпы!
Думаю: ну, это уже слишком!.. Спускаюсь вниз, обхожу дом, вбегаю во двор и прямо к ней:
— Скажите, пожалуйста, почему вы каждый день напрасно кричите «Шляпа!»?
Она очень удивилась, даже пожала плечами:
— А кто вам сказал, что напрасно? Видите, у меня и форточка открыта.
— Кто? — теперь уже кричу я. — Кто ходит к вам через форточку?!
— Кот, — ласково отвечает она. — Не сразу, правда, но приходит.
— Кот? Обыкновенный кот?!
— Вот именно.
Настроение у меня сразу поправилось, и я в этом игривом настроении спрашиваю:
— Он что у вас — лодырь или мямля?
— Ну, что вы? Кот замечательный. И мышей ловит, и... мух, и крыс здоровенных. И даже птиц, негодяй, ловит.
— Зачем же вы его ругаете шляпой?!
— Вот и спрашивается? За всю свою жизнь только одного мыша упустил и то, когда был еще котенком, а... — Она проницательно поглядела на меня и добавила: — Сами знаете — прилепить прозвание просто, а вот отлепить...
— Спасибо, — сказала я.
— Пожалуйста, — с достоинством ответила она.
Алупка, 1962
СКАЗАЛ — КАК ПРОКЛЯЛ
Это произошло в переделкинском общежитии Литинститута в дни, когда весна 1944 года уже перешла в лето и студенты разъехались на каникулы...
Полдень. Жарко. Тихо.
Сижу с открытой дверью для сквознячка. Работа не ладится. Часто поглядываю в окно и застреваю там, на пустячные мысли отвлекаясь. Вижу — большая серая птица сидит на сосновой ветке и чистит клюв, словно бы затачивает его: справа налево, слева направо. Мне нравится, как она это делает, но, не зная, что за птица, раздражаюсь и все въедливее на нее гляжу. Постепенно подобие мысли пронизывает жутковатостью своей: «А я ведь могла родиться ею — этой птицей!..» А что, вполне. Или червяком, которого она съест! И тут впервые осенила догадка, что, не глядя на все погибели и беды, мне, в сущности, чертовски везло!
Разъехались все — я одна в громадной комнате, и тут, к изумлению своему, такая общительная, так безоглядно сердцем влипающая в людей, не испытываю тоски. Никакого скучания — радость!
Брожу обалдело по комнате, то есть по общежитию, табуретки угоняю под стены, черный стол впритык к единственному окну, и пока не могу понять, откуда взялся и что означает этот как-то интимно знакомый бес радости и почему гонит он меня к окну?
Подошла. Уставилась, а там — лес... И вдруг, затихнув, как за руку неведомой силой ведомая, ищу просвета в сплетении ветвей. Нахожу и уношусь вглубь, вдаль, и не только взглядом, а всем, что есть во мне неразумного...
Это была радость уединения, которая открылась мне в незапамятные времена в первозданной тишине Рого́вских лесов[1].
Вот почему, оглушенная крикливым Тифлисом двадцать шестого года, скованная теснотою десятиметровой комнаты, я так радовалась, когда родители, захватив с собою младшего брата, надолго уходили из дому.
Убедившись, что мама ничего не забыла и они действительно ушли, я закрывала дверь на ключ, садилась у единственного окна и, видимо, тоскуя по лесу, зарывалась взглядом в листву шелковицы. Там был лишь один просвет, где можно было увидеть пролетевшую птицу или неподвижное облако и куда тянуло предчувствие чего-то огромного-огромного...
Какое, в сущности, блаженство — ничего не хотеть и ни о чем не помнить, а о том, что ты живешь, дает тебе знать тлеющая под ложечкой хорошая нежная печаль...
Видимо, поэтому одиночество ныне меня не гложет. Тот, кто сызмальства тяготел к уединению, одиночества испытывать не умеет. Оно ведь не ситуация, а состояние...
Ничего я в своей жизни с таким наслаждением не мыла, как этот ободранный и расшатанный черный стол. Не дав ему обсохнуть, заполнила его таким множеством исписанных листков, что стакана чая негде было поставить. Рукопись — называлось все это. Повесть размахнулась писать, а она невероятно туго продвигается. Я объясняла себе это тем, что и «догонять» курс, и писать невозможно, а вот теперь?! Налажу быт и...
Уже далеко за полдень, я все сижу, ни строчки новой, перечитываю написанное и не расслышала, а ощутила, что за спиной у меня кто-то есть.
Оборачиваюсь. На пороге, по-мальчишески прислонясь к косяку двери, стоит некто. Высок, белокур, немолод. Одет небрежно: мятая голубая рубаха, холщовые брюки, тапочки на босу ногу.
Я поднялась. Он невнятно спросил, где найти Варвару Ивановну, но, когда я сказала, где, не пошел по коридору, а шагнул в комнату и легкой, порывистой походкой приблизился к моему «письменному» столу.
Теперь было видно, что ко всему он еще и небрит. Есть оправдание — война, но все-таки! А еще — запашок водки до меня дошел.
Молчим.
Я, конечно, догадываюсь, что это какой-то писатель. Кто же в Переделкине придет в домашних тапочках на босу ногу? А он меж тем вплотную подходит к столу, театрально упирается кулаками в бока и бесцеремонно разглядывает мои бумаги.
В конце концов он выпрямляется и, стрельнув в меня насмешливым взглядом, невнятно скороговоркой произносит:
— Кашка-кая?!
По вопросительной интонации угадываю: «Что-де это такое?!»
Пожав плечами, отвечаю:
— Мой письменный стол.
Тогда непрошеный гость широким жестом обводит заваленное бумагами пространство и обреченно изрекает:
— Львица Толстая!
В серых глазах — яростно-насмешливый блеск.
Он взял из-под стены табуретку и подсел к столу. Я тоже села. Насупилась, молчу и к удивлению своему замечаю, что бесцеремонность эта меня не злит, непроизвольно поворачиваюсь и в упор гляжу ему в лицо.
Одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, как мы, то есть я и мой письменный стол, его забавляем.
— Покажите-ка несколько страниц, — неожиданно деловым тоном говорит он, а я вместо того, чтобы произнести давно заготовленную фразу: «Может быть, вы все-таки представитесь», продолжаю молчать и не колюче, а озадаченно. Я уже уловила, что передо мною один из тех людей, заговорив с которыми, сразу перешагиваешь все стадии знакомства, словно бы человек этот всегда в твоей жизни был.
Начинаю рыться в бумагах.
— Давайте-давайте!
— Почерк у меня гнусный...
Он берет первый попавшийся лист, подносит к глазам и нараспев:
— Даа-а, нечитабельно... неужели на машинке ничего нет, меня стесняться не надо — скажу что думаю. — Эти слова были произнесены сухо, с оттенком то ли усталости, то ли грусти.
Было у меня перепечатанных на машинке одиннадцать страниц начала повести. Я показывала их кое-кому и рискнула, тем более что понятия не имела, кто этот непрошеный гость.
Протянутые странички он взял порывисто, а читал невыносимо долго, наконец положил их на стол и уставился в окно. Теперь это был совершенно другой человек, перед которым я с каждой минутой все больше робела.
— А вы сумасшедшая! — сказал он вдруг весело и ядовито. — Этих образов, что вы тут наворотили, мне бы на две повести хватило... Давайте пройдемся. Александр Бек.
Наконец-то он назвался.
Когда мы вышли на просеку, ту, что впоследствии станет улицей Горького, Александр Альфредович попросил:
— Расскажите-ка о себе. Кто вы, откуда взялись...
Через два часа он подвел меня к бараку и, глядя куда-то вдаль, медленно произнес:
— Боюсь, что вы именно та идиотка, которая будет писать о чем угодно, только не о себе, а это, постарайтесь запомнить, самое интересное...
Слова «идиотка» Александр Альфредович не произносил. Это было какое-то другое слово, но по убежденности тона смысл подразумевался именно этот.
Сказал — как проклял. Так оно и вышло...
На следующее утро я поднялась раньше старух, с которыми ходила в лес по грибы, и с нетерпением ждала их, а затем потешала всевозможными байками. Очень деятелен и болтлив становится человек, когда ему тошно.
По возвращении из леса, вместо того, чтобы перебирать грибы, я нечищенными залила их соленой водой и ринулась к письменному столу, распираемая желанием писать проклятую, не дававшуюся мне повесть, теперь уже назло Беку! Так и подмывало найти его и по-ребячьи крикнуть: «Неправда ваша! Я буду писать, но только не о себе!»
И пошла ворочать колоды фраз, подгоняя одну к другой так, чтобы и для лишней запятой не оставалось места. Этот мартышкин труд поглощал энергию и гасил мой праведный гнев ко всему, что увидела в Тбилиси после суровой Москвы сорок первого года.
А теперь, уже назло себе, все-таки покажу те несколько страниц, которые дала прочитать Александру Беку.
«На правом берегу Куры, близ Воронцовского моста, есть уличка с двумя глухими и узкими тупиками, куда протискиваются одни сплетни да нищие, потому что любопытство и голод отважны.
Телеграфный тупик, похожий на воздушный клин, забитый между домами, темен и тих. В него глядятся два окна и одна калитка.
Мощенный крупной булыгой, с тонким налетом мха у набухших стен, он оканчивается тяжелыми деревянными воротами, выкрашенными бурой краской.
Через эти ворота входит радость и выходит смерть. По воскресным дням в них проскальзывают слепые и заунывно поют о любви. В будни и в праздник ходит старик почтальон скоро уже семнадцать лет, войдя в родство со всеми, к кому он стучится сбитым носком ботинка. Однако никто не слыхал его голоса и толком не видел лица, профессией обращенного к ступеням подъездов да перекладинам ворот, по которым он распознает улицы.
Его опущенная голова и сухие безразличные руки всегда выражают одно: «Я не интересуюсь вашими тайнами», но уходящая спина говорит: «Я знаю их[2]».
Да, он знает все или обо всем догадывается, быть может, потому, что сам живет в одном из таких же узких тупиков, в таком же душном дворике, запертом деревянными воротами.
В этих дворах старого Тбилиси комнаты лишь временное жилье, куда уходят от ноябрьских дождей и мартовского ветра. Бесконечным же летом жизнь топчется на глухих деревянных балконах, отделенных друг от друга толщами прокаленного солнцем воздуха, где нет защиты от любопытства и где тем ревнивее оберегаема интимность вечерних чаепитий.
Но за этими же столами, пахнущими айвовым вареньем и гвоздикой, между опрокинутых в знак довольства чашек от нечего делать, из едкой шутки рождается клевета, которая наутро, облетев балконы, толкнет на преступление закадычного соседа.
И тогда жизнь начинается всерьез, обретая смысл и цель. Покушения и самоубийства становятся тайной всех. До нее очень редко добирается правосудие, излишнее там, где кровная месть еще существует.
Эти люди живут как скорпионы — сами творя зло и сами же себя карая...
К закату, когда улицы наливаются духотой, все явственней и явственней проступает старый Тифлис со всеми причудами меланхолической праздности и во всем обаянии гостеприимства.
Когда в черной листве орешников появляются звезды, во многих домах благообразные старики и моложавые старушки садятся за лото, наводя друг на друга тоску годами опресненным юмором.
В политых для прохлады дворах, в свете, падающем из окон, играют в нарды. При этом азарт так велик, жесты и окрики так порывисты, что игра похожа на лезгинку, исполняемую сидя.
Порой в наступающей на миг тишине с далеких, невидимых в ночи балконов долетают звуки тари[3], напоминая заунывное пение сквозь зубы.
Изредка чинара сыпучим шелестом оповестит о том, что где-то на огромной высоте пролетела зыбкая полоска ветра...
А то вдруг без причины заплачет в люльке ребенок. Трудно сказать, где еще так горячо любят и мстят с таким упоением...
В июле 1941 года Солдатский базар был точно таким, как сто лет назад. Только тогда он толпился на площади, а теперь втиснут в подвалы недостроенного здания.
Уже с первых ступенек лестницы, уходящей под землю, рябит в глазах огромное, черное, колышимое головами и спинами пространство, и лишь в квадратную дыру в потолке, через которую обрушивается солнце, видно, что это толпа трескучая и юркая, как жир на раскаленной жаровне. Кажется, что она рождается здесь и, пузырясь зонтами и шляпами, сплывает к темным углам.
Последние ступени лестницы уходят во влажную прохладу, пропитанную запахами хвои, роз, мяты и вина.
Внизу, у самого входа в подвал, вдоль правой стены, на мокрых ветках ели, застилающих гнилой базарный мусор, лежат охапки ортачальских роз в том беспорядке, в каком их переложил с арбы садовник Габо, с детства торгующий цветами на Солдатском базаре.
Ранней весной он приходит сюда пешком, пряча за пазухой считанные пучки фиалок. В июне оживляет водой сваленные без счета розы. А с осени до глубокой бесснежной зимы арбами возит сугробы хризантем.
Коренастый и подвижный, с пергаментной лысиной и коричневыми руками, он стоит за своим причудливым прилавком и без конца освежает розы травяным веником, макая его в глиняную чашу, поставленную на длинные стебли.
Суровое лицо садовника, всеми морщинами стянутое к губам, оживлено хмельным блеском черных навыкате глаз. Таким же охмелевшим выглядит и черный бык за его спиной, распряженный и уткнувшийся мордой в ароматное пойло.
В пяти шагах от них, спиной подпирая стену с открытия и до закрытия рынка, выстаивает старик нищий, до того худой и узкогрудый, что издали его можно принять за висящую на гвозде ветошь. Он не жует и не просит. Его желтые глаза ненасытно перебирают цветы.
Это Гиж-Давид — сумасшедший Давид, прозванный так за то, что на базар приходит не к виноградным насыпям, под которыми сгнивают столы, не к медным блюдам с вареными бараньими головами, а в темный угол цветочника Габо.
Никто не знал, чем была связана бесконечная жизнь этого человека с цветами. Езидки-зеленщицы насмешливо говорили, что он облюбовывает розы для свадебного букета. Но нищий не замечал насмешек и только раз камнем рассек голову какому-то мальчишке, сунувшему ему в руку бумажную ромашку.
Гиж-Давид ни за что не умрет летом, уверяет виноторговец Илико, подмигивая синим глазом. Когда ему надоедает хвалить вино и помнить, что талия у него не шире горлышка кувшина, он следит за нищим из своего угла наискосок.
Трудно сказать, какие мысли роятся в пьяной голове, но горец, очевидно, понял, что жив Давид не вечерними подачками у пекарен.
Подле бочки, в ведре, на льду, несколько бутылок с вином для знатоков. Стакан Илико ополаскивает вином из бочки. От этого земля перед бочкой лиловеет, а в воздухе петляют охмелевшие мухи.
Бледные старушки в чихтикопи[4], по привычке не допуская обмана, берут к столу красное кахетинское без пробы. Не пробуя, покупают его и мальчишки, пригнанные к Илико с квартой из соседних тупиков, в душной тени которых только что совершилась сделка.
Сюда же приходят прежде всего смаковать терпкую сырость напитанной вином земли бывшие виноторговцы, в чьи подвалы въехал Осоавиахим, свезя туда вместе с инвентарем и аптечные запахи, едкими островками плавающие в настоянном на древних винах воздухе.
И наверно, долго еще из земляных полов будет подниматься от жары живучий дух лозы, а сквозь масляную краску стен не раз проступят бурые пятна сырости, похожие на буйволиные морды.
В этот угол базара бывшие хозяева винных подвалов приходят ежедневно по двое или по трое, для третьего голоса в хоре, в белых шелковых косоворотках, гладко обтягивающих грудь и живот. Пучки угнанных назад сборок, скрепленные тонкими кожаными поясами, придают фигурам петушиную важность, в то время как спереди кутилы похожи на крытые шелком бурдюки.
Когда три такие фигуры, обутые в мягкие остроносые сапоги, подходят к бочке, они как три капли воды похожи на запорожцев, сохрани им господь на смуглых лысинах по чубу.
Поди напои такого крещеным вином, когда он пробует сначала ноздрей, а потом уже сизыми губами, долго и внимательно причмокивая. А то еще щелкнет бочку под бок и с точностью до одного стакана скажет, сколько в ней еще не выпитых ишаками кварт. Ишаками именно! Скажет он, потому что только ишак может запеть от вина, в котором из сорока ведер в бочке — двадцать чистой натахтарской[5] воды.
— Будь братом! — шепчет продавцу разжалованный князь вина. — Ту дзма хар! — повторит и подмигнет.
Продавец понимающе сощурится в ответ и вытащит из скрипучего годори[6] трепетный бурдюк.
Подставляя стакан под холодную смолистую струю, собачьим сыном нежно выругается винный князь, и глаза у него запотеют.
— Живи! — крикнет он хозяину и бурдюку. И после каждого стакана доносится «живи» из-под замшелой стены, где, присев на корточки, пьют красное кахетинское три его знатока.
Они закусывают сыром и зеленью. Едят толму[7], разложенную на размокших листах Британской энциклопедии, тут же продаваемой постранично тонконосыми профессорскими женами, побывавшими в Пэтэрсбурге.
— Мравал жамиер, — поют под стеной, а потом, замолчав ненадолго, снова едят. Жирный сок течет меж собранных бутоном пальцев и, пробираясь ползком по волосатой руке, пятнает рукава у локтей.
К концу базарного дня лепечутся последние, самые задушевные тосты: правой руке виноградаря, которая возделала в Кахетии матушку-землю; самой прекрасной лозе, пустившей в нее корни; самой маленькой букашке, прошедшей вброд по перезрелым виноградинам; господу богу со всеми его домочадцами, а может быть, и богатому черту войны — кто их, бывших, знает?!»
Встреча с Александром Беком не прошла для меня бесследно. Вскоре он предложит мне попробовать свои силы в документальной прозе. После того как Александр Альфредович объяснил, что моя задача — фиксировать то, что увижу, услышу и пойму, — я тут же сообразила: это экзамен!
На улице Горького, где-то ниже Елисеевского магазина, дом.
Помню кабинет в полутьме. Ближе к окну — письменный стол. За ним он — металлург М. А. Павлов. О нем от Бека я знаю только одно: Павлов капризен, но это не мое дело. Мое дело — записать предельно точно: как он, Бек, будет брать у Павлова интервью, но не просто: «Я спросил — он ответил. Нужны портреты — его и мой, да-да!.. И поведение каждого... Ваше впечатление от всего этого».
Судя по записи, которая у меня сохранилась, испытание я выдержала. Это подтверждает и письмо, полученное мною от Александра Альфредовича в 1946 году в Берлине.
В декабре 1945 года передо мной встал выбор — либо ехать с Александром Беком в Кузнецк для совместной работы, либо — в Берлин, откуда я получила вызов от мужа.
Я выбрала Берлин. Проявив высокую человечность, Александр Альфредович не только не обиделся, но помог мне получить место в военном «Дугласе», снабдил письмом к своему другу, заместителю главного редактора берлинской газеты «Теглихе рундшау» Шемякину, — просил помочь мне по номеру полевой почты отыскать в разгромленной Германии моего мужа. Бек в Москве предвидел, что на аэродроме Иоганесталь этих сведений мне никто не даст!..
На этом ставлю точку. Из письма Александра Альфредовича Бека станет ясным то, что, увы, только в конце своей жизни я поняла: моя судьба была необычайно щедрой. Она выводила меня навстречу людям редкой духовной красоты.
29.1.46
Здравствуйте, милая Ричи!
С большим опозданием получил Ваше письмо. К сожалению, оно было очень коротеньким. Я ждал более основательного, с впечатлениями и т. д.
Отвечаю на Ваш вопрос. Конечно, я рассчитываю, что приблизительно первого марта Вы будете в Москве, как мы ориентировочно договаривались. К этому времени я подготовлю начало работы с Павловым и Вашей работы по металлургии. Однако, конечно, всецело предоставляю выбор Вам самой — оставаться или приезжать. Вы живете сейчас, как видно, хорошо, материально обеспеченно, в теплой комнате, с ежедневным обедом, с возможностью просиживать много часов за столом. Вместе с тем около Вас преданный, внимательный, любящий муж. Стоит ли расставаться с такой жизнью?
Что Вы будете иметь в Москве? Во-первых, полную необеспеченность литератора-профессионала. Сегодня как будто все выходит хорошо, есть договоренность с Коробовым, есть достоверные виды на Павлова, но завтра же это может лопнуть. Сменится человек, или изменятся планы издательства, или закапризничает Павлов, или работа пойдет неудачно, не удовлетворит редакцию и Вы опять — без денег, без спокойного, обеспеченного завтрашнего дня. В нашей профессии это чуть ли не самое паршивое, самое утомительное обстоятельство.
Вы будете знать современную жизнь, получите школу, но это трудно, это рискованно, это чертовски зыбко.
Не хочу Вас вынуждать даже уговорами исполнить свое обещание. Подумайте и решайте сами, всецело исходя из собственных интересов. Я отнюдь не буду обижен на Вас и совершенно Вас пойму, если Вы останетесь.
Но буду, конечно, рад, если приедете, наш договор остается в полной силе, мне хочется, чтобы Вы поработали со мной, и Ваше место, на которое я Вас приглашаю, пока не будет никем занято. Пока, то есть — ну, скажем, до 15—20 марта. Крепко жму Вашу руку. Желаю Вам счастья.
А. Бек.
«... о чем угодно, только не о себе, а это, постарайтесь запомнить, — самое интересное...»
Только сейчас, в конце жизни, я, может быть, начинаю понимать, что за этими словами.
Внуково, 1984
НИ РАВНОДУШИЯ, НИ ПОКОЯ НЕ ЗНАЛА
Повестью «Спутники» вошло в мою жизнь имя Веры Пановой, значительное не только само по себе, но и по тому, как оно прозвучало.
Появятся потом и другие произведения писателя-прозаика и драматурга, приковавшего к себе обостренный интерес; пройдут годы, прежде чем слившееся в один звук сочетание «Верапанова» станет на расстоянии созерцаемой личностью, и в конце концов определенный день и час приведут меня к ее порогу.
Не успев еще заглянуть в свои рабочие тетради, где многое записано под свежим впечатлением, я увидела Веру Федоровну почему-то во весь рост и почему-то идущей. Медленно. Прямо. Всю в черном и узком, стройно-статную. Наверно, таким, из всех встреч, сформировала память ее облик — сплошной движущейся непререкаемости.
Это видение, пронзительно разумное, обязало меня не упустить ни единой черточки поучительно сильного, яркого и бескомпромиссного характера.
Между прочим, вся моя жизнь оказалась подчиненной не столько событиям, сколь характерам. Поверить трудно, что на редкость кроткой матери моего отца достаточно было тихо, но категорически произнести «нет!», и я должна буду надолго покинуть Москву, расстаться с дорогими мне людьми для того, чтобы, проделав долгий путь через военный Кавказ и послевоенную Германию, стать ленинградкой. Истинной и убежденной!
Только злая доля могла разлучить меня с городом, о котором Вера Панова, сама того не подозревая, и за меня сказала: «Это лучший город в мире».
Ленинград не просто покорил меня распахнутостью блистательной своей красоты — он вошел в меня весь и всякий. Любила я и редкие солнечные дни, и ноябрьские ураганные ветры, чреватые наводнениями, а более всего — углубленность пасмурных дней, когда камни фасадов налиты железом, а небо над ними цвета камня.
В конце сороковых годов в Ленинграде было множество групп пишущей молодежи. Позже они будут называться объединениями. Была такая группа при газете «Смена» — самая, кстати, многолюдная и пестрая. Возможно, поэтому в ней задерживались ненадолго.
Мы кочевали из группы в группу, проникали на закрытые просмотры в Дом кино, на диспуты в университет и на всевозможные обсуждения в Союзе писателей. Здесь-то многие из нас впервые и увидели Веру Панову и сразу ощутили ее бархатную беспощадность.
Впервые произошло это, когда один из наших товарищей-«сменовцев» удостоился обсуждения в Союзе писателей только что опубликованной повести о деревне. Мы пришли, разумеется, толпой, но не без тревоги, потому что повесть очень симпатичного нашего друга была слабой.
В красной гостиной собралось довольно много писателей. Ни мы, ни организаторы обсуждения не знали, придет ли Панова. А она пришла за несколько минут до начала обсуждения в черном строгом платье. Легким наклоном головы здоровалась со знакомыми, редко кого одаривая улыбкой. Ее стали приглашать к небольшому овальному столу, за которым сидел ведущий. Панова все тем же сдержанным движением головы отказалась от почета и молча села на боковой диванчик, обитый красным бархатом. На таком же боковом диванчике, но по другую сторону гостиной, сидела я, отгороженная от Пановой рядами сплошь занятых кресел.
Неожиданностью для меня было то, что она высокая, а еще большей — ее женственность, которую не могли скрыть ни сдержанные жесты, ни подчеркнуто строгое платье.
Говоренье длилось долго. Выступавшие (уже тогда со шпаргалками) подходили зачем-то к овальному столу и чем дальше, тем больше удалялись от предмета обсуждения. Начинало казаться, что мы присутствуем на литературоведческом диспуте, где ораторы в жажде блеснуть полемизируют друг с другом, обращаясь при этом не к автору обсуждаемой повести, а настырно кося глазом в сторону Пановой. Очевидным было одно: собравшиеся весьма посредственные писатели в большинстве своем не любят Панову, а потому отчаянно заискивают перед нею. А она, сидя боком к ораторам и ведущему, ни разу не повернула головы в их сторону. Она глядела в пространство перед собою и время от времени, слушая очередного оратора, не то жмурилась, не то щурилась.
Мне видна была только верхняя половина ее лица, и эти волны прищуров производили неподходящее к ситуации впечатление. Можно было подумать, что она у себя на кухне режет лук — оттого и помаргивает и щурится, чуть откинув назад голову.
Спустя годы представится случай убедиться, что Вера Панова так реагирует на глупость, в какой бы форме та ни проявлялась и от кого бы ни исходила.
Наконец ведущий понял, что пора кончать «мероприятие», привстал, сел, затем, обернувшись к Пановой, поинтересовался, не желает ли она высказаться.
Вера Федоровна поднялась, но не сдвинулась с места. Она только повернулась к автору повести и заговорила мягким, ровным, по-домашнему естественно звучащим голосом, без интонационных нажимов и многозначительных пауз, но после первой же фразы стало ясно, как отобраны и точны слова и до какой степени обманчива эта мягкость!
Речь ее была очень краткой — четыре, пять фраз, но до того исчерпывающе емких, что не запомнила я их. От изумления, быть может. В памяти осталась одна, последняя, убийственная фраза: «Мне бы хотелось, дорогой N, чтобы в будущих ваших произведениях автор выглядел умнее своих героев».
С этого дня мы, включая и незадачливого нашего друга, не пропускали ни одного доступного для нас выступления Веры Пановой.
Между прочим, тогда мало кто знал, что предельно занятая Вера Федоровна на обсуждение дебютанта пришла отнюдь не случайно. Оказывается, она давно приглядывалась к молодым литераторам и, как выяснилось впоследствии, не проглядела ни одного, в ком хотя бы угадывалась «искра божья».
Не покидая пока «Смены», несколько человек, в том числе и я, стали посещать объединение, которое уже существовало при Союзе писателей. Там почему-то менялись руководители, и это тоже привлекало в знаменитый шереметевский особняк на улице Воинова, 18.
Одним из первых руководителей этого объединения был Всеволод Александрович Рождественский — чрезвычайно внимательный и милый; но тех, кто пробовал себя в прозе, расхолаживала абстрактно-лирическая благостность, царившая там в столь кипучие для литературы послевоенные годы. И все равно мы ходили.
В немалой степени манил сам особняк. Его великолепные гостиные с громадными окнами на Неву. Что окно — то гобелен: всегда в дымке чугунное кружево Литейного моста, до полуночи длящиеся закаты с молочно-розовой рекой и черными чайками у воды. Все это и, безусловно, изящество речи Всеволода Александровича поднимало нас в собственных глазах.
После Рождественского в этом объединении метеором мелькнет излучающий энергию Юрий Герман. Прикуривать можно было от его взгляда! Стены делались ярче, когда он появлялся, а в воздухе повисало ожидание чего-то из ряда вон выходящего.
Была у него одна драгоценная привычка: приглашать на занятия кого-нибудь из своих друзей. Это могли быть Григорий Козинцев, Иосиф Хейфец... Однажды Герман пришел с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом.
Все мы отлично знали, кто это! А видели впервые. Рядом с громадным и массивным Юрием Павловичем невысокий Эйхенбаум с его аскетической худобой, легкой походкой и скупыми жестами выглядел бесплотным. Он так запросто подсел к нашему общему столу, так дружелюбно прошелся по лицам голубым рефлектором проницательного взгляда, что даже у меня схлынуло напряжение, хотя, как назло, в этот день подошла именно моя очередь читать. Это были рассказы из еще не опубликованного лирического репортажа о Волге «Кто идет?».
Я не стану описывать праздника, который совершенно неожиданно судьба подарила мне, а упомяну об этом эпизоде лишь затем, чтобы, посочувствовав нынешней пишущей молодежи, поделиться тем счастьем, какое выпало на долю моего поколения, — мы могли черпать не только из книг, но и слышать великолепный русский язык, частенько звучавший на Воинова, 18.
Борис Михайлович после чтения произнес, увы, только несколько фраз, все волшебство которых заключалось в том, как они были построены!.. Язык ведь калечат не заносимые временем новые слова, а упрощение его структуры...
После Юрия Павловича Германа, где-то году в пятьдесят четвертом, объединение при Союзе писателей возглавит Даниил Александрович Гранин. Но это еще будет, а тем временем, в мае пятьдесят четвертого года, возникло самое, пожалуй, плодотворное для литературы объединение при ленинградском отделении издательства «Советский писатель». У него было даже имя: «Молодой Ленинград». Бессменным его руководителем стал Леонид Николаевич Рахманов.
Отныне заветным нашим пристанищем сделался шестой этаж Дома книги по Невскому, 28. Отсюда если и уходили — то уже в литературу... Виктор Конецкий, Виктор Курочкин, Виктор Голявкин, Эдуард Шим, Владимир Ляленков, Надежда Верховская, Евгения Васютина, Эмиль Офин, Вадим Инфантьев, Наталия Банк, Игорь Кузьмичев, Аскольд Шейкин... Мелькал державшийся особняком и Александр Володин.
Из этого объединения на Всероссийский семинар прозаиков 1957 года попали многие. Панова в свою группу включила, а затем и рекомендовала в Союз писателей Виктора Конецкого и меня.
Я попала в поле зрения Веры Федоровны Пановой в 1953 году после опубликованного в альманахе «Молодой Ленинград» рассказа о Молдавии — «Поездка в Сороки». Не знаю, когда и где Вера Федоровна хорошо отозвалась о нем, но ее добрые слова мне передали.
Подхлестнутая, а не размягченная одобрением Пановой, да еще не в меру пылким отзывом Павла Далецкого в газете «Смена», я помрачнела, потому что рассказ, несмотря на некоторые его достоинства, заметные и теперь, был вымученным и бесконечно далеким от того, что бурлило во мне тогда, когда он писался.
С яростью и отчаянием ринулась я на поиски «своего», а оно не давалось, да и не могло быть иначе, если язык, на котором пишешь, пришел к тебе окольными путями.
Вернемся, однако, к пятьдесят третьему году, который, несмотря на грандиозные перемены, весь еще был во власти предшествовавших ему десятилетий...
В том же пятьдесят третьем году вышел в свет роман Пановой «Времена года». Трудно сказать, какая еще из ее вещей вызвала столь яростные нападки критики. И не только критики.
Об этой полосе жизни и творчества Веры Пановой чрезвычайно ясно написал А. А. Нинов. Есть в его книге глава «На перепутье». Вот что сказано в ней: «Роман «Времена года» (1953) несет на себе следы внутренней ломки, преодоления некоторых иллюзий, изменения некоторых представлений о жизни. Это роман переходный по всем своим основным чертам. Панова завершила работу над «Временами года» в тот момент, когда развитие современного общества вступило в полосу важных перемен»[8].
Есть и у меня любопытная запись в подтверждение этой мысли. Одна всего фраза Пановой, сказанная как бы в утешение мне, но сколько в ней собственной боли... Эпизод, который можно озаглавить «Мастер о вышивании», произойдет только через два года.
Говоря о творчестве Пановой, нельзя забывать: сверх меры нелегок был ее блистательный путь, а то достоинство, с каким Вера Федоровна переносила нападки, сравнению не поддается. Она последовательно отстаивала свои убеждения, которые, как показало время, были гораздо вернее, чем у многих ее оппонентов.
Молодой, мыслящий, пишущий Ленинград следил за каждым ее выступлением, за всем, что о ней писалось и говорилось. Ее недруги становились и нашими. Но, увы, и среди молодых литераторов хватало приспособленцев, жаждущих не столь «искать», сколь преуспевать!
Проходили месяцы. Одобренная Пановой на расстоянии, я не сделала ни единого шага, чтобы расстояние это сократить. И как-то само собой получилось так, что, хотя я теперь и бывала в Союзе писателей, мы с Верой Федоровной ни разу не столкнулись ни в небольших гостиных, ни в узких коридорах шереметевского особняка. Я даже старалась, чтобы этого не произошло, раз никто из весьма солидных и подчеркнуто благорасположенных ко мне писателей не дал себе труда нас познакомить. Происходило странное: беседуя со мной, солидные мужи раскланивались с проходившей мимо Верой Федоровной, а как только она удалялась настолько, что уже не могла расслышать, повторяли мне без конца одни и те же ее хорошие слова о моем первом рассказе со зловещим, однако, примечанием: «Не к добру это, учтите, Панова терпеть не может пишущих женщин!»
Меж тем проницательная Вера Федоровна угадывала закадровый смысл этих сценок, что вскоре подтвердится само собой. А о «благорасположенных» ко мне творцах прекрасного я упомянула еще и ради мудрейшей истины, которая открылась мне когда-то в школьные годы и, увы, не утратила остроты по сей день: «Запомните, — говорил один почтенный тифлисец-грузин своему сыну, а заодно и мне, — искусство облагораживает далеко не тех, кто им занимается!»
Так меня и не представили Пановой. Мы познакомились сами в начале пятьдесят четвертого года. В конце концов произошло то, что не могло не произойти: обычным будним пасмурным днем в плохо освещенном коридоре, ведущем в правление Союза писателей, я увидела идущую навстречу Веру Федоровну и до отчаяния напряглась, потому что нет для меня ничего ненавистнее, чем навязываться, а в этой ситуации не поздороваться было бы просто дико. Пока я, пылая от смущения, гадала, как поступить, мы сблизились настолько, что мне уже видна была ее лукавая улыбка. Я молча наклонила голову, что скрыло малиновое лицо и вполне могло сойти за поклон.
При следующей встрече Вера Федоровна первой произнесла свое певуче-растянутое «здра-авствуйте». Я сразу уловила многозначность этого долгого «а»: от сдержанного юмора — до категорической исчерпанности приветствия, за грань которого сам не перешагнешь.
Весною пятьдесят четвертого года каждую пятницу шли занятия объединения молодых литераторов при Союзе писателей. Руководил им теперь Даниил Александрович Гранин.
Второго апреля, обычно очень пунктуальный, он несколько запоздал.
Суть записи, датированной этим числом, сводится к разговору, который произошел после занятий. Я расскажу об этом ради одной, не мне сказанной фразы Пановой, которая совершенно неожиданно тоже подтверждает высказывания Александра Нинова в главе «На перепутье».
Обычно после занятий все объединение гурьбой двигалось по Литейному проспекту, еще продолжая споры и постепенно рассеиваясь. Гранин, Верховская и я жили по соседству. На углу Литейного и Кирочной с нами попрощалась Верховская, и тогда Гранин сказал: «А знаете, почему я сегодня опоздал? Я задержался у Пановой».
Давно усвоив, что Гранин скажет только то, что сочтет нужным в данный момент и данному лицу, я молча ждала. Так оно и вышло — не заикнувшись даже, с чего и по какому поводу очутился на Марсовом поле, он начал прямо с сути:
— «Ненавижу пановщину!» — сказал я ей, а она, представляете, улыбнулась и говорит: «Ну-ну, интересно!» Тогда я назвал...[9] и пояснил, что они разрабатывают худшее, что есть в Пановой! Вера Федоровна простила мне и это, представляете?!
Затем он принялся громить меня, во многом справедливо:
— Хотя вы разрабатываете лучшее, что есть в Пановой, и в чем-то вы даже близки... ведь она работает на обертонах. Вы, между прочим, тоже, но вам не хватает пановской резкости. У нее вдруг да попадется булыга! Вот смотрите, все у нее идет спокойно, хорошо, и бац — выстрел.
Замолчал он как-то хмуро, и мне не потребовалось добавлять, что выстрел сей угодил прежде всего в автора. Мы только переглянулись. Как бы продолжением этой мысли была еще одна фраза. Гранин мучительно щурился и — было видно — старался точно воспроизвести слова Пановой:
— «Знаете, о чем я мечтаю?.. Мне хочется написать вещь, где бы говорилось о самых падших людях и о самых благородных. И хочется, чтобы кровь лилась... чтобы была жизнь!»
Он долго молчал. Потом кинул скороговоркой:
— Она очень больна. — И, не простившись, ушел.
Перечитывая эти записи, я и сейчас не понимаю, какой смысл вкладывал Гранин в слова «она очень больна», поскольку вскоре (7 мая 1954 г.) Вера Федоровна посетит наше объединение, а еще через несколько дней (13 мая) примет меня у себя.
Запись от седьмого мая 1954 года коротка и бестолкова: «Сегодня впервые говорила с Верой Федоровной Пановой. В том, что она пришла к нам на занятие, есть доля и моей заслуги. Я очень рада этому, но еще больше благодарна Вере Федоровне за то, что она не осталась на обсуждение моего «Первого снега». Уходя, очень хорошо подала руку. В среду, наверное, пойду к ней».
Следующая запись, еще более невразумительная и короткая, сделана тринадцатого мая и приходится на упомянутую среду.
Не без раздражения листаю свои рабочие тетради тех лет. Сколько в них сторонних, скрупулезно зафиксированных мелочей из мира вокруг и буквально крохи о важнейших событиях жизни моей. Причины две.
Первая — скрытность. Вторая — самонадеянность человека с цепкой памятью. Значительное, мол, не забудется. Это и верно и нет. Память — дама капризная... Халдскую клинопись зачем-то помню до сих пор, а в чем «моя заслуга» в тот весьма важный для меня день — ума не приложу. Видимо, что-то было и... когда-нибудь, совершенно случайно, может, и всплывет! Запомнилось ведь не только все, что вобрали в себя три часа первого посещения Пановой; помню и тревожные мысли, с какими пересекала Марсово поле, идя к ней; помню, с какими уходила из квартиры номер четыре, медленно спускаясь по железной, как бы висящей под сводами парадного лестнице. Восстановить все это можно, за исключением одного: выпуклой, емкой, яркой речи Пановой с ее меняющимися ритмами и неожиданным построением фраз.
Почему не записала их, придя домой?.. Знаю. Вернулась подавленной. А вот сейчас, когда пишутся эти строки, отчетливо вижу, как потрудилось сито времени, пропустив пустяки и удержав бесценное вечное — характер!
Три его черты выявились сразу: уменье, нет — искусство слушать! Затем ошеломляющая и непривычная особенность на глазах меняться до неузнаваемости. Потом пойму, отчего это. Просто Вера Федоровна не давала себе труда скрывать (в любых обстоятельствах) ни своих впечатлений, ни своих настроений. И наконец, главное — железный порядок во всем! Даже в том времени, которое она так щедро дарила людям. В особенности начинающим свой крестный путь в горячо любимом ею ремесле.
Из всего этого вытекала и складывалась особая черта ее характера — дисциплинировать всех, с кем соприкасалась. Даже в общественных местах достаточно было ее молчаливого появления. Кстати, никогда не опаздывая, Вера Федоровна появлялась незадолго до начала любого мероприятия. Я убеждена: нет человека, кто бы сказал, что видел Панову болтающей в кулуарах. За это, между прочим, определенная часть литераторов, путая деловитость с гордыней, злословила о ней.
Дом на Марсовом поле — это все равно, что дом в Лаврушинском переулке для москвичей. Жили в нем Юрий Герман, Эльмар Грин, Вера Панова и другие известные писатели.
Двери открыла мне сама Вера Федоровна, что было неожиданностью и заставило инстинктивно подобраться. В полном молчании она повела меня через странно разгороженную прихожую. Молчала и я, не видя вокруг ничего, кроме шествовавшей впереди хозяйки дома, отметив лишь, что по своей квартире она ходит той же степенной, полной достоинства походкой, что и по Таврическому дворцу.
Моя сдержанность, как мне объяснили потом, и была залогом долгой и щедрой встречи. Те, кто с порога начинал тараторить, у Пановой не задерживались.
В кабинете Вера Федоровна жестом указала мне место подле своего письменного стола, а когда мы обе сели, озарилась улыбкой, которая откровенно выразила удовольствие от этого молча выполненного ритуала. Затем какой-то шуткой сняла с меня напряжение, и... произошло непостижимое: исчезла Вера Панова с ее громадным авторитетом, и рядом уже была Вера Федоровна — собеседница с ее вдохновенной энергией, блеском мыслей и глаз, вспышками озорного юмора при крайне доверительной откровенности.
Это не только бодрило — я вдруг почувствовала себя гораздо ярче и умней. Такова не имеющая названия сила ЛИЧНОСТИ, обогащающая каждого, кто соприкасается с нею.
На этой волне прямоты и чистосердечия, не понукаемая вопросами, я рассказала о себе самое существенное, а это гораздо больше, чем все!
Поразительно чутко и глубоко слушала Панова. Тут уместнее даже слово «внимала». Вдруг Вера Федоровна сняла с лица оживление, как снимают очки, отчего оно сразу сделалось отчужденным, и... залегли между нами расстояния — судеб, положений, лет.
Панова медленно раскрыла оказавшийся под рукою альманах «Молодой Ленинград» с тем самым первым моим рассказом, задумчиво провела ладонью по развороту и деловым тоном произнесла: «Тут следы хорошей школы: чеховской, тургеневской... а что дальше?»
Я уставилась на ее плотно сомкнутые губы и, вместо того, чтобы сказать, над чем тогда увлеченно работала, чуть было не пустилась в пререкания. Задели почему-то тургеневские «следы». Так и подмывало ляпнуть, что увлечение Тургеневым меня обошло, что первым любимым писателем был Джек Лондон, что сейчас «болею» Лесковым...
Слава богу, хватило такта смолчать, но, сбитая с толку этими своими вздорными мыслями, я растерялась: льдинка, дающая знать об опасности, уже жгла под ложечкой. Ускользали секунды, я понимала, что испытываю терпение и падаю в глазах Пановой. От всего этого стрельнуло в голову, что ответ мой должен содержать нечто чрезвычайно серьезное и масштабное! И я заговорила о том, что смутно зрело еще давно: о зле войны, которое с окончанием кровопролития не кончилось, а ушло вглубь; что армия женщин, для кого навсегда погасли семейные очаги, увеличивается; что рушатся уцелевшие семьи; что растет безотцовщина при живых отцах!..
Вера Федоровна ни разу не перебила, но мне все неуютнее становилось под ее взглядом. Она словно бы вся собралась в пытливых, внимающих глазах, глядевших с таким бесспорным пониманием чего-то в тебе такого, чего ты и сам о себе не знаешь... Не взгляд, а вторжение!
Я замолчала на полуслове...
— Рыбаков пишет роман «Одинокая женщина», — сказала Панова и наклоном головы поставила выразительную точку. — Пишут на эту тему и другие опытные писатели, и вообще, для молодежи сегодняшней это уже не проблема.
Ошарашенная подобным заявлением тогда, я не уверена сейчас, что сама Панова разделяла эту точку зрения (послевоенное поколение еще не успело вырасти), просто она видела, до какой степени не готова я для работы над книгой о нравственных потерях войны. Видела и по-своему предостерегала, что подтверждает следующая фраза:
— К этой теме вы еще вернетесь... не скоро, — сказала и задумалась, а потом, снова преобразившись, с каким-то азартным интересом спросила: — Что вы читали в двенадцать, четырнадцать лет?
Я могла ожидать чего угодно, только не этого вопроса, который бил меня наповал, а потому, чтобы оттянуть свое падение в ее глазах, пошла живописать, чем было для меня после Варшавы, точнее после роговских лесов, открытие НОВОГО МИРА, и, к великому изумлению увидела, как замелькали огоньки в глазах Веры Федоровны, лишь только речь зашла о временах, которые она вспоминала и понимала лучше моего, потому что, когда мне исполнилось двенадцать, ей было двадцать два. Свою комсомольскую юность вспоминала Панова. Я пойму это через пять лет (11. XI. 59 г.), когда из ее рук получу «Сентиментальный роман».
А тогда, в первый свой визит, сгорая от стыда, но храбрясь, я отчеканила мужественно:
— Сказки Перро!
Панова никак не отозвалась.
— Да, сказки Перро, — повторила я, вкладывая в этот до идиотизма правдивый ответ и досаду на себя, и многозначительный упрек судьбе, словно бы и Вера Панова повинна в том, что лишь к двенадцати годам я наконец попаду в русскую школу и томик Шарля Перро стану носить на занятия вместе с учебниками.
Вера Федоровна даже не улыбнулась. У меня мелькнула мысль, что она просто не поверила в возможность подобного убожества. Это окончательно испортило настроение, и тогда из глухого закоулка памяти, как щука из тины, вынырнула трагикомическая школьная «одиссея», и я заговорила о непрочитанных книгах своего детства, о Джеке Лондоне, спутанном с Джекки Куганом...
Эта беспощадно обличительная исповедь произвела на Панову, видимо, сильное впечатление. Она молчала удручающе долго, наконец задумчиво и словно бы не мне сказала:
— Да, дети жестоки.
Она медленно повернула голову и ушла взглядом в окно — поверх своего письменного стола, в даль Марсова поля, куда-то в свою даль. Это был первый случай, когда я могла спокойно рассмотреть ее не поддающееся описанию лицо, на котором попеременно, в зависимости от обстоятельств и настроения, господствовали то лоб и глаза, то плотно сомкнутый рот с обманчиво мягким подбородком.
Сейчас все черты ее лица, полностью свободного от напряжения, сделались на редкость плавными, а во всем облике выявилось само: это женщина... это мать!..[10]
Сработавшая интуиция подняла меня с места. Хозяйка дома сделала то же самое и по пути в прихожую, пропустив меня вперед, предложила остаться на обед.
Восточная пословица помогла мне вежливо уклониться от приглашения.
В прихожей, уже у двери, я повернулась к ней лицом. Мы встретились взглядами. Ее глаза, строго-дружелюбные, дали, однако, понять, что Вера Федоровна — собеседница осталась там, в кабинете, а тут, в шаге от меня, — Вера Панова.
Она молча опустила веки. Мягким движением приоткрыла дверь и выпустила меня из своего дома.
Не случайно въелась в память эта крутая железная лестница. Тяжело мне было спускаться по ней. Все более принижало недовольство собою: ну почему не заикнулась даже о том, чем была поглощена долгие годы и над чем билась? Ведь к тому времени мои многолетние «хождения» за живым русским языком по волжским плесам уже давали плоды. Были написаны рассказы: «За туманом», «Зимбиль», «Трудная ночь» (два последних будут потом отобраны Пановой в сборник «Прибой»), но до чего же нелегко они мне давались...
Вся энергия уходила на поиски своей, как я называла, нотной системы, чтобы, не списывая говоров, не подделываясь под великолепную речь волгарей, воспроизвести ее упруго-вольное звучание.
Вот чем надо было поделиться с Верой Федоровной, а я?..
Пока шла Марсовым полем, все больше распаляя в себе досаду, маячила перед глазами Волга: еще не оседланная плотинами, былинная, почти такая, какую видел Стенька Разин. И странное дело — из трех тысяч восьмисот километров красоты не левитановские плесы, не Жигули, а Кострома окаменела в зрачках со всею живостью первого взгляда: издали — бело-синяя, в приближении — белейшая встает на высоком берегу.
До лихости круто сворачивает здесь река, отчего город начинает вклиниваться, словно бы вплывая, в Волгу. Дымы фабричных труб усиливают это впечатление, и кажется, не ты плывешь, а сама Кострома проносит мимо свои набережные, совершенно безлюдные с реки. И только поднесенный к глазам бинокль расколдовывает мертвый город: над черепичными крышами летает бумажный змей; внизу, под склоном, босые мальчишки играют в футбол; у самой воды, на мостках, в затишье заката, как жаром из печи освещенные, женщины стирают белье. Подле без толку бродит теленок...
Между двумя ударами сердца успело мелькнуть это зрелище, а сколько понадобилось слов, чтобы передать его хоть самую малость.
Громада накопленного материала вылилась в цикл рассказов, в тоненькую книжку (четыре авторских листа), названную лоцманским термином «Кто идет?». Самые хорошие слова услышала я от Веры Федоровны, а затем и прочитала об этой моей, по сути, первой работе в прозе.
Забегая вперед, отмечу еще одну черточку характера Пановой: делать доброе, не афишируя. Чаще всего те, кому она помогала, понятия об этом не имели, а узнав, не осмеливались благодарить!
Такая история произошла как раз с книгой «Кто идет?», залежавшейся в издательстве из-за того, что объем ее мал. Так бы и сказали! А то время от времени меня вызывал главный редактор и прямо ошарашивал своими замечаниями: первое — убрать вопросительный знак из заглавия, якобы наводящий на ненужные мысли! Убирать этот знак вопроса я отказалась. Проходили месяцы... В следующий раз главный редактор потребовал написать пространное предисловие о великих стройках, только-только начинавшихся на берегах Волги, в то время как рассказы были о тружениках Великой реки!
Я написала коротенькое послесловие, и дело заглохло еще на полгода, как вдруг, тоже без каких бы то ни было пояснений, книга внезапно вышла!
Когда мне вручали авторские экземпляры, в редакции нашлась добрая душа и подарила мне «на память» три страницы отпечатанного на машинке текста. Это была рецензия Веры Пановой!
Я не стану цитировать многих прекрасных, мне одной дорогих слов, приведу лишь те, что, видимо, решили судьбу издания: «...Пусть книга невелика: такого рода проза, где каждое слово отточено, имеет свои меры...»
До сих пор не знаю, как и почему были написаны эти строки. Я никогда не жаловалась Вере Федоровне и ни о чем не просила. Маловероятно, чтобы обо мне позаботилось само издательство.
Не на меня одну тратила свое время Вера Федоровна Панова. К судьбам целого поколения молодых ленинградских писателей были направлены ее высокий интерес и активно добрая воля. Хочется верить, что не умолчат об этом Виктор Конецкий, Владимир Лаленков, Виктор Голявкин, Эдуард Шим, Андрей Битов и многие еще, о ком мне неизвестно, потому что весною 1965 года я была вынуждена покинуть Ленинград.
* * *
Не знаю, не считала, сколько раз перешагнула порог дома Веры Федоровны. Живут, пока жива, только те «разы», когда случалось чрезвычайное. Сейчас в этих скупых воспоминаниях постараюсь хотя бы расположить встречи в той последовательности, в какой они происходили.
Вот, что врубилось в память, как клинопись в камень:
Двадцать шестое мая 1955 года. Это захотелось даже озаглавить:
Мастер о рукоделии
В квартире номер четыре я бывала не только у Веры Федоровны. Раза два или три приходила сюда по делам ее мужа: он вел большую общественную работу с подростками и привлекал меня к ней.
Под датой «26 мая 1955 года» в моей рабочей тетради есть любопытная запись, связанная с одним из таких визитов. Когда я уже прощалась, в прихожую вышла Вера Федоровна, тепло, но, как всегда, очень сдержанно поздоровалась со мною, и тут ее супруг ни с того ни с сего и почему-то очень весело заговорил об огорчении, которым я имела неосторожность с ним поделиться.
Дело в том, что в те дни готовилась к изданию моя первая книга — повесть «Два человека». Редактором ее был писатель Всеволод Петрович Воеводин. Он сделал несколько мелких необязательных замечаний, к словам не цеплялся, и я, благодарная ему за это, не поинтересовалась, как он относится к повести, которую редактирует. Оказалось — никак! И это в лучшем случае, раз счел возможным в разговоре с нашим приятелем сказать о моих литературных начинаниях: «Болгарский крест!»[11]
Обиделась я отчаянно, виду, однако, не подала, хотя были все основания полагать, что приятель разделяет точку зрения моего редактора.
По обычаю горцев, обиду никогда не оставляют без ответа. Любого. Он может быть и шуткой.
С терпеливостью мула прождала я подходящего случая целых четыре года.
Журнал «Костер» в 1959 году опубликовал мою небольшую повесть «Руслан и Кутя», где есть глава с неожиданным на первый взгляд, но вполне оправданным названием: «Чем хорош болгарский крест». В этой главке мальчишка Витя проспорил другу «желание»: пойти к девчонкам, записаться в кружок рукоделия и вышить болгарским крестом Эльбрус. Витя угробил на это дело лучшие дни лета и вышил не только Эльбрус, но и своего пса Руслана у подножия горы.
Приятель при встрече сказал мне несколько одобрительных слов о повести, но не удержался и как бы вскользь заметил: «Только к чему эта полемическая деталь с Витей?!» Мы посмеялись, и «пустяк» забылся... но все это будет потом, а тогда, 26 мая 1955 года, на Марсовом поле мне было не до смеха.
Вера Федоровна внимательно выслушала, а затем то ли скептически, то ли горько произнесла:
— Все, что пишу я, дорогая Ричи Михайловна, тоже вышивание. Я давно чувствую, что мне надо искать решительно новое... Пока пишешь, и тянешься, и тебе трудно — это благо. Как только перестал тянуться и испытывать трудности — написанное становится вышиванием.
Я восприняла это как снисходительное мне утешение, не поняв тогда, что за этими словами стоит ее собственная, куда более серьезная боль.
С весны 1949 года по весну 1965-го я была свидетелем и отрадных и драматических событий в жизни литературного Ленинграда...
Сейчас и здесь хочется и должно сказать одно: как «Сережа» вырвался из «Ясного берега», став лучшей повестью Веры Пановой, так сама она своею выдержкой и противостоянием нелепым нападкам вырывалась из контекста литературы тех лет с ее «тенденциями» и... Да поможет мне разум воздержаться от эпитетов...
«Сереже» не нашлось тогда места ни в одном из «толстых» журналов, и только благодаря энергии и немалым усилиям двадцатидвухлетней Елены Тарасовой повесть в сокращенном виде была опубликована в журнале «Советская женщина» и только после этого в «Новом мире».
Ученицей Пановой я не была. А вот теперь, наткнувшись на одну коротенькую торопливую запись, обнаружила, какой живительно-вдохновляющей силой обладала проза этого мастера.
1 декабря 1956 года:
«Читаю «Сережу» Пановой. Сейчас прочла главу «Женька» — очень хорошо на душе. Пока такое чувство от этой правды, будто поставлена яркая лампа на пол и освещает снизу жизнь взрослых людей».
Этот навеянный Пановой образ возникнет заново в 1978 году в совершенно другом, но по духу родственном контексте на последних страницах моей повести «Кинто», где речь о старухе грузинке и трехцветном котенке, который, по преданию, приносит в дом счастье:
«Мудрая тем, что никогда не вмешивалась ни в чью жизнь, она отлично видела и радости все, и все печали, но про себя считала, что пророчество ее сбылось хотя бы потому, что этот комочек жизни, как лампа, поставленная на пол, осветил снизу лица».
Плагиат у себя самой имеет объяснение: «Сережа» заставил потрудиться душу. Она и запомнила лучше, чем голова. Кроме того, заводя рабочие тетради, видимо, из отвращения к фальши, я дала себе зарок: никогда не заглядывать в день вчерашний, не перечитывать[12]. Это дало результаты поразительные. Получились не связанные между собою зеркальные отражения событий, лиц, настроений; получилась правда — без ретуши и подтасовок!
27 июня 1957 года я была принята Верой Федоровной вечером. Принесла ей первую свою книгу «Два человека» и тут же получила «Сережу». Улучив момент, заглянула — оказалось, титульный лист вырван, и синими чернилами над текстом первой страницы еще вчера, судя по дате, написано: «Ричи Достян с пожеланиями и предсказанием самого лучшего в жизни. В. Панова. 26.V.57».
Так, по толике, прибывало тепла и щедрости:
«Эта встреча прошла без напряжения — легко и просто. В. Ф. подарила мне «Сережу», но самое приятное — это та легкость, с какою она улавливает мои, даже туманные, планы. Недавно от раздражения, которое начала вызывать работа над затянувшейся волжской сюитой, пришла счастливая мысль: как только сдам рукопись в «Советский писатель», сразу же примусь за повесть о детстве. Варшава — Рогув — до выезда в Тифлис. В. Ф. сразу подхватила эту мысль, посоветовав:
— Только не пишите историко-биографической повести, не надо держаться документальности — это даст свободу и яркость. Второе — садясь за вещь, надо помнить, что дети все понимают — не нужно приспосабливаться к детской мнимой ограниченности. В тринадцать лет (она подчеркнула это паузой) я была совершенно уверена, что самая умная в доме я, что я больше всех знаю и лучше всех все понимаю!
И еще подсказала, что и мне самой представлялось единственно возможным в данном случае — не нужно рисовать события последовательно от автора. Лучше сочными, яркими эпизодами дать их через мир маленьких человеков, по-своему толковавших политические события, картины повседневной жизни, нужду, забастовки, отношение фабричной ребятни к управляющему; надо непременно расспросить маму о людях, живших тогда с нами. Да, не забыть насчет книг, которые необходимо прочесть! Помню, как это было сказано:
— Мой вам добрый совет, прочитайте, если в свое время этого не сделали, Аксакова, и не только «Детство Багрова-внука», но и «Семейную хронику», и непременно «Давида Копперфильда» Диккенса и... Желиховскую очень советую! «Как я была маленькая», и «Отрочество» — да, да! И не смотрите на меня так — все это глупости, я даже Чарскую читала, и, как видите, ничего ужасного не произошло... Я вам больше скажу — если вы этих книг еще не читали — это даже к лучшему...
Я опустила голову, раздумывая: напомнить историю с Джеком Лондоном, или... вместо этого довольно твердо сказала:
— Непрочитанные книги мстят!
Вера Федоровна неожиданно рассмеялась:
— Да будет вам, я все отлично помню. Ну, повесьте себе это над книжной полкой.
Когда я уходила, она еще раз поблагодарила за книгу, потом левой рукой потрепала меня «на счастье» по плечам, говоря:
— Вот увидите, эта ваша повесть будет переведена на многие языки.
Пророчество ее сбылось.
Кончался 1959 год, по многим семейным и бытовым причинам очень для меня тяжелый. Работала урывками и, как это ни покажется странным, над двумя вещами сразу. Над книгой о детстве (занозой сидела оброненная Верой Федоровной фраза: «Обернитесь к тому, что лучше всего знаете»).
Вот я и обернулась. Начала с большим увлечением, но скоро остыла.
Вторая вещь была навеяна говорами, которые заполонили Ленинград: псковским и новгородским. А героиню подарил ломбард. Чудо-деваха стояла со мною в очереди: яркая, умная, энергичная крестьянка. Одна из тех, что берут города на абордаж!
Придя домой, я тут же завела папку, написала на ней: «Для чего я вышла замуж...» (условное название будущей повести). Деваха замуж выходила за Ленинград и такое говорила о своем женихе, что и про себя повторять не стоит...
Первое зернышко повести «Тревога», хотя в ней и не прорастет. Второе — фраза, услышанная на трамвайной остановке. Приведя меня в ярость, она-то и вылепила образ «Славкиной мамки».
Ад на душе, плюс безденежье, плюс тысяча забот — все это непостижимым образом, легко и быстро, очертило контуры книги. Еще ненаписанная, она уже была... Откуда только берутся силы, которых у тебя уже нет?
Мне нелегко этими подробностями о себе предварять рассказ об одной из самых поразительных встреч.
Не только доброй волей, проявленной щедро и своевременно, обязана я Вере Пановой. Ее доверие — на грани риска — обязало меня и окрылило!
Я пришла на Марсово поле в великолепном перенакаленном состоянии, когда нервы смывают все второстепенное, навсегда оставляя в памяти то, чему цены нет.
Не помню начала разговора. В обычном смысле его, собственно, и не было. Был мой фонтанирующий монолог. Вера Федоровна слушала с разжигающим собеседника вниманием. Дважды, как в топку, подбрасывала: «Отлично!»
В энергическом поле этого внимания я на ходу вносила поправки, переставляла акценты, отбрасывала лишнее — я работала в кабинете Пановой, как за собственным письменным столом, только вслух.
Не помню, сколько времени это длилось, а вот пауза?! Есть что-то жуткое в долгом молчании твоего собеседника. Вдруг Вера Федоровна протянула руку и сняла телефонную трубку. Я опешила, впервые обратив внимание, что, на какой бы час ни назначалась встреча, телефонные звонки никогда не врывались в разговор.
Пока Вера Федоровна набирала номер, я успела даже найти объяснение своему открытию: это порядок! Порядок и дисциплина — изначальные черты ее облика! Сколько раз замечала: стоит ей войти, как люди закрывают рты и подтягиваются. Очень медленно Панова набирала нужный ей номер, а когда набрала, показалось, что она поет. Слова потекли мягко, протяжно, как это бывает в очень хорошем настроении:
— Михаил Леонидович[13], здравствуйте... прекрасно, да-да... Михаил Леонидович, будьте добры, позвоните в понедельник Досковскому и скажите ему, что вы тоже прочитали рукопись Ричи Достян... Да, имеет — «Тревога» называется повесть. С автором необходимо заключить договор... Да-да!.. Будьте здоровы.
Кладя трубку, обернулась ко мне и сухо сказала:
— В издательство пойдете в конце недели и, когда будете заполнять что полагается, напишете пятнадцать авторских листов, хотя у вас, я уверена, получится значительно меньше.
Не тогда, разумеется, а сейчас вижу, что Вера Федоровна знала о неблагополучии моем всяческом — вот и подставила плечо. Не в первый раз и не мне одной, кстати. Ее интересовали и заботили не только наши творческие данные, а и возможность их осуществить!
10 декабря 1959 года был подписан договор с издательством «Советский писатель».
Так, благодаря доброй воле Веры Пановой, проявленной своевременно и щедро, я смогла написать повесть, которая и дала мне право голоса в литературе.
Наш век лихорадит модами. Пошла мода и на слова. Ныне любой положительный поступок именуют добротой. Идет это от лени поискать более точное слово.
Панову нельзя назвать доброй, хотя для каждого, кто попадал в поле ее зрения, это оборачивалось благом.
Рачительная, разумная озабоченность Пановой судьбами идущего на смену поколения была МЕЦЕНАТСТВОМ в лучшем смысле этого слова — бескорыстно-благородным, не имеющим ничего общего с бытующим ныне, мягко говоря, покровительством, которое нередко наносит вред не только литературе, а подчас и русскому языку. Помимо истинно одаренных, в «писательский цех» хлынуло множество не имеющих для этого никаких оснований, кроме предприимчивости.
Меценатство идет на пользу и литературной смене, и культуре в целом, освежает ощущение времени у мастеров зрелых.
Вспоминая теперь, как увлеченно и вместе с тем сурово-пристально вглядывалась Панова в пишущую молодежь, у меня есть основание думать, что для нее это было еще одной, целенаправленной формой познания действительности — емкой и до чего же многогранной!..
Вера Федоровна острее многих понимала, что время наиболее внятно говорит голосами молодых! Даже самых «зеленых».
Прошли десятилетия, и я с чистой совестью во всеуслышание говорю: отрадно думать, что в благодарной памяти нашего поколения остается жить Вера Панова, не знавшая ни равнодушия, ни покоя.
Внуково, 1984
[1] Станция и поселок между Варшавой и Ченстоховом, где прошло мое раннее детство.
[2] Несколько деталей из этого текста использованы в повести «Кинто».
[3] Тари — восточный струнный инструмент.
[4] Чихтикопи — женский головной убор грузинского национального костюма.
[5] Натахтари — новое в то время водохранилище.
[6] Годори — плетеная корзина конической формы.
[7] Толма — род голубцов, где начинка завернута в виноградный лист вместо капустного.
[8] Нинов А. А. Вера Панова. Жизнь, творчество, современники. Л.; «Советский писатель», 1980.
[9] Имена заметных тогда писательниц-женщин.
[10] В разговоре, который состоялся весной 1984 года, Наталья Арсеньевна Озернова, дочь Пановой, как-то подчеркнуто отметила: «Мама работала за обыкновенным раздвижным столом старого образца, без тумб! Он всегда был покрыт чем-то мягким типа пледа — так уютнее…»
[11] Болгарский крест — род вышивки, модный в те годы.
[12] Все цитаты из тетрадей дословны. Дополняю их подробностями, если всплывают при перечитывании.
[13] Михаил Леонидович Слонимский — известный писатель, прозаик, тогда он был первым секретарем правления Ленинградского отделения Союза писателей.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





