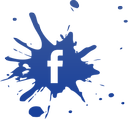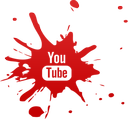ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
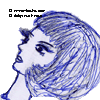
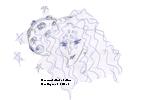
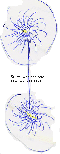
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
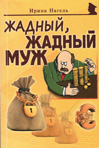
© Емельянова Нина 1955
«Микитин»
Мой отец служил в конторе ткацкой фабрики Никитина, в Замоскворечье. Пятьдесят лет назад улицы в Москве были вымощены булыжником и весной между камнями прорастала зеленая травка. Езда тогда была небольшая, автомобилей в Москве совсем не было.
Широкие дворы почти сплошь были покрыты мелкой ромашкой, которая так сильно и приятно пахнет, если потереть ее в пальцах. Этот запах, как только я его вспомню, переносит меня в детские годы на большой двор Никитской фабрики.
Зеленая травка на этом дворе, правда, росла только у заборов да за фабричными сараями, а вся середина двора была вытоптана: здесь каждый день на фабрику проходили сотни рабочих.
Мы жили в небольшом деревянном домике, который все называли «флигель». Окна и крыльцо его выходили прямо на фабричный двор. Напротив поднимался угрюмый каменный фасад фабрики с небольшими окнами. На солнце окна отсвечивали радужной пылью.
Каждое утро по нашему двору в пролетке с откинутым верхом подъезжал к фабрике человек, которого отец называл «хозяин». Толстый кучер натягивал вожжи и круто осаживал рыжую лошадь с тонкими, резвыми ногами. Хозяин, медлительный, грузный человек, выходил, накреняя набок пролетку, и исчезал в темном отверстии раскрытой двери. Над дверью была железная вывеска с надписью: «Контора».
Все это я стала понимать гораздо позднее. А в то время мне было всего три года и у меня была подружка Дуняша, девочка с толстенькой, короткой косичкой, дочь ткача. Дуняша была вдвое старше меня и часто приходила к нам домой играть.
Каждый раз, как только со скрипом растворялись широкие ворота фабрики, показывалась знакомая, подтянутая на вожжах лошадиная голова и круто изогнутая шея с длинной золотистой гривой, Дуняша подбегала к окну, взглядывала и говорила всегда одно и то же:
— Вон Микитин приехал!
Однажды теплой весной мы с ней играли на дворе, около ворот. Дворник Данила быстро пробежал мимо меня открывать ворота.
— Ой! Микитин приехал! — испугалась Дуняша. — Ты стой тут, а я побегу. Микитин — не дай бог с ним не поздороваться — заругает! — И убежала.
Пролетка остановилась у конторы. Лошадь со вздернутой вожжами головой жевала удила, влажные добрые губы были приоткрыты, и по углам их висели клочья белой пены. Хозяин слез с пролетки и вошел в дверь конторы.
Кучер отпустил вожжи, лошадь потянула голову вниз и переступила ногами. Одна передняя ее нога была плотно забинтована до колена. Я подошла поближе: голова лошади повернулась в мою сторону, круглые глаза смотрели на меня кротко и задумчиво.
Несомненно, это был кто-то очень добрый, и его хотелось погладить. Я подошла почти к самой морде, очень большой. Лошадь повела на меня светящимся глазом.
Тогда я вспомнила наставление Дуняши, подошла еще на шаг, на всякий случай поклонилась и сказала:
— Здравствуй, Микитин!
«Микитин» не заругался — может быть, потому, что с ним поздоровались, — и посмотрел еще добрей.
В это время сзади кто-то засмеялся, чьи-то руки подхватили меня под мышки и подняли высоко-высоко. Я обернулась и увидела очень близко веселые голубые глаза отца и буйные его русые волосы надо лбом.
— Это разве Микитин? — сказал он смеясь. — Микитин — это хозяин. И не «Микитин», а Никитин. А это — лошадка, хорошая, добрая...
Отец подошел ближе к «Микитину», и я погладила большую, добрую морду.
Дедушка Никита Васильевич
Дуняша все равно продолжала называть хозяина «Микитин», хотя теперь я уже хорошо знала, что это не так. Надо говорить: «Никитин».
Но вокруг меня были люди, которые называли хозяина так же, как Дуняша. Одного такого человека я очень любила. Это был дедушка Никита Васильевич. Так его звали я и мама. А отец называл дядей Никитой. Сам себя он тоже называл — Микита Васильевич.
Он был высокий, широкий в плечах, с большой русой бородой. В бороде его было уже много седины, а около носа на седоватых усах были желтые подпалины: дедушка Никита Васильевич нюхал табак.
На это бывало очень интересно смотреть. Он доставал из кармана маленькую черную табакерку с золотым цветочком наверху, щелкал по ней сбоку пальцем и открывал крышку.
Потом двумя пальцами брал щепотку табаку и, наклонив голову набок, подносил табак сначала к одной ноздре и нюхал. Большой его красноватый нос морщился и глаза прищуривались; он откидывал голову назад, лез в карман за платком и... чихал: «А-ап-чхи», развертывал огромный, красный в клеточку платок, вытирал нос, бороду и глаза. Потом закладывал щепотку табаку в другую ноздрю.
Дуняша говорила, что нос у Никиты Васильевича потому красный, что он «закладывает», а я думала — нос бывает красный оттого, что в него закладывают табак.
Дедушка Никита Васильевич всегда пил чай с блюдца, сахар откусывал крепкими желтоватыми зубами. Он брал меня к себе на колени, придерживая одной рукой, и говорил густым голосом, веселыми, подобранными в рифму словами:
Скок-поскок, молодой дроздок
По водичку пошел, молодичку нашел.
Молодиченька-невеличенька:
Сама с вершок,
Голова с горшок.
Рука у него была такая большая, что, когда он гладил меня по голове, рука сразу накрывала всю мою голову. Обычно он приносил мне маковник или пряник, смотрел, как я ем, и приговаривал:
— Жуй, жуй бабками!..
Дедушка Никита Васильевич приходил к нам по воскресеньям. Он со своей женой и дочкой Варей жил на Пресне и всю неделю работал в бахромной мастерской на Садово-Триумфальной. Теперь там площадь Маяковского и уже не найдешь тех маленьких домиков, в которых работали тогда городские ремесленные люди.
Напротив фабрики Никитина, на углу улицы Щипок, всегда стоял продавец орехов. Тогда на улицах Москвы продавали орехи, яблоки, груши с лотков. Лотки были длинные, деревянные. Продавцы носили их на голове, а чтобы лоток плотнее держался, подкладывали под него круглый, как баранка, свернутый жгутом платок.
Чуть-чуть придерживая лоток двумя пальцами, продавцы ходили по улицам и кричали:
— Яблоки, яблоки! Кому надо яблоки?
Вот такой продавец становился всегда на углу Щипка, снимал лоток с головы, ставил на раздвижную подставку и целый день покрикивал нараспев:
— Орехи, грецкие, волошские! Кому орехов?
А иногда:
— Фисташки свежие! Кому фисташки? Горсть — восемь копеек! Две горсти — пятиалтынный!
Фисташки считались дорогими, «привозными» орехами: пятиалтынный — пятнадцать копеек были в то время для рабочего человека хорошими деньгами. Поэтому и продавали фисташки особенно — «на горсть»... Горсть можно было взять как угодно, и каждый думал, что уж... он-то захватит!
Дети фабричных рабочих всегда глазели на орехи, но покупали редко. Иногда в сопровождении десятка мальчишек прибегал красный от волнения счастливчик, зажав в кулаке несколько медяков, и шептал себе под нос:
— Дядя... орехов...
Белые фисташки горкой лежали на лотке, скорлупки их были раскрыты клювиками, и в них виднелись зелено-розовые ядрышки. Высокий, худощавый разносчик в косоворотке и потертой фуражке, подпоясанный белым фартуком, веселый и хитрый, опускал в карман монеты и говорил:
— Бери поболе, мне не жаль! Сколь заберешь — все твое! Гляди-кась, какой орех! — и, улыбаясь во весь свой большой красный рот, разламывал пальцами скорлупки и кидал себе в рот зелено-розовое ядрышко.
Счастливчик засовывал поглубже в кучу орехов маленькую ручонку и, ухватив побольше, вытаскивал. Но в руке оставалась почему-то совсем маленькая кучка.
— Эх ты, не столь много вытянул! — соболезнующе говорил разносчик, глядя на готового заплакать покупателя. — Ну, другой раз поболе ухватишь...
Раз в воскресенье, когда у нас был дедушка Никита Васильевич, дали и мне серебряный пятиалтынный на орехи. Я подбежала к разносчику, быстро отдала ему монетку и, примерившись, где горка орехов повыше, широко растопырила пальцы и начала забирать орехи в горсть. Несколько босых девчонок в заплатанных платьишках, прибежавших из фабричного общежития, окружили меня.
В самой гуще орехов я сжала руку как можно крепче и стала вытаскивать. Но чем крепче я сжимала, тем больше орехов выскальзывало у меня между пальцами. Я раскрыла ладонь: на ней лежала маленькая кучка.
Вероятно, я собралась заплакать.
Через дорогу переходил к нам дедушка Никита Васильевич.
— Так... — сказал он разносчику. — Много же ты наживаешь, молодец!
— Что вы! — сказал разносчик ухмыляясь. — Зато орехи-то каковы!
— Хороши, хороши, что и говорить! Ай, возьму-ка и я горсточку.
— Пожалте-с! — с готовностью поклонился разносчик.
— Вот тебе за две горсти сразу! — сказал дедушка Никита Васильевич и отдал деньги.
Фабричные, сидевшие у ворот общежития, встали и подошли посмотреть.
Дедушка Никита Васильевич выпрямил свою огромную ладонь, как лопату, прижал большой палец к ладони, согнул ее слегка, подвел под низ ореховой насыпи и стал поднимать. Высокая ровная горка орехов появилась на его широченной руке.
— Это человек со смекалкой! — сказал подошедший рабочий.
Все смеялись и хвалили дедушку. Девчонки визжали от восторга. Продавец сказал негодующе:
— Что же это-с? Какая же это горсть-с? С одного разу все орехи перетаскаете!
— Твои были правила, купец, моя — сноровка. Привык обижать малый народ! Нате, ребята!
Дедушка высыпал в подол девчонке всю горсть и велел разделить всем поровну.
— Ну, теперь другую! — сказал он.
— Уговор дороже денег, — скучно сказал разносчик.
Дедушка Никита Васильевич вытащил вторую горсть еще искуснее: эта кучка орехов была шире и выше первой. Разносчик даже плюнул и махнул рукой.
Дедушка отсыпал девчонкам еще понемногу орехов, а остальные понес в дом, сказав:
— Это я Грунечке!
Так он называл мою мать.
Жаворонки
Моя мать родилась двадцать второго марта, в день весеннего равноденствия. В булочных в этот день продавались испеченные из теста жаворонки, и дома говорили: «Сегодня жаворонки прилетели». Я думала, что это говорят не про настоящих жаворонков, — куда же им прилетать зимой?
Дедушка Никита Васильевич пришел раз в день маминого рождения и сказал, что мы пойдем с ним за город встречать весну. Я хорошо помню этот день: мне было тогда уже лет пять. Меня тепло одели, завязали голову колючим шерстяным платком, и мы отправились.
Сначала мы сели на конку. Трамваев тогда еще не было. Вагон конки тянули запряженные в него лошади. Вагон тихо катился по рельсам и поскрипывал на поворотах. Было утро, и с нами ехали деревенские женщины, приезжавшие на базар. Дедушка спросил одну из них:
— Ну, как жаворонки? Прилетели?
— Как же, как же! — ответила женщина. — Поют!
Конка остановилась, и дедушка сказал, что дальше она не пойдет. Мы вышли, повернули за угол дома, и перед нами открылось блестящее на солнце белое поле. На снегу грядкой лежала потемневшая дорога.
Дедушка Никита Васильевич взял меня за руку и повел к дороге прямо по снегу. Снег был мягкий, неглубокий. На нем позади нас оставались следы — большие, широкие, и маленькие, мелкие следочки. Дедушка — большой, в желтом полушубке — шел, подняв голову, и глубоко дышал. Снизу мне были видны борода его и крупный нос с широким изгибом ноздрей, розовые широкие скулы и нависшие над глазами густые с сединой брови.
— Дыши, дыши носом! — говорит он мне. — Тяни воздух глубже.
Я тяну носом, и воздух, кажется мне, пахнет, как летом, травой и цветами.
По дороге легче идти — она плотная, бурая. Всюду торчат соломинки, валяются клочки сена. Солнце светит ярко. В вышине над снежным полем чисто и легко звенит голос маленькой птички.
— Дедушка, это кто поет?
— Жаворонки прилетели, вот и поют, — отвечает дедушка.
— А почему они зимой прилетели?
— Они весну принесли. Теперь зиме конец! Теперь весна настанет.
— А как она настанет?
— День прибавится, вот как!
— А как он прибавится?
— От ночи займет. Нынче равноденствие: день и ночь сегодня равны. А завтра день будет больше, а ночь укоротится. Солнце засветит жарче, снег растает, трава пойдет.
— Весь снег завтра растает?
— Не весь сразу, а помаленьку. День-то прибавляется всего лишь на воробьиный скок.
— А какой это скок?
— Видела, как воробьи скачут? Сколько прыгнет — это и есть скок. Так, день за днем, подойдет весна, заиграют овражки, и придется мне, видно, еще раз до весны дожить.
— Почему еще раз?
— А может, больше и не доживешь. Жизни уж много миновалось... Видишь — борода седая.
— Ты, дедушка Никита Васильевич, поживи еще.
— Это уж как придется. Я не отказываюсь!
Он берет из маленькой табакерки щепотку табаку, нюхает и, зажмурясь, чихает. Потом долго прислушивается к пению смелой птички, прилетевшей среди зимы с новой весной.
Звонкая песня жаворонка кругами поднимается выше и выше в небо. А птички не видно! Голова у меня покрыта шерстяным платком, связанным матерью. Я верчу головой вверх и вниз, направо и налево, и платок мой понемногу сползает на затылок. Дедушка этого не видит. Я свободно поднимаю голову и вижу — высоко надо мной в голубом, чистом воздухе трепещет и уносится с песней вверх маленькая птичка.
— Я бы до ста лет жил, — говорит дедушка Никита Васильевич, — да здоровье у меня попорчено... У нас в бахромной мастерской пыль, бывало, летит густо. Оттого, Саша, у бабушки твоей, Маланьи Михайловны, здоровья-то вовсе нет. Глотаешь эту пыль, глотаешь, а выдохнуть и время не найдешь... По полям-то я только на старости лет стал похаживать, раньше часу времени не было.
— Почему?
— Кто работает, тому гулять недосуг.
— Микитин заругает?
— Ясно, что Микитин.
Дедушка Никита Васильевич смеется. Я уже знаю, что Микитин — хозяин фабрики, где служит мой отец, — может заругать, рассчитать и выгнать рабочего с семьей...
И тут дедушка замечает, что голова у меня открыта.
— Эх, ты! — говорит он. — Накройся платком, не студи голову. Головой-то еще жить понадобится. У нас все в роду с головами. Хоть отец, хоть мать возьми. Или деда с бабкой... — И, тихо ступая по дороге большими ногами, обутыми в валенки, подшитые кожей, рассказывает: — ...Сестра Авдотья, твоего папани мать, со мною же в бахромной работала. Когда нам волю дали, нас дядя из деревни в Москву взял. А до того мы были крепостные.
— Это какие — крепостные?
— Подневольные люди, вот какие, которые на помещика работали. А помещик мог крепостного человека продать и купить...
Дедушка на минуту замолкает.
— Нас только двое от всей семьи осталось: я да Авдотья. Поставил нас дядя в бахромное заведение работать. Маленькая фабричка была, вроде мастерской. Хозяин наш на Коншинской фабрике шелковую и нитяную пряжу покупал. Из нее бахрому, шнурки, кисти разные делали. Авдотью частенько за шпульками посылали на фабрику. Она красивая была, степенная. Спросят — ответит скупо, лишнего не молвит, тяжелый узел подхватит да и пойдет. Ее твой дедушка, Иван Иванович, приметил. Он у Коншина на фабрике узоры для тканей составлял, молодой совсем был...
«Как вас зовут?» — спрашивает. «Авдотья Тароватова». — «Позвольте, я вам узел донесу». — «Нет, вам мой узел не унести». — «Как так?» Схватил узел, да не удержал. Авдотья улыбнулась, а в улыбке она еще краше становилась. «Я же говорю: за нашу работу легко не возьмешься». Подняла узел и пошла. После дедушка твой пришел ко мне сватать сестру. Я его знал. Он тоже калужский был, деревня их недалеко от нашей.
«Что, говорю, торопишься, Иван Иваныч? Ты ее мало знаешь». — «Я, отвечает, год на нее глядел, один раз говорил, а век прожить думаю». — «Ну, говорю, дело твое, а на меня не обижайся»...
Речь дедушки течет плавно, я не все понимаю в ней, но мне хорошо идти с ним рядом по полю и слушать.
— Ну, стали твои дед и бабка жить вместе, — Саньки, твоего отца, родители. Дедушка потом с Коншинской фабрики ушел, у француза-фабриканта служил; тот дорожил Иваном. За его ткани хозяину не один раз медали на выставках присуждали. Потом хозяин прогорел, фабрику продали, деда твоего по шапке... Дед вскорости и помер.
Так мы долго идем с дедушкой Никитой Васильевичем. Снег обтаивает на солнце. Взятый в горсть, он рассыпается зернами и пахнет свежо и душисто.
— Не хватай снег руками, — говорит он, — языком не пробуй: не сахар! А простудишься — мать больше никогда со мной не пустит. Аль тебе неохота со мной гулять?
— Охота, охота! — кричу я и обеими руками хватаю дедушкину руку.
— Ну, то-то! Вот, значит, и слушайся.
Дедушка останавливается и глядит вперед: по дороге, навстречу нам, двигается лошадь, запряженная в розвальни. Человек шагает рядом; его сопровождает, то и дело забегая вперед, желтенькая собачка с острыми ушками.
Дедушка оглядывается:
— Ты гляди-ка, куда мы зашли! Москвы-то почти и не видно. Не пора ли домой?
Он дожидается, пока встречный человек поравняется с нами, и спрашивает его о чем-то. Они стоят и разговаривают, поглядывая на солнце. Лошадь тоже остановилась и опустила голову — потянулась за клочком сена на дороге.
— Залезай в сани, — говорит мне дедушка, — а я пешком пройдусь.
Я бегу и бросаюсь на сено, постеленное в розвальни. Собака прыгает за мной. От нее пахнет влажной шерстью и талым снегом. Пахнет и сено, и подтаявшая за день дорога.
— Но-о! — кричит хозяин, и лошадь, мотнув головой, трогает с места.
Я сижу на сене, обхватив шею мирно улегшейся собаки. Передо мной покачивается спина лошади, мерно переступают покрытые блестящей шерстью ноги, и длинный белесый хвост заносится ветром в одну сторону.
Около саней, быстро семеня ногами, идет невысокий хозяин лошади, и рядом с ним широко шагает большой, бородатый дедушка Никита Васильевич. Теперь я слышу уже не одного жаворонка — они поют высоко над нами, и впереди, и по сторонам. В небе катится солнце, звенят уже неумолчно жаворонки...
Я просыпаюсь оттого, что собака выскакивает из-под моей руки и начинает лаять. Большая лошадиная морда суется сзади к нам в сани и кивает, будто лошадь мне кланяется. Над собой я вижу мягкие губы, влажные ноздри, белую полосочку от носа к большим добрым глазам и протягиваю руку. Но лошадь вздергивает голову, отстает немного и объезжает нас, проваливаясь в рыхлый снег. Стукаясь о наши розвальни, мимо продвигаются сани; в них сидит человек с красными щеками, в меховой шапке и правит.
Вокруг меня все так же светло, но это уже не поле, а городская улица. Лошадь останавливается перед деревянным домом с крылечком и желтыми ставнями. Из-под крыши вдоль всего дома висят толстые, длинные сосульки.
У ворот в желтой соломе роются куры, и красный, с зеленым хвостом петух, выгибая шею, звонко кричит «кукареку».
Из дома выбегает мальчик. Хозяин лошади говорит ему: «Открой ворота, сынок!» — и зовет нас погреться. Но дедушка Никита Васильевич отвечает, что нас уже дома заждались.
Мы прощаемся и уходим.
Из-за угла, позванивая и дребезжа, выезжает конка.
Я сижу рядом с дедушкой на лавочке конки, еду по Москве и смотрю на улицы и дома. За день они сильно изменились: снег около домов почернел и стал ноздреватый, как губка, крыши мокрые и блестят. И везде с крыш вытянулись толстые полосатые сосульки. Вот как скоро жаворонки принесли весну!
Мальчишка выскочил из булочной с жаворонком в руке. Жаворонок весь розовый, с черными изюминками вместо глаз, крылышки и хвостик разведены веером.
— А мне жаворонка? — спрашиваю я дедушку.
— Жаворонка! Мы с тобой живого жаворонка слышали, на что тебе такой?
— Мне жаворонка хочется!
— Ничего не сделается, потерпишь! Долго проходили мы с тобой — последнего жаворонка, видать, парнишка купил. Больше не осталось.
Мне жалко, что жаворонка мне не достанется. Может быть, в булочной остался хоть один? Но конка катится быстро: лошади, понукаемые кучером, торопятся. И мальчик и булочная с золотым калачом на вывеске уже далеко.
— Чего насупилась? — говорит мне дедушка Никита Васильевич. — А где мы с тобой, Сашенька, побывали-то? А?
Я снова вижу, как я ехала на розвальнях с желтой собакой и лошадиная морда кивала у меня над головой, а в небе звенели голоса маленьких птичек. И, не умея выразить, как все это мне нравится, я молча лезу к дедушке на колени...
Мама выбежала нам навстречу и сказала, что «старого и малого» нельзя пускать вместе — всегда пропадут. И спросила, где мы были.
— Мы живого жаворонка слышали! — сказала я.
Мама развязала и сняла с меня платок и пальтишко; они сейчас же запахли речкой и свежим воздухом, как пахло там, в поле. Волосы у меня слежались, и их пришлось расчесывать гребешком. Рукавички были мокрые, их сразу же повесили на отдушник. Мама стала доставать из шкафа и ставить на стол тарелки, а дедушка Никита Васильевич понюхал табачку и громко чихнул.
— Хорошо погуляли! — сказал он. — Одно плохо, Грунечка: пока мы гуляли, парнишка последнего жаворонка купил.
— Да ну? — спросила меня мама улыбаясь. — Тебе жалко?
— Жалко! — ответила я, залезая на стул.
И вдруг увидела на столе румяного, красивого жаворонка. Он смотрел выпученными глазками-изюминками, и носик у него немного пригорел.
Чудеса
В это утро солнце жарко светило в наши окна и сильно грело мою голову, склоненную над столом. Я потрогала волосы — они были совсем горячие.
— Пора уже рамы выставлять, — сказала мама, — весна!
И после чая она пошла со мной к Даниле-дворнику в сторожку, или дворницкую, как ее еще называли.
С радостным лаем кинулся ко мне Чок, белый породистый щеночек, подаренный мне дядей Петром, братом отца. Чок не прыгал, а, подняв голову, вилял обрубком хвоста и смотрел на меня блестящими глазами. Ясно было, что он звал меня побегать по двору. И пока мама разговаривала с Данилой, может ли он сегодня прийти выставить рамы, мы с Чоком выбежали вверх по лестнице из дворницкой.
Уже самый этот бег вверх по ступенькам доставляет радость. Мы с Чоком словно вырываемся из глубины подвала в голубой и ясный четырехугольник открытой двери. И вот — последняя ступенька, под ногами твердая, песчаная, с мелкими камешками земля, и вокруг нас широкий и светлый простор!
Чок мчится впереди меня, чуть приостанавливается, поворачивает ко мне голову и снова бросается вперед маленькими лапами, как будто он нападает на кого-то. Ветер охватывает меня, треплет волосы на непокрытой голове; мимо убегают забор, бревенчатые стены сараев; на бегу я вижу, как из красильной двое рабочих выносят на длинной палке большой ушат с раствором краски. Ушат покачивается, синяя маслянистая поверхность морщится, и в ней отражается, блестит солнце.
В теплый воздух врывается струя кислого, тяжелого запаха, но это уже позади. А впереди цель нашего путешествия — большой хозяйский сад за забором фабричного двора. С крыльца нашего флигеля видно, как над крышами фабричных сараев поднимаются в небо голые еще ветви высоких деревьев. Совсем недавно у сараев лежали сугробы снега и мальчишки прыгали с крыш, перевертывались на лету и ловко садились в снег. Я пролезаю между досками ветхого забора; в саду снег еще кое-где лежит, но его осталось совсем мало, а земля черная, мягкая, и от нее поднимается легкий пар. Ноги скользят на ней и оставляют большие следы. Интересно, что солнышко греет так сильно, а еще лежит снег! Через забор заглядывают девочки, наши подружки. Они прибежали за нами — мы с Дуняшей всегда с ними играем. А! Сейчас я их встречу...
Я подбегаю к плоскому, как огромный блин, пятну снега: надо быстро скатать снежок и встретить друзей. Но рука скользит по блестящей и твердой поверхности, снег очень крепкий, он весь точно слеплен из ледяных крупинок. На языке они быстро тают, и от них хорошо пахнет свежей водой.
И вдруг у подтаявшего края снега, там, где он, тонкий и прозрачный, прилег к черной земле, я замечаю: из земли, покрытой бурым прошлогодним листом, поднимаются два или три зеленых плотных листочка. Листья чуть разошлись, и между ними вылез плотный стебель, а на нем видны голубые цветы!..
Какие блестящие, совсем новенькие листики, как упорно пробиваются они вверх рядом с холодным снегом! Да что же это? Как они не боятся холода? И вот я какая — сама нашла эти цветочки, никто их мне не показывал, я сама!
— Девочки! — кричу я. — Идите сюда! Подснежники!
Я не знаю, рвать или нет это чудо-цветок, выросший под снегом, но я уже протягиваю руку... И в этот самый миг мелькают чьи-то пальцы, хватают цветок и срывают.
— Дура! — кричу я в отчаянии. — Кто тебя просил? Зачем ты его сорвала? Это мой цветок!
Я мчусь за длинной, убегающей от меня худенькой Феней. Вот я уже почти догнала ее, вот заношу руку, чтобы ее ударить, и в этот миг нога моя скользит по мягкой грязи — и я растягиваюсь на земле.
Уже не замечая, что все мое пальтишко выпачкано, я вскакиваю и снова бегу по снегу за Феней. Но крепкая на ощупь его поверхность не выдерживает, мелькающие передо мной Фенины ноги в толстых шерстяных чулках проваливаются все глубже, мои — тоже, и вот мы с ней не бежим, а, едва переводя дух, барахтаемся в снегу. Я хватаю ее за руку, вырываю подснежники... Но из нескольких цветов остался только один, и в помятых листьях нет уже той веселой, упругой силы, с которой они так смело вытягивались рядом со снегом...
— Куда это вас занесло? Разодрались, что ли? — спрашивает дворник, подходя к нам. — Тебе-то стыдно драться! — грозит он мне. — Вот погоди, я мамане скажу...
— Фенька подснежник сломала! — жалуюсь я, бредя по снегу к Даниле.
— Невидаль — подснежник! Идите, я вас помирю.
Большой, широкий Данила направляется обратно к забору, где у него посажены молодые яблоньки, и мы все бежим за ним. Он подходит к тому месту, где я нашла подснежник, и осторожно отгребает в сторону прелую листву. И под ней мы видим совсем маленькие ростки подснежников. Один... другой... еще... еще! Твердые синеватые листья плотно прижались друг к другу, цветов еще не видно, но мы все радуемся первым весенним растеньицам. Теперь мы вспоминаем, что подснежники росли здесь и в прошлом году, только мы не заметили, откуда они появились. Самое интересное — это то, что мы своими глазами увидели, как цветы сидят под снегом, дожидаясь весны.
— Вот и ходите, проведывайте, — говорит Данила. — Они обогреются на солнышке и зацветут.
Да, теперь уж мы не пропустим ни одного денька, все будем наведываться!
...Никто не видел, что я пришла домой в мокром насквозь платье, сняла его и положила за кровать. На мокрое белье я надела другое платье, и оно тоже сразу отсырело.
— Что это за переодевание? — строго спросила меня мама.
Но у нее не было времени вникать и разбираться: пришел Данила, и началось интересное для меня и, должно быть, трудное для него дело. Сперва Данила, ловко действуя стамеской, выковыривал замазку вокруг рамы, и замазка сыпалась на подоконник и на пол. Потом он отогнул клещами гвозди, забитые в подоконник, — они держали зимнюю раму, — открыл форточку и, взявшись за перекладину, начал, легонько потряхивая, тянуть раму к себе. Так он потихоньку все выдвигал да выдвигал ее, наконец вынул и поставил на пол рядом с окном. Потом он вверху и внизу открыл задвижки другой, наружной рамы, ухватился за ручку, нажал — и вот обе створки ее распахнулись. В комнату хлынул свежий, душистый воздух, и сразу все, что было до сих пор за окном, приблизилось: стали слышны голоса идущих по улице людей, по камням мостовой задребезжала пролетка, зачирикал, как будто у нас в комнате, воробей, близко залаял Чок, и шум фабрики вошел в открытое окно. Я вдруг почувствовала, сколько же разнообразных голосов, движений и шума, зимой приглушенных рамами, наполняет все вокруг меня!
Мама налила в большой таз воды и, став на табуретку, стала мыть мочалкой стекло. Мне и сейчас ясно видится ее крупная фигура на открытом окне, полная жизни и силы... Она наклонялась, наверно тоже радуясь воздуху и движению, и все так ловко спорилось в ее руках!
Потом она обернулась ко мне и весело начала:
Весна!.. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался...
Стихи эти я знала, но было удивительно, что и у нас все выходит как в стихах. От этого мне стало так весело, что я закружилась по комнате.
Вечером я спросила у отца, почему цветы не замерзли под снегом, и он ответил:
— Под снегом им было тепло, как под одеялом.
— Нет, — сказала я, — снег холодный... — и почувствовала, как мою спину пробирает озноб. Я повела плечами: спине было холодно.
— Что-то ты мне не нравишься сегодня, — сказал отец, — ежишься все время...
— Нет, я не ежусь, только мне холодно.
— Вот так штука! — Он приложил руку к моему лбу. — Так и есть. Иди-ка в постель! Груня, дай мне градусник.
— Интересно, где ты могла простудиться? — озабоченно спросила мама. — Я ведь говорила, чтобы ты не бегала с открытой головой. Ты не промочила ноги сегодня?
— Нет, — ответила я, — ноги у меня были сухие.
Мне было стыдно обманывать маму, но, если скажешь, она будет ругать, а мне почему-то именно сегодня этого не хотелось.
Я лежу на кровати, закрытая до подбородка одеялом, поверх одеяла положен мамин теплый платок. Меня сильно трясет, по спине волнами проходит озноб — значит, я в самом деле простудилась. Мама спит. Отец сидит, наклонившись над столом, спиной ко мне, и работает; вокруг его лампы с привернутым фитилем мне видны радужные круги. Ночью комната совсем другая, чем днем, и мне было бы страшно, если бы не спокойная фигура отца: вот он сидит и заслоняет меня от всего страшного и плохого на свете. Я очень люблю его, и мне хочется чем-нибудь показать это.
— Папа! — зову я.
Он встает и подходит к кровати.
— Мы сегодня по снегу бегали в саду и проваливались... вот я и простудилась.
— Я так и думал. — Он садится на стул около меня. — Почему же ты маме не сказала?
— Она будет ругать меня.
— А я?
— За то, что я ноги промочила, не будешь ругать, а за то, что не сказала, — будешь.
Он долго сидит молча. Потом кладет руку мне на лоб, качает головой и говорит:
— Спи спокойно. Раз уж сказала, никто тебя ругать не будет. Встанешь утром здоровой.
Но утром я не выздоравливаю, а даже начинаю кашлять, и мама применяет старинное, как говорит она, средство. Приготовление его необыкновенно занимает меня. Она берет синюю плотную бумагу — такой бумагой обертывают сахарные головы, — дает мне булавку и велит часто-часто накалывать бумагу. Я занимаюсь этим делом с увлечением, и скоро бумага делается похожа на терку. Мама смешивает свиное сало со скипидаром, намачивает бумагу и этой самой «теркой» обертывает мне шею и грудь.
Вот тогда-то я и узнаю, что значит лечиться старинными средствами! Скоро я понимаю, что лечение это можно вытерпеть только при полной неподвижности: малейшее движение головой — и колючая бумага больно царапает кожу. Пахнет скипидаром, грудь и шея становятся горячими.
— Ничего, — говорит мама, — потерпишь. Зато завтра как рукой снимет!
И действительно, завтра все снимает как рукой.
В этот день гулять меня еще не пускают, я сижу в комнате, и новая подружка приходит к нам во флигель. Это Маня. Вместе с матерью и отчимом она недавно поселилась на нашей улице. Мать ее тоже работает на фабрике. У Мани круглое, румяное лицо, щеки с ямочками, темные глаза, и она умеет шить куклам платья. Но самое главное — она учится в первом классе приходской школы. Маня гораздо больше меня ростом, и, когда мы с ней меряемся, она говорит:
— Ну конечно же, я выше: тебе только пять лет, а мне уже исполнилось девять.
Мы долго играем с Маней в куклы; потом она замечает в углу коробку с кубиками. Я в эти кубики не играю: они неинтересные. Знаю только, что на них написаны большие черные буквы: буква «А», буква «Б», еще какая-то буква...
— Давай играть в школу, — говорит Маня.
— Давай! Я буду учительница.
— Ну, чему же ты научишь? — резонно возражает Маня. — Ты будешь ученицей. Тебе надо фартук. А я буду учительница. И ты меня зови: Мария Степановна.
Я соглашаюсь. Быстрые руки Мани мастерят из синего лоскута настоящий школьный фартук. Из пестрого лоскутка она шьет сумку для книг и засовывает туда несколько книжек.
— Вот теперь ты пойдешь в класс.
Я усаживаюсь на скамеечку, «Мария Степановна» важно ходит по классу; на ее черных башмаках спереди и сзади торчат полосатенькие ушки. На табуретке передо мной она раскладывает кубики.
— Это буква «А»! — говорит она, останавливаясь передо мной и поднимая кубик. Потом повертывает кубик — на другой стороне его нарисована другая буква. — А это буква «Б»...
Так мы перебираем все кубики; одинаковые буквы попадаются по нескольку раз и легко запоминаются.
— А теперь, — говорит Маня, — мы будем складывать буквы, и ты взаправду научишься читать.
До сих пор шла веселая игра. Маня в своем коричневом школьном платьице, с гладко причесанными и заплетенными в толстую косу волосами и впрямь похожа на учительницу. Мне было очень интересно повторять за неё: а... бе... Но это все игра, а в игре разве можно научиться взаправду?
«Учительница» кладет передо мной два кубика и спрашивает, указывая на первый:
— Это какая буква?
— «Бе».
— Верно. А это?
— «А».
— А если рядом их поставить и читать подряд: б-а, выйдет «ба»!
Я читаю и подряд и по отдельности, но «ба» у меня не получается.
Маня то подходит ко мне, то отходит, кладет кубики и так и этак, ее движения спокойны, круглое доброе лицо с темными глазами наклоняется над непонятливой ученицей.
— Так и не можешь сложить?
— Не могу... — вздыхаю я. — Это ведь еще первый урок, на второй я, может, сумею.
На сегодня «учительница» отпускает меня домой.
Проходит час в веселой беготне, но по игре прошел уже целый день. И снова я в школе. Все-таки я никак не могу понять, чего добивается «учительница». Я тяну: б-а-а, а зачем — не знаю.
— Так все учатся! — объясняет Маня. — А ты немножко бестолковая.
Скучное, видно, дело — ученье!
— Ну, вот что, — говорит Маня, — положи букву «М». Теперь «А». Теперь опять «М», еще «А». Ты что сложила?
— «М-а-м-а»... — читаю я.
И вдруг совершается чудо: передо мной лежит и смотрит на меня слово «мама», я вижу это слово! Оно само читается с моего воображаемого школьного стола; оно говорит мне: «мама»! Это уже не просто кубики, не черные буквы! Что-то случилось, и передо мной появилось слово, которое я так часто говорю...
— Мама! — кричу я.— Мама!
— Ну, что? Поняла? — спрашивает «учительница».
Но я не верю, что у меня так может получиться еще раз: может быть, это только вышло по игре, нечаянно. Я легонько отодвигаю в сторону букву «М», потом «А»... Маня протягивает руку и вдруг перемешивает эти кубики со всеми остальными.
— Ой, — кричу я, — зачем ты испортила?.. — и начинаю плакать.
Маня смеется:
— А ну, сложи опять, как было сначала.
Со страхом, что может не выйти, не получиться, я выбираю одну за другой знакомые буквы. Подвигаю кубик с буквой «М», за ним другой...
И снова с белой длинной полоски, составленной кубиками, крупными буквами со мной говорит слово «мама»!
— Опять, опять вышло! — кричу я.
— Ну вот, ты и научилась читать «мама», — говорит «учительница». Приходи завтра в школу, будем учиться.
Так у меня появилась новая подружка Маня и новая игра. А Маню даже все взрослые стали называть: «Мария Степановна».
Кондратьев
Большой радостью для меня было слушать, как отец играет на скрипке.
Каждый день, просыпаясь, я слышала, как он подходит к столику, открывает футляр и замок щелкает на всю комнату. По шороху я догадываюсь, что он вынимает скрипку и смычок, подкладывает под подбородок бархатную подушечку, и звуки — сначала тихие — растут, расширяются и заполняют комнату. У них есть свой особенный, невидимый рисунок, и я его слышу.
Я открываю глаза. Отец стоит, прижимая скрипку подбородком, ведет рукой вверх тонкий смычок и чуть-чуть поворачивается вправо и влево. Утро смотрит в окна, на запотевших стеклах смутно видны листья большого фикуса. Мать уже умылась, большая ее коса завернута на затылке, и свежее, милое ее лицо наклоняется ко мне.
Эта встреча отцом утра лежит в начале удивительной, тоже утренней жизни, в которой самыми большими радостями были пробуждение, свет, звуки, движения, лицо матери... Мне кажется, что эти радостные события были всегда, как всегда были отец и мать. Но чем старше я становилась, тем больше знакомых лиц появлялось около меня. С пяти лет я уже ясно помню окружавших меня в детстве людей. И все же день начинается для меня всегда лицами отца и матери.
Как певчая птица, когда она кормит птенцов, лишь встретит утро чистой и ясной песнью, а потом умолкает, так и отец только несколько минут мог уделить музыке: он очень рано уходил на работу.
Он быстро отрывал от себя скрипку, как будто боясь промедления и трудного расставания, клал ее бережно в футляр, прижимал смычок скобочками на крышке футляра и с сожалением отходил. Я уже стояла около него.
— А, проснулись? — говорил он почему-то на «вы» и гладил меня по голове. — Ну, будь здорова! — Он подхватывал меня под мышки и поднимал высоко. — Ты знаешь, глазастый, что я играл? Вот погоди, мы это разберем когда-нибудь...
Когда я была совсем маленькая, он сажал меня на плечо и пробегал со мной по комнате. Потом шел в столовую пить чай и спрашивал:
— Что ты сейчас будешь делать?
— Пойду в дворницкую...
— Зачем?
— Там Чок сидит у Данилы.
За буйное поведение в комнате Чока по вечерам часто выгоняли за дверь, и умный пес отправлялся в подвал, к Даниле-дворнику.
— А потом?
— Потом будем с Чоком бегать по двору.
— А потом?
— Пойду к Кондратьевым, Дуняшу к нам позову...
Отец Дуняши работал на фабрике и жил с семьей в одной из густонаселенных домов для фабричных рабочих. Дома эти стояли на пустыре рядом с фабрикой, сразу же за нашим флигелем.
У Дуняши были круглые светлые глаза, коса, заплетенная по-деревенски — во множество тонких прядок и завязанная шнурочком. Вот она сидит на полу против своей маленькой сестренки, вытянув ноги в шерстяных полосатых чулках, держит в руке тряпочную куклу Ванюшку, стукает ее головой о пол и говорит нараспев:
— Ах ты сукин сын, Ванюшка, ты не хочешь нашу Катеньку слушать!..
Дуняша играла со мной не каждый день. Когда Ксения, ее мать, уходила на поденную работу в фабричную кухню, Дуняша оставалась дома — она должна была нянчить Катюшку, — и тогда я ходила к ней. Но играть около Катюшки, когда она «гуляла», было скучно и скоро надоедало.
После чая отец уходил на фабрику. Я провожала его до двери конторы, потом бежала в дворницкую к Даниле. Иногда Данила шел выбрасывать на помойку дохлую крысу, задушенную Чоком в чулане, и говорил:
— Развелось их, проклятых, сил нет! — И убеждал меня: — Ты оставь-ка мне Чока твоего. Пусть будет всегда жить со мной. Тебе прийти поиграть с ним и тут можно, а зачем его в доме держать? В доме он рвет все, Аграфена Васильевна сердится. Собака должна быть при деле. Он — крысолов, быстрая шельма...
Потом Данила, большой, неторопливый, в холщовом фартуке, брал лопату и шел на конюшню, а оттуда — в большой сад, где на открытом месте росли посаженные им молодые яблоньки. Он действовал лопатой как будто и не спеша, но дело у него спорилось: вот он сложил навоз в тачку, отвез в сад и быстро разбросал около тоненьких еще деревьев.
Я помнила эти деревца, когда они были еще пучком коричневых прутьев и Данила рассаживал их в саду. Несколько яблонек он посадил и во дворе, у забора. Данила говорил нам, что этой весной им пошел третий год, и ворчал, зачем хозяину «пришла блажь садить молодой сад, когда он и в старый не заглядывает».
Потом мы шли обратно к конюшне, где стояли две лошади, которых Данила называл «ломовыми». На них постоянно что-нибудь привозили на фабрику. Гладкая золотистая шерсть их так и лоснилась; они поворачивали к нам большие головы с мягкими губами и переступали, крепко стукая копытами о настил. Да! У нас было много такого, чего не увидишь на других дворах.
Мы с Дуняшей и другими девочками ходили за Данилой-дворником, пока не приезжал хозяин в пролетке на рыжей лошади и Данила бежал открывать ворота.
Днем во дворе собиралось много ребятишек из домов, где жили фабричные, и мы шли к дверям фабрики; ткачи часто давали детям картонные шпульки с остатками разноцветных шелковых ниток.
Внутри фабрики всегда что-то гудит, снует, стучит, и если заглянуть в дверь ткацкой, то видно, как в темной глубине ее что-то непрерывно движется, толкается, с потолка бегут длинные косые ремни, а внизу двигаются люди.
Отец говорит, что гудят и постукивают машины, а двигаются рамы ткацких станков; машин и станков на фабрике очень много.
В дверях красильной туда и оттуда проходят рабочие; иногда они выносят ушаты с растворенной краской и выплескивают ее тут же у забора. А из большой кирпичной трубы тянется густой, черный дым.
Он часто нависает над двором, заволакивает небо, и тогда пахнет гарью.
...Вечером мать ждала отца и не садилась без него за стол. Он приходил усталый, но всегда радовался нам. Часто по вечерам у нас бывал младший брат отца, дядя Петр. Он служил счетоводом тоже на ткацкой фабрике — Морозовской мануфактуре. Я не понимала, о чем говорят большие, но всегда сидела за столом рядом с отцом. Однажды отец принес лист бумаги, красиво исписанный буквами, и подал матери.
— Спрячь! — сказал он. — Мне на память Кондратьев написал. Рассчитали сегодня...
— Да ну? — ахнула мать. — Кондратьева?
Кондратьев, отец Дуняши, был человек особенный. Он был высокий, худой, с шапкой черных волос над широкими бровями. У него были глаза с мучительным, настойчиво-вопросительным выражением и привычка, слушая человека, смотреть на него пристально, как будто он отыскивал что-то в нем. Кондратьев чаще других ткачей выносил ребятишкам не только картонные шпульки, но и образчики — полоски красивых разноцветных материй. Девочки, завидев Кондратьева, бежали к нему и робко спрашивали: «Дяденька, принес лоскутик?» Он лез в карман, доставал образчики и, расправив на ладони, подавал девочкам со словами: «Дорого стоит лоскуток!»
Вечерами в летние дни Кондратьев иногда оставался посидеть на скамье около дворницкой. Когда работа на фабрике заканчивалась, из дверей ткацкой и красильной группами выходили усталые люди: женщины казались старыми, но на свежем воздухе щеки их розовели, и тогда видно было, что среди них много молодых. На фабрике работало много подростков, некоторые из них, казалось, были не старше Дуняши.
У рабочих, выходивших из красильной, были серые, потные лица, мокрые пряди волос прилипали ко лбу, от них едко пахло кислотой. Многие кашляли, сплевывая мокроту. Про таких Данила говорил: «Чего другого, а чахотку в красильной всегда заработаешь».
И вот в толпе рабочих появляется серьезное знакомое лицо, серый картуз надвинут на лоб, глаза кого-то ищут. Дуняша кричит: «Папаня!» — и бежит навстречу.
Данила постоянно торопил рабочих выходить со двора; в этом ему помогали два сторожа — один старик, другой молодой. Потом один из сторожей шел в проходную на ночное дежурство, и Данила закрывал ворота. Но он никогда не выгонял Кондратьева. Впрочем, те рабочие, которые жили в домах для фабричных, по вечерам проходили во двор фабрики через маленькую калиточку около нашего флигеля или перелезали через гнилой дощатый забор.
Отводя Чока к Даниле, я не раз видела, как несколько ткачей, сидя на лавочке около дворницкой, беседовали с Кондратьевым. Иногда Кондратьев низким, глуховатым голосом заводил негромко одну из тех особенных песен, что певал только он. Некоторые из них я впервые услышала от него, а другие и не слыхивала больше никогда, но воспоминание о них живет во мне и до сего дня. Так, он пел про коней, как они «стояли убранные»: «Стояли кони убранные, да под шатрами, под коврами... Никто-то коней не любит, никто-то коней не жалеет... Любила коней только свет, любила коней свет-Васильевна...»
Я слушала и думала, что Кондратьев поет про мою мать, Аграфену Васильевну.
Однажды темным вечером на нашем дворе я услышала новую песню. Пел Кондратьев, и, казалось, все затихли, слушая его. Я разобрала слова: «Замучен тяжелой неволей...» «Мы сами закрыли, роди-и-имый, орлиные о-очи твои...» — так и звучит в моем воспоминании его глуховатый, низкий голос. И позже, услышав слова песни «И мы, твои братья по делу...», я думала, что это поется о братьях Кондратьева «по делу...», — значит, о ткачах.
Увидев меня, Кондратьев спрашивал:
— Поздно ходишь! Не боишься темноты?
— Папа говорит: бояться не надо...
— Разумно говорит. Ты вот что, скажи Александру Ивановичу: Кондратьев, мол, просит сыграть на скрипке.
Я прибегала домой и говорила:
— Папа, Кондратьев просит сыграть на скрипке.
Отец, посмеиваясь надо мной, брал скрипку и шел к открытому окну.
— Кондратьев! — окликал он и спрашивал его о чем-то.
Потом, поговорив с Кондратьевым, начинал играть.
Помню открытое окно, ветер легко отдувает занавеску. В темной глубине двора различается черный выступ фабричной стены. Где-то на соседнем дворе слышны голоса, смех, а дальше, за воротами, — звуки гармоники, песня, внезапный свисток полицейского... Чистый, тонкий звук скрипки начинается рядом со мной; чем дальше, тем свободнее и шире он льется, и уже не кажется, что это играет один отец, — звучат две, три, много скрипок... За окном появляется голова Кондратьева. Черные его волосы сливаются с темнотой двора, выступает только часть лица — выпуклый большой лоб, щека. Глаза, освещенные лампой из комнаты, блестят...
Мать уводила меня спать, и, уже лежа в кровати, я слышала, как играет отец, потом разговаривает о чем-то, словно расспрашивает Кондратьева. И снова играет.
Тогда я не знала, что значит «рассчитали», но на фабричном дворе я слышала это слово нередко. «Рассчитать» мог хозяин, и делал он это в конторе. Бывало, рабочий выходил из конторы и говорил Даниле или ткачам, окружавшим его: «Рассчитали». Потом рабочий, опустив плечи, уходил в ворота на улицу, и больше я его не видела на фабричном дворе. Иногда Данила утром расталкивал спящего у забора человека и говорил:
— Иди, иди, тут тебе не место!
Я спрашивала:
— Почему он тут спит?
— Подушки пуховой нет дома, вот и спит. И дома тоже нет. Найти его еще надо, дом-то...
— А зачем ты его прогоняешь?
— Эх ты, птица-синица! Есть такое слово на фабрике: «расчет». Хозяин рассчитает, а мое дело прогонять.
«Рассчитали» — было такое, от чего человеку приходится плохо.
...Впечатления первых детских лет мне трудно разделить по времени, то, что, кажется мне, происходило совсем близко, одно за другим, на самом деле часто разделено годом или двумя. Кондратьева я помню с самого раннего детства, с тех пор, как еще совсем маленькой я ходила к ним играть с Дуняшей. Но почему-то первое воспоминание о нем связано именно с этим вечером, когда отец сказал, что Кондратьева рассчитали, и необыкновенно сильное чувство, что теперь больше никто не увидит Кондратьева, поразило меня. Мне в то время было уже лет шесть, и я все хорошо запомнила, может быть, еще и потому, что вдруг сама испугалась. В окне за моей спиной было темно, и, помню, я боялась чего-то оттуда, все оборачивалась и сквозь зеленые листья фикуса видела отблеск стекла на темном ночном небе и, вздрогнув, отводила глаза.
Дядя Петр, сидевший тут же за столом, — он был у нас в тот вечер, когда рассчитали Кондратьева, — спросил отца:
— У вас частенько бывает это дело? — и, не дожидаясь ответа, прибавил: — У нас сплошь да рядом расчет!
— Этот Кондратьев — умница, работник! — сказал отец. — Ткач необыкновенный. После первой забастовки его приняли обратно, но он все время был на замечании. Невероятно способный человек!
— За что же его все-таки рассчитали? — спросила мать. — Ведь все равно всех не уволят.
— Сильный человек, ненавидит несправедливость! — ответил отец. — Чувствуют это и убирают, кому этим ведать надлежит.
Мама взяла бумагу, принесенную отцом, и прочитала:
Душно! Без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..
Долго хранилось у нас это переписанное каллиграфическим почерком Кондратьева стихотворение Некрасова с надписью: «На память от благодарного вам человека». Были еще и другие стихи, подписанные: «Ткач Основа». И когда я выучилась читать, я думала, что ткач Кондратьев и есть «ткач Основа» и сочинил эти стихи сам, как Пушкин «Сказку о рыбаке и рыбке». Но отец объяснил мне, что Кондратьев переписал эти стихи, потому что очень любил их.
— Куда же он пойдет? — спросила мать.
— Если некуда, пусть идет ко мне, — ответил дядя Петр.
«Ко мне» — я поняла, что дядя Петр зовет Кондратьева к себе в комнату, где он жил с женой Лизаветой Сергеевной, про которую мать говорила: «Белошвейка — золотые руки». Это была маленькая комнатка в Ново-Гирееве, под Москвой. Туда меня однажды возили, когда мне было года четыре, и мне там очень понравилось. Там был большой цветущий луг, а за толстыми деревьями сидела лиса. Лиса, как сказал дядя Петр, кусалась, и туда нельзя было ходить. Я все-таки забежала туда, долго ждала лису, стоя за большим деревом, но лиса так и не показалась.
Много позднее я узнала, что таким людям, как Кондратьев, помогала рабочая организация; она и впоследствии поддерживала семью Кондратьева в трудное время.
Я не помню, зимой или летом рассчитали Кондратьева. Может быть, в тот же или в другой вечер я увидела, как за окном на черном фоне двора снова появилось знакомое мужественное лицо Кондратьева, освещенное проникающим из комнаты желтым светом нашей керосиновой лампы, и глаза его мучительно и тревожно смотрят, смотрят и спрашивают... А может быть, я видела это во сне.
Снегурочка
Вечером, отдохнув немного, отец брался за скрипку, а мама садилась к столу шить. Я усаживалась на маленькую скамеечку поближе к отцу.
Отец стоял перед пюпитром, прижимал подбородком к плечу скрипку, лицо его было повернуто влево и глаза смотрели поверх моей головы, куда-то далеко...
Заметив меня, он прерывал игру, настраивал скрипку и говорил:
— Вот слушай! Сейчас я сыграю тебе «Снегурочку». Написал ее Чайковский. Тут рассказывается — только не словами, а музыкой, — как весна спускается на землю.
Он проводил смычком вверх и вниз, пальцы его левой руки, лежа на грифе, прижимали то одну, то другую струну, то две или три вместе, передвигались по грифу, смычок в правой руке делал легкие движения, и начиналось...
— Слышишь, все такое легкое, светлое — идет новая, светлая весна. «Идёт-гудёт Зеленый Шум, Зеленый Шум — весенний шум». Есть такие замечательные стихи, я их тебе потом прочитаю...
Отец играл. Звуки скрипки делались гуще, сердитее, что-то грозное выговаривалось в них.
— А это Дед-Мороз: он еще держит землю в своей власти, он прилег снегом, заковал реки льдом, стынет все вокруг него, а весна все спускается да спускается... Слышишь: вот она, весна!
Я слушала, вероятно широко раскрыв глаза, потому что отец поворачивал голову в сторону матери и глазами указывал ей на меня.
— А вот, глазастый, слушай: сейчас полетят птицы: «Слеталися птицы, слета-ли-ся певчи ста-да-ми, ста-да-ми! Садилися птицы, садилися певчи ря-да-ми, ря-да-ми!» Слышишь гомон, шебетанье?.. А это вот крылами машут — летят. «Перепел-подьячий, подья-чий!»
Скрипка выговаривала это «подья-чий», и отец поворачивал ко мне торжествующее лицо и говорил с восторгом:
— Это надо так написать! А? Понимаешь, все дело в выразительности...
Почему-то мне кажется, что звуки скрипки, начинавшие утро отца, я слышала летом: в открытое окно виден широкий фабричный двор с темным кирпичным корпусом фабрики напротив окна. Со «Снегурочкой» же связано ощущение зимы, когда на стеклах окон видны листья и узоры мороза, а в комнате потрескивают в печке дрова и отсвет огня ложится на деревянный крашеный пол.
Потом отец садился, опускал скрипку на колени и правой рукой с зажатым в ней смычком гладил меня по голове. Я спрашивала:
— А ты сказал: «Зеленый Шум»?
— А, помнишь? Молодчина! Это хорошо! — И читал мне стихотворение Некрасова «Зеленый Шум».
Когда он говорил: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые, тихохонько шумят...» — голос его звучал тихо, и дальше: «А рядом новой зеленью лепечут песню новую и липа бледнолистая, и белая березонька с зеленою косой...» — отец поднимал голову, и восторг наполнял его голос силой и радостью: «Шумят они по-новому, по-новому, весеннему, идёт-гудёт Зеленый Шум...»
Голос его перехватывался. Он говорил, чтобы скрыть волнение:
— Будешь большая — поймешь, в чем тут дело!..
По вечерам отец иногда уходил играть на скрипке в большом оркестре. Знакомые музыканты приглашали его, когда надо было усилить оркестр или заменить кого-нибудь, и отец всегда радовался этой возможности поиграть.
Однажды вечером мать достала из шкафа лучшее свое платье: в нем она была тонкая, нарядная. Позвала меня, причесала и одела в любимое мое платье с якорьками по белому полю. Никогда еще меня вечером не брали с собой из дому. Я была удивлена, когда меня закутали платком и вместе с мамой мы вышли во двор. Двор был покрыт снегом, на темном небе трепетали звезды. Если прищуриться, звезды становились мохнатые и радужные.
Мы приехали на извозчике к подъезду большого дома, куда быстро проходили одетые в теплые шубы люди. Мы разделись и вошли в залу, такую большую, что дальняя стена ее терялась... Я попятилась, но мама взяла меня за руку и повела вперед. Люди проходили и усаживались на стулья с бархатными сиденьями. Незнакомый человек в черном поздоровался с мамой и сказал:
— Сразу видно — Сашина дочка. Не соскучится?
Мама — такая красивая сегодня — улыбнулась и ответила:
— Нет, она очень любит музыку.
И сразу же на возвышение перед нами, где стояли черные стулья с пюпитрами перед каждым, стали выходить люди со скрипками, большими и маленькими. Была даже такая большая, что человек нес ее обеими руками. Все стали садиться. Я увидела отца; он шел, повернув голову к нам, и сел в первом ряду стульев. Волосы у него были такие блестящие, русые, он был лучше всех. Вдруг стало очень светло. Я посмотрела вверх: там была лампа со множеством огней. Мама сказала:
— Вот и люстра зажглась!
Все музыканты сидели к нам лицом, и отец даже улыбался мне. Но один вошел после всех — это был дирижер. Он стал спиной к нам и поднял руки. В одной была маленькая палочка. Музыканты подняли скрипки к плечу, дирижер взмахнул руками, и длинный его сюртук поднялся кверху...
У всех сидящих вместе с отцом музыкантов, одетых в черное, одинаково пошли вверх белые кисти рук с тонкими смычками — началась «Снегурочка» Чайковского.
Сначала я не узнала музыку и даже сказала шепотом маме: «Мне очень громко», но вдруг среди массы звуков услышала — поет знакомая мне скрипка отца. Я спросила:
— Весна идет? Да?
Мать кивнула головой. Я посмотрела на нее и удивилась. Румянец проступил на ее обычно бледных щеках, глаза светились, она смотрела вперед, как будто была той самой весной и все должно было ожить под ее взглядом.
— Ты на папу смотришь, да?
И, засмеявшись, она положила ладонь мне на губы и прибавила:
— Надо говорить тихо.
Все было так необыкновенно. Вот я услышала, как полетели птицы, но теперь их было много, они летели «ста-да-ми, ста-да-ми», и этот полет был виден даже во взмахах смычков. А когда папина скрипка выговаривала «подьячий, подьячий», мне показалось, что я увидела какую-то смешную, хитрую птицу: она идет и кланяется серой головой.
Потом близко к краю возвышения подошла женщина в белом и запела. На ней блестели красные и зеленые огоньки.
И неожиданно все кончилось.
Все в зале захлопали, а дирижер обернулся к нам и, взяв за руку женщину в белом, поклонился, указывая на сидящих за ним музыкантов.
Музыканты встали разом, отодвинули стулья и, косо держа вверх смычки и опустив скрипки, стали выходить в боковую дверь. Прошел между стульями и отец, опять взглянув на нас. И все перед нами опустело: остались только ряды нестройно отодвинутых черных стульев и пюпитров.
Кто-то спросил меня:
— Ты что слушала?
Я сказала:
— Весну, и «слеталися птицы», и «подьячего»...
Когда мы приехали на конке домой, отец, как всегда, бережно поставил футляр со скрипкой на столик. Был, верно, большой мороз, потому что футляр в теплой комнате отпотел и стал влажным. Немного погодя, когда я разделась и забралась в кровать, отец спросил:
— Тебе понравилось?
— Понравилось. Когда мы еще пойдем?
— Это, девочка, нелегко, но когда-нибудь пойдем. А вот когда ты была совсем маленькая, я тебе играл так...
Он достал скрипку, провел смычком по струнам и, выговаривая голосом слова, начал «Колыбельную» Чайковского:
У-ле-те-ел орел до-мой,
Солнце скры-ы-лось за го-рой...
Песня так и звучала у меня в ушах. Я начала ее петь, но какой-то тонкий голосишко зазвенел, и я сразу же замолчала.
— Что же ты?
— Не буду! — сказала я упрямо.
— Ну, еще попробуй!
Он сыграл всю «Колыбельную» и там, где «Ветра спрашивает мать», я попробовала, но вышла совсем не та песня.
— Да, — сказал отец, обращаясь к матери, — не выходит. Жалко...
Он подошел к окну и долго стоял, держа правой рукой скрипку и смычок. Он стоял боком ко мне, и я видела его склоненное лицо. Он напряженно смотрел перед собой. Потом отец медленно поднял скрипку к плечу и с тем красивым, свободным изгибом руки, каким он так легко и вместе с тем так твердо держал смычок, тихо повел по струнам...
То, что он играл, было мне знакомо: это мороз держал землю, сковывал ее, как заковал и наше окошко, за которым не видно было ни двора, ни фабрики; ветер, ни у кого не спрашиваясь, несется и звенит железом по крыше... И вот из этого ряда мрачных, тягостных звуков пробиваются шаги весны. Вот она спускается, слетаются птицы, и зеленый шум гудёт вокруг нее. Внезапно в этом чередовании изображенных звуками картин родился новый, незнакомый мне напев. Это было не то, что я слышала каждый день, когда отец готовился идти играть «Снегурочку», и не то, что сегодня исполнял большой оркестр.
Но то, что играл отец, я все-таки узнавала. Я слышала это когда-то на темном дворе, у входа в подвал к Даниле-дворнику, когда за черным выступом фабричной стены проступало покрытое яркими звездами небо. В этом слабо мерцающем свете виднелась голова Кондратьева; он сидел на лавочке и негромко пел про убранных коней и ту, другую песню, которая вдруг зазвучала сейчас в комнате. Я догадалась, что отец это сам рассказывал, только не словами, а, как и Чайковский, музыкой, и вот почему я видела перед собой Кондратьева с его блестящим, спрашивающими глазами...
— Папа! — закричала я. — Я знаю, это Кондратьев пел!..
Отец на секунду перестал играть, взглянул, наклонил голову и стал играть дальше. Потом опустил смычок, положил скрипку в футляр и подошел ко мне.
— Узнала песню Кондратьева? — сказал он. — Значит, кое-что все-таки слышишь...
— Это Кондратьев придумал?
— Это? Нет, это называется трудным словом: «импровизация». Ну, спи, глазастый, спи.
Не могу сказать, когда это было, но мне помнится — с этих шести-семи лет во мне появился как бы новый, внутренний слух. Внутри у меня постоянно текла какая-то мелодия, очень похожая на те, которые играл на скрипке отец, но я не могла ее выразить голосом. Эта звучная, сильная и необыкновенно радостная мелодия не жила во мне спокойно, она требовала выражения, и я иногда пробовала ее петь. Но выходило что-то простое, совсем не то, что хотелось выпустить на волю.
Это стало источником моих мучений: при большой моей любви к музыке, которая вливалась и умещалась во мне, обогащая и усиливая ту, внутреннюю мелодию, — я не умела пробить какую-то кору и выпустить родник на волю.
Отец не мог меня учить играть. Иногда он, видя мою любовь к музыке, говорил:
— Надо было бы попробовать учить тебя...
Но для этого у него не было ни времени, ни возможностей. Он работал на фабрике целыми днями, и все-таки мы не могли и думать нанять учителя. А потом мы стали жить еще труднее. Но сам отец не оставлял скрипки: она была его радостью до конца жизни.
…Иногда, я помню, в ясный, солнечный день, на быстром бегу радость, восторг охватывали меня, расширяли грудь, и я думала, что вот сейчас я запою. Но я даже не пробовала, а, завидев идущего к дому отца, бежала ему навстречу и бурно кидалась на шею. Это было тоже каким-то выражением себя, и он это понимал.
Необыкновенная встреча
Вскоре после дня маминого рождения наступал ее любимый праздник. В этот день выпускали птиц на волю.
Дома у нас никогда не держали птиц в клетках и, чтобы выпустить, птичек покупали заранее на Трубной площади. Отец или дедушка Никита Васильевич приносили небольшую клетку, в ней по жердочкам прыгали пестрые, веселые щеглы, чижи и плотные красногрудые снегири.
Птицы жили у нас день или два, и в это время я не отходила от клетки. Я смотрела, как они пьют воду из привязанного к прутьям клетки стаканчика и поднимают головки, такие гладенькие — перышко к перышку. Рассматривала их тоненькие лапки. Удивительно было, как легко и прочно они устроены. Мама иногда подходила, наклонялась к клетке и говорила:
— Им тут тесно, птицам нужен простор. — И вдруг, как будто кого-то стесняясь, читала наизусть:
Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей,
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей...
Потом в жизни, начиная читать вслух любимые мои стихи, я тоже чувствовала это стеснение, как будто говорить стихами было неудобно рядом с окружающим меня. А может быть, я боялась прочитать хуже, чем вообще надо читать стихи. Но мамино стеснение доходило до того, что она краснела, на лице ее появлялось тревожное выражение, и она замолкала.
— А дальше? — спрашивала я.
Тогда она продолжала спокойнее. Иногда она оживлялась, доставала из комода тетрадь в синем картоне, где были переписаны любимые ею стихи Некрасова: «Саша», «Размышления у парадного подъезда», и долго читала подряд. Но это бывало редко.
Однажды к нам пришел дядя Петр и сказал:
— Пойдем со мной на Трубную — купим птичку или живую рыбку. Спрашивайся у матери.
Так мы с дядей Петром пошли на Трубную. Был март. В Москве еще лежали вдоль заборов потемневшие сугробы снега. Еще ездили на санях, но воздух был такой свежий и душистый, какой бывает весной у реки.
На Покровском бульваре по гладко подметенному плацу около казармы взад-вперед маршировали солдаты. Дядя Петр остановился и долго смотрел на них, чуть наклонив худое лицо с большими рыжеватыми усами. Мне надо было потянуть его за руку, чтобы он пошел дальше.
Трубную площадь мы увидели сверху, со Сретенского бульвара. Под горой, около маленьких торговых палаток, освещенная ярким солнцем, двигалась толпа людей. Люди шли, останавливались и снова расходились. Мальчишки скатывались на санках по бульвару и подъезжали к самым палаткам.
Я посмотрела с завистью и дернула дядю Петра за рукав.
— Это мы сейчас устроим... Мальчик! — подозвал он худенького мальчика в разорванной кацавейке. — Возьми-ка вот девочку, прокати.
— А ну ее! — ответил мальчишка, но тон у него был неуверенный.
— Нет, брат, так не годится. Давай заведем дружбу: вы прокатитесь вместе, а потом ты пойдешь с нами птиц смотреть. Я и тебе птичку куплю.
Мальчик насупился и молчал.
— Экой ты какой недоверчивый! Думаешь, обману? Я не люблю обманывать.
— Ну ладно... пойдем, что ль, — подумав еще, сказал он мне с неохотой.
Мы поднялись с ним по бульвару, таща за собой плохонькие санки. Он недружелюбно поглядывал на меня.
— Испугаешься — за плечи мои держись, а за шею не хватайся. И не ори.
Мы съехали по самой крутизне. Санки далеко откатились за палатки.
— Еще поедем! — сказала я.
— Ладно, как дяденька скажет, — снисходительно ответил мальчик.
Но дядя Петр объявил:
— Хорошенького понемножку. Пойдемте на рынок, а там видно будет.
Мальчик взял санки, и мы пошли.
Первый, кто нам встретился, был высокий, худой человек с черным щенком на руках. Он шел, поглаживая висячие шелковые ушки щенка, и повторял:
— Покупайте, господа, толковая будет собачка.
Мальчик сказал:
— Это охотничья. Видишь, как она носом нюхает!..
Не успели мы отвести глаз от собачки, как перед нами открылся проход к ряду маленьких лавочек. Но не только в лавочках шла торговля: всюду ходили продавцы; в руках они держали длинные удочки, красивые зеленые поплавки и коробочки с крючками. Покупатели, наклоняясь над коробочками, выбирали крючки, грузила и поплавки. Посматривая направо и налево, я незаметно очутилась у одной из лавочек и заглянула в открытую дверь.
Лучи солнца падали через окно на широкий прилавок. На прилавке стояли стеклянные банки с водой, насквозь прозрачные в солнечных лучах, в них снизу вверх из желтого песка росли длинные светло-зеленые листья, и между ними проплывали красные и золотистые рыбки.
Я вошла в лавочку и остановилась, рассматривая рыбок. Особенно понравилось мне, как продавец ловил их маленьким черпачком, перекладывал в баночку с водой и отдавал покупателю.
— Достань мне вон того рысака, — указал дяденька с бородой и веселыми, насмешливыми глазами на полосатенькую, очень быструю рыбку. — А ну-ка, дай я сам его поймаю! — и взял черпачок из рук продавца.
Рыбка мелькнула, как синий флажок. И каждый раз, как черпачок приближался к ней, она быстро синей черточкой сверкала вверх, вниз, вбок и уходила.
— Верно ты угадал — это рысак настоящий! — сказал хозяин. — А у тебя сноровки мало.
Он взял черпачок, опустил его в воду, дал рыбке успокоиться, потом, когда она тихо стала подниматься вверх, легко подвел черпачок снизу и поддел рыбку.
— На все, брат, надобно уменье, — сказал он, опуская рыбку в подставленную покупателем баночку.
И там она заметалась от стенки к стенке...
— Дяденька, вон она где! — услышала я голос мальчика, который меня прокатил на санках. — Куда же ты девалась? Вот тебе дяденька задаст!
Они уже, видно, подружились. Дядя Петр купил ему крючочек на тоненькой леске, и мальчик не отходил от него.
— Дяденька, пойдемте того щегла поглядим, — попросил он.
Мы все вместе пошли смотреть «того щегла». Щегол был пестрый и бойкий. Он прыгал в узкой клеточке, где, кроме него, сидели еще две серые птички с помятыми перышками на головках.
— Это чечетки, — сказал мальчик, — они смирные. А вот это — канарейка.
Он шел с нами и не напоминал, что дядя Петр обещал ему купить птичку.
— Ну, канарейка — птица неинтересная, — ответил дядя Петр. — Птица эта, брат Митюшка, не наших лесов. Хочешь, щегла тебе куплю?
Мальчик покраснел от смущения и кивнул головой. Он и так смотрел на этого щегла, не отводя глаз...
Дядя Петр спросил продавца, сколько стоит щегол, и достал кошелек.
— Гривенник, — ответил продавец, — да еще клетка...
Дядя Петр положил монеты на прилавок, взял клетку со щеглом и повернулся... К прилавку шел высокий человек в барашковой шапке, с небольшой бородкой, в пенсне, из-за которого пристально смотрели серьезные глаза. Он остановился в двух шагах от нас.
— Дядя Петр, — спросила я, — а мне ты купишь чечеточку?
Дядя Петр не ответил. Он все смотрел на подошедшего человека. Потом наклонился к нам, взял меня за плечи, повернул и сказал тихо:
— Посмотри и запомни. Я потом расскажу, кто это...
Когда мы отошли с клетками, где в одной сидел щегол, а в другой две чечетки, он сказал нам:
— Это писатель Чехов, гордость русского народа. Он написал много хороших книг. Придем домой, попроси отца прочитать тебе про Каштанку.
Мы пошли домой; мальчик тоже шел с нами. Он держал клетку со щеглом перед самым своим носом и все не мог на него налюбоваться. Дядя Петр нес его санки.
Уже долго шли мы, а мальчик все не отставал.
— Чего ж ты нас провожаешь? — спросил дядя Петр. — Мы и сами дойдем.
— Я не провожаю, я домой иду.
— А где твой дом?
— В Кожевниках.
— Вон что! — Дядя посмотрел на него. — Отец-то где работает?
— На Цинделевской фабрике.
Оказалось, мальчик жил близко от нас. Когда мы подошли к фабрике, он сказал, что знает наш двор.
— Можно, я приду, когда вы будете выпускать чечеток? — спросил он дядю Петра.
— Приходи, — ответил дядя Петр.
В тот самый день, когда надо было выпускать птичек на волю, ранним утром послышался стук в дверь: явился Митюшка. Он деловито спросил:
— Не выпустили еще птиц-то?
Осмотрелся в комнатах, потрогал рукой скрипку, лежавшую на столе, и спросил:
— Кто же так ее склеил? Какая фигурная!
— Это трудная работа, — ответил отец. — Чтобы сделать скрипку, надо быть большим мастером.
— Дерево надо звонкое, — заключил Митюшка.
И отец похвалил его:
— Правильно!
— А ты своего щегла тоже будешь выпускать? — спросила я.
— Ну что ты! Это такой оказался умный щегол — поискать!..
И Митюшка рассказал, что когда он дает щеглу сухие крошки, то щегол сразу их не ест, а бросает в блюдечко с водой. Когда крошки размокнут, щегол их вытаскивает и раскладывает вокруг и лишь потом съедает.
— Он, наверно, уже побывал в неволе, — сказала мама.
— Я своего щегла хочу учить, чтобы он представлял в цирке, — заявил Митя.
Мы побежали в сад выпускать чечеток; они как-то робко полетели и сели на ветку. Потом мы с Митей обошли весь двор, и он сказал, что «их» фабрика куда больше, ребят у них со двора гоняют и сада у них рядом нет.
С тех пор Митя стал приходить к нам.
И сейчас мне так ясно помнится, как мы сидим за нашим столом: Маня, Митюшка и я; рисуем цветными карандашами. Я смотрю на Маню — она такая румяная и кажется мне очень красивой — и спрашиваю:
— Маня, ты пошла бы за Митю, если бы он был царем?
— Ни за что не пошла бы! — решительно отвечает она, резко поворачиваясь, отчего ее толстая коса отлетает и задевает Митино плечо.
— А я бы и не взял! — отвечает Митя.
Я слышу за спиной смех: мама стоит у стола.
— Не горбись, не наваливайся так на стол, — говорит она мне, — надо сидеть прямо, — и проводит пальцем вдоль моей спины.
Отец часто рассказывал мне сказки, и я очень любила его слушать. Сказки мне никогда не надоедали...
Помню, зимние сумерки синеют за окнами. В печке потрескивают дрова, и красноватый отблеск пламени ложится на крашеный пол. Отец сидит на стуле около печки, я — на маленькой скамеечке и слушаю сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку.
Вот прибежал козленочек к берегу реки и зовет:
Аленушка, сестрица моя,
Выплынь, выплынь на бережочек.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!
Жалко Аленушку, жалко Иванушку, но я уже знаю, что все кончится хорошо и Аленушка будет жива.
Однажды мы сидели так в столовой, у нас был дядя Петр, и я попросила отца рассказать сказку о Василисе Прекрасной.
— А ты, Саша, что-нибудь знаешь, кроме сказок? — спросил дядя Петр.
Но я считала «сказками» все, что мне читали или рассказывали:
— Еще я знаю сказку про вещего Олега. И про «Мороз, Красный нос».
— А ну-ка, почитаем новую сказку.
Дядя Петр подошел к шкафу, достал книжку, раскрыл ее и начал:
— «Молодая рыжая собака — помесь таксы с дворняжкой, — очень похожая мордой на лисицу...»
Так началось у нас чтение рассказа Чехова «Каштанка».
Если теперь, через много лет, сравнить впечатление от этого рассказа со сказками, которые я слышала от отца, — сказки были интереснее: все в них было необыкновенное. А столяр Лука Александрович и Федюшка были похожи на наших фабричных и их детей, которых я видела каждый день. Даже удивительно было, что в книге написано, что столяр напился «как сапожник», сердито кричал на Каштанку и назвал ее плохим словом «холера».
Мама не позволяла мне повторять такие слова.
Каштанка тоже была обыкновенная собака. Сначала мне жалко было, что она отстала от хозяина и потерялась, но ей встретился добрый человек, Каштанку теперь сытно кормили, она стала красивая и, конечно, скоро выучилась бы проделывать в цирке разные фокусы. Новый хозяин любил бы ее, и все зажили бы припеваючи.
И вдруг Каштанка взяла да и ушла от хорошей жизни к столяру и Федюшке! Почему тот встреченный нами на Трубной площади человек не сделал так, чтобы Каштанка осталась у нового хозяина? И так уж у него умер славный его гусь Иван Иванович!
— Тебе понравилась «Каштанка»? — спросил дядя Петр.
— Понравилась. Только почему гусь Иван Иванович совсем умер? — сказала я. — Его надо было спрыснуть мертвой водой, а потом живой, он бы и жил себе.
— А зачем тебе нужно, чтобы гусь остался живым?
— Чтобы мне его не было жалко.
— А, вот как! — словно удивился дядя Петр. — Так, так...
— Если уж он умер, ему надо было бы ожить. И они все жили бы припеваючи.
— А ты бы весело побежала играть, спокойная, что все хорошо кончилось?
Я кивнула головой.
— Вот в том-то и дело, друг мой, — ответил дядя Петр, — что это не сказка, а жизнь. Посмотри хорошенько — и увидишь, что в жизни не оживают умершие и не все живут припеваючи.
...Через год или больше с того дня, как мы ходили на Трубную за птичками, отец, придя домой, сказал глухо:
— Умер Чехов.
И мать заплакала.
...Меня взяли на похороны Чехова. По улицам отовсюду шли люди, тысячи людей. Был жаркий июльский день. Вот показались зубчатые стены и золотые главы Новодевичьего монастыря.
— Иди, иди... — говорил отец. — Вот сколько людей любили Чехова, читали то, что он писал. И ты будешь читать его книги.
— «Каштанку»?
— Не только «Каштанку», а много прекрасных его рассказов о том, как живут люди.
Ссора
Когда утреннее солнышко светит в окна и на синем небе вырезывается неподвижная глянцевая листва единственного тополя, растущего во дворе перед флигелем, а на крашеном полу лежат светлые квадраты, невозможно представить себе, что такой ясный летний день может омрачиться.
Кажется, что всегда будет так ясно, спокойно, хорошо, будешь целый день бегать с Дуняшей во дворе и Чок, принюхиваясь к нашим следам, будет отыскивать нас в подвале у Данилы-дворника или в чулане флигеля, где мы прячемся от него.
Мы с Дуняшей по-прежнему видимся каждый день. Когда дядю Степу Кондратьева уволили с фабрики, Ксению перевели в барак для семейных и поселили вместе с семьей красильщика. Она работает теперь на фабрике, в прачечной, а Дуняша не только смотрит за Катюшкой, но и помогает матери по хозяйству: варит картошку, бегает в лавочку и прибирается в своем углу. Поэтому играем мы теперь не так подолгу, как нам хочется.
В такой прекрасный день мама надела на меня розовое легкое платьице, которое раньше считалось новым, но потом, провисев долгое время в шкафу, надетое только раза два за все время, почему-то стало называться старым, и отпустила гулять.
— Но ты не пачкайся, — сказала она, повертывая меня к себе лицом и поправляя на мне хорошенький кружевной воротничок, — мы с тобой пойдем сегодня в Нескучный сад.
Какая же это была радость — идти гулять в Нескучный сад, где так много толстых, больших деревьев — лип, кленов, берез — гораздо больше, чем в хозяйском саду!
— Почему ты говоришь — платье стало старым? — бездумно спросила я, рассматривая легкие оборочки на рукаве.
— Потому что ты выросла, — ответила мама, — и пришлось его выпускать внизу. И то вон оно какое короткое.
— А тебе папа сказал, что ты бережешь-бережешь, пока я не вырасту из платья. Надо, чтобы я носила сразу новое.
— Папа не так сказал. Не говори, если не знаешь, — спокойным, ровным голосом ответила мама.
Я по опыту знала, что это ровное спокойствие может замениться строгим окриком, если я не перестану. Но что-то меня так и подмывало, и я сказала:
— А я знаю, что папа так говорил: надо носить, пока я не выросла.
— Выросла, а ума не вынесла! — сказала мама тем же спокойным голосом, садясь на стул у окна и этим как будто меняя свое намерение идти со мной в Нескучный. (Я продолжала стоять против нее.) — Всегда так бывает, что пока другого платья тебе не сшили, то прежнее надо беречь, как новое. Вот теперь я сшила тебе синенькое, новое, а это будешь носить.
— Я не буду его носить! — неожиданно для себя сказала я. — Я из него выросла.
— Это еще что? — нахмурилась мама. — Повтори, что ты сказала!
Повторять в таких случаях как раз не следовало: если повторяешь, значит, упрямишься. Отец не раз объяснял мне это. Но я повторила, чувствуя, как обрывается то хорошее, душевное, что связывает меня с матерью:
— Не буду я его носить, не хочу и не буду! — и, дернув платье на себе, добавила: — Оно плохое.
— Значит, я старалась, шила, а тебе не нравится?
Вот сейчас голос и все выражение лица мамы такое, что так и хочется подойти к ней...
— Не нравится! — упрямо сказала я.
— Ну, так вот же, — с досадой сказала мать, — в Нескучный мы не пойдем! Будешь сидеть дома.
Как это все случилось? Как могло быть, что десять минут назад я стояла на этом же месте, одетая в розовое, любимое мною платьице, не замечая, что оно коротко, и радовалась, что мы пойдем в Нескучный? И вот все стоит так же, на тех же местах: стол, фикус у окна, так же лежат светлые квадраты солнечного света на полу, вырезываются на синем небе листья тополя. Что же изменилось? Почему я уже не могу любить это милое платьице и доверчиво говорить с любимой только что мамой?
— Сейчас же перестань упрямиться! — говорит мама.
Если бы ее голос был приветливей, добрей, я кинулась бы к ней, но теперь мамин голос звучит холодно, и он держит меня, как бы отстраняет от мамы.
Я молчу. Молчит и мама. В открытое окно доносится шум проезжающего мимо экипажа, звуки шагов, голоса девочек, играющих на дворе.
— Ну, что же ты? — слышу я мамин голос.
Я прекрасно знаю, чего хочет добиться этим вопросом мама: она хочет, чтобы я подошла к ней и хотя бы молча выразила доброе чувство. Она даже идет мне навстречу.
— Ну, — говорит она, — если ты не будешь носить это платье, куда же мы его денем?
Во дворе слышно, как кричит Дуняша: «Тебе водить!» Счастливые, они там играют...
У меня возникает мысль, что я тоже могу побежать играть с ними, раз уж мы не пошли в Нескучный, и я представляю, как я скажу маме: «Я больше не буду, прости!» И мы помиримся...
— Ни одна девочка — ни Дуняша, ни Маня — так не говорят с матерью... — начинает подобревшим голосом мама, но в глазах ее, таких ясных, нет еще доброго, они немного отчужденно смотрят с ее лица.
Вот удивительно! Ведь в самых глазах ничего не меняется, их красивые голубовато-серые кружочки всегда одинаковы, и черные зрачки тоже, а мамины глаза бывают добрые, бывают чужие, бывают сердитые. Откуда это берется?
— Так и будешь смотреть молча? — спрашивает мама и качает головой. — Играешь с хорошими девочками, так тебе пример с них надо брать... Вот Дуняша — она Катюшку и вымоет, и покормит, и обует, да еще и туфлишки ей зашьет...
Я ненавижу, когда мама говорит, что мне надо брать пример с хороших девочек. Как только я слышу слово «пример», чувство противодействия сковывает меня уже непреодолимо, и, как бы я ни хотела подойти к маме, я не могу этого сделать. В моем воображении возникает светлая толстая коса Дуняши, туго заплетенная мелкими прядками: она у нее короткая и потому не лежит на спине, а торчит. Коса ее сейчас кажется мне противной, и противным кажется то, что Дуняша причесывает волосы деревянным частым гребнем — наклонив голову набок, она так и втыкает гребень в свои густые волосы.
— Противная твоя Дуняшка! — вдруг кричу я. — Не хочу ее в пример, не хочу... — и начинаю реветь.
— Перестань! — пробует остановить мама, но меня несет волна противодействия всему: Дуняше, маминым словам, самой маме...
— Не пере-стану... — реву я, — не пере-стану... И примера брать не буду...
— Ну, не бери пример, если не хочешь, живи сама по себе, — говорит мама и... улыбается.
Заметив краем глаза эту улыбку, я прерываю рев, слежу за ней взглядом и вдруг в маленьком зеркальце, стоящем на столе, вижу красное, совершенно зареванное лицо, ежом торчащие волосы и вытаращенные глаза.
Какой-то миг еще я наблюдаю это чужое мне лицо, смятый воротничок хорошенького платьица и — за зеркалом — улыбающееся, но почему-то сейчас нелюбимое лицо матери, узнаю себя, и вдруг мамина улыбка кажется мне невероятно обидной. Я принимаю ее как жестокую насмешку над моим глупым, смешным видом и отворачиваюсь.
Чувство жалости к себе и нелюбви ко всем окружающим захватывает меня. Я уже не реву, а горько, обиженно плачу, и чем больше я плачу, тем больше жалею себя. Вот как! Сама же мама надела на меня плохое, короткое платье, а потом смеется надо мной. Хвалит Дуняшку... Ну и пусть берет себе эту Дуняшку в дочки, а я уйду к Кондратьевым, буду нянчиться с Катюшкой! Что я, лицо ей не сумею вымыть, одеть не сумею? Сколько раз я сама ее мыла и одевала...
Мамина рука касается моей головы, но я дергаю голову в сторону, чувствуя в то же время страшную жалость, что я отталкиваю от себя милую, добрую руку.
— Ну, теперь закусила удила! — говорит мама. — Теперь тебя на кривой козе не объедешь...
Наступает тишина.
Услышав, что в комнате все затихло, я прекращаю плач и поднимаю голову. Мамы в комнате нет. И хотя такой же прекрасный день заглядывает в окно, так же раздаются голоса ребятишек во дворе фабрики, но этот ясный день уже не радует меня. Какое-то огромное пространство, словно провал, отделяет меня от счастливого времени, бывшего совсем недавно, так недавно, что большая стрелка, указывавшая вместе с маленькой вверх, на цифру «12», прошла только половину круга и стала вниз головой. Но как все изменилось!
Я ощупываю свои горячие, мокрые щеки, под руку попадается прядь прилипших к лицу волос. Осмотревшись, я вижу на полу мою круглую гребеночку, которая так хорошо схватывает и держит волосы: гребеночка лежит под стулом и, когда я нагибаюсь поднять ее, взгляд мой падает на розовое платьице, надетое на мне. И гребенка, и платьице кажутся мне свидетелями беззаботной, хорошей жизни, которая была и теперь уже не будет. Горькое сожаление охватывает мое сердце, слезы так и катятся из глаз...
В раму окна со двора кто-то царапается, окно раскрывается, и розовое, с веснушками на носу лицо Дуняши заглядывает в комнату.
— Ты чего не идешь на улицу? — спрашивает она, увидев меня, и ахает: — Ай, какое платье красивенькое! Тебя с собой мамка берет ай нет?
Я смотрю на нее, и вдруг мне становится стыдно, я краснею так, что сама чувствую, как кровь приливает ко лбу. Как могло быть, что я называла сейчас Дуняшу «противной»? Милую мою подружку?
Она наклоняется, что-то с трудом поднимает на уровень подоконника, и славная толстая мордочка Катюшки появляется на миг и снова скрывается: Дуняша не может удержать ее так высоко, а Катюшке это уже понравилось, и она хнычет за окном. Как же все-таки случилось, что я не с ними?
Что-то я сделала неправильно, думаю я. Но что? Не хотела надеть это платье? Если бы я сказала спокойным голосом, мама не рассердилась бы и объяснила мне, что платье-то хорошее. Когда я говорю так, мама никогда не сердится. Я слышу свой противный, упрямый голос, вижу, как я дергаю на себе платье и говорю, что оно плохое... Вот я какая была, а мама все не сердилась! А потом она сказала: «Старалась, шила...» Почему в это время я не подошла к ней? Почему только после того, как сделаешь плохое, видишь, что делать так было не надо. А теперь ее нет...
Несколько секунд я стою в раздумье: где мама? Только бы она была около меня, уж я бы все поправила! А вдруг она ушла совсем, оставила меня на весь день?
Я срываюсь с места и бегу по коридору в нашу маленькую кухоньку. Там тихо, мамы нет. Деревянный выскобленный стол чисто светлеет, на нем никто ничего не делает... Ну конечно же, она ушла совсем!
Я уже поворачиваюсь, чтобы бежать искать ее на дворе, как вдруг замечаю: мама стоит у окна и задумчиво смотрит перед собой. Я охватываю ее руками, прижимаюсь лицом к ее платью и кричу:
— Мама! Мама! Мама!..
Мать повертывается ко мне. И снова возвращается хорошее, а то плохое, что только что было, отодвигается и отодвигается...
Вечером, набегавшись с Дуняшей, настроив «городов» для Катюшки, которая в этот день мне совсем не надоедает, я сижу за столом, и голова моя клонится, клонится... и укладывается на стол. Отец берет меня на руки и несет в спальню. Пока он снимает с меня туфли и платье, я, уже в полусне, слышу задумчивый голос мамы:
— Как много надо знать матери, как много надо уметь! А ведь нас-то как воспитывали: битьем да криком.
Талант
Больше всех сказок я любила сказку про Василису Прекрасную и могла слушать ее каждый день. Вместе с Василисой мы шли по дремучему лесу к дому бабы-яги, и череп двумя лучами освещал нам дорогу. Но самое чудесное происходило, когда Василиса за одну ночь справлялась с любой заданной ей работой.
Вечер. У нас в комнате на сундуке сидим мы с Дуняшей и Митей и слушаем, как отец рассказывает нам сказку о Василисе Прекрасной. На столе горит лампа; мама, склонив голову, подрубает на руках тоненький платочек, и на легкой ткани красиво двигаются ее пальцы. А Василиса тем временем выносит царю-батюшке вышитую ею за одну ночь нарядную рубашку...
Вдруг в окошко стучат. Мама открывает дверь и радостно вскрикивает:
— Ну, наконец-то! Мы уж и ждать перестали!.. Давай сюда чемодан. А это подушки? Нет, нет, я возьму...
Кто-то раздевается в передней, и в комнату с молодым оживлением входит невысокая женщина, поправляя рукой крутые завитки темных, чуть тронутых сединой волос. Пока она здоровается с отцом, я вижу, что волосы у нее подстрижены на затылке, и это меня удивляет так же, как и Дуняшу: у всех женщин, которых мы с ней видели, были длинные волосы.
Но черная с серебром шапка волос на небольшой ее голове очень красива. И вот она подходит ко мне, неожиданно берет двумя руками мою голову, прижимая уши, поворачивает к себе и наклоняется. Я вижу два карих глаза, они внимательно и любовно смотрят на меня, ласковый их свет греет, и я уже люблю эти немного печальные глаза. И вдруг замечаю, что щеки и лоб женщины покрыты маленькими ямками и только около губ чуть морщится улыбкой гладкая молодая кожа.
Так вот она какая, Клавдичка, мамина двоюродная сестра! Это о ней мама предупреждала меня: когда увидишь Клавдичку, не рассматривай ее лицо — оно сильно изуродовано оспой.
Но ведь первыми пришли и познакомились со мной удивительные, ласковые глаза Клавдички; я совсем не замечаю, что ее лицо изуродовано, и, крепко обхватив ее обеими руками, утыкаюсь в белую, складочками блузку.
Всегда бывает интересно ждать человека, который где-то существует, но ты никогда его не видела. Мама часто говорила: «Вот Клавдичка приедет, вот Варя, дочка дедушки Никиты Васильича, придет». Я думала, что они обе — большие девочки, с косами. А вот она какая, Клавдичка!
Меня все в ней привлекает: ее белая блузка с высоким воротником, длинная черная юбка, схваченная в талии широким поясом, маленькая рука и густой, низкий голос.
— А ну, показывай своих друзей, — говорит Клавдичка. — Так это Дуняша?.. Очень хорошо! Митюшка?.. Ну, здравствуй, Митюшка.
Внезапно в передней кто-то хлопает дверью, и оттуда слышится:
— Вот! А вы говорили — я заблужусь, а я совсем не заблудилась!
И в комнату заглядывает девочка. Ее драповое пальтишко все осыпано крупными каплями дождя, темные волосы рассыпаны по плечам, улыбающееся лицо сияет радостью. Ну и девочка! Но мне почему-то жалко, что у Клавдички оказалась такая девочка — это, наверно, ее дочка.
— Вот, Грунечка, я привезла Лелю к родным. Надо же учить девочку: исполнилось десять лет. — И строго: — Что такое, Леля, ты не можешь сначала раздеться, а потом войти?
Девочка быстро раздевается, и вот она вошла. Смелое круглое личико осматривает нас всех, и глаза ее с лукавством останавливаются на Дуняше и Митюшке. Она проходит мимо нас, чтобы поздороваться с мамой, и по дороге пальцами щелкает Митюшку по лбу. Он конфузливо улыбается и отстраняет голову, но не обижается. Кажется, эта девочка может делать все, что ей вздумается.
— Леля! — укоризненно говорит все замечающая Клавдичка и обращается к отцу: — Вы знаете, Саша, перед вашим переулком она отстала от меня, хотела подобрать какую-то кошку, которая в этом вовсе не нуждалась, и, когда я сказала, что ухожу, нарочно задержалась, чтобы я беспокоилась. Но, — Клавдичка смеется и хорошеет, — этого она не дождется: я не умею напрасно беспокоиться, если вижу, что у человека есть голова на плечах. Конечно, я пошла спокойно вперед.
— Значит, у меня есть голова на плечах? — звонким голоском говорит Леля, поворачиваясь к нам и морща свой гладкий лоб. — Вот и прекрасно!
Никогда я не слышала, чтобы дети так разговаривали со взрослыми, и догадываюсь, что девочка «представляется» перед нами. Мы, трое, сидим как очарованные. И, кажется, Дуняше и Митюшке так же нравится эта девочка, как и мне. Мне она кажется совсем большой, а она, как только что сказала Клавдичка, на три года старше меня, Дуняше она почти ровесница. Но Дуняша против нее кажется маленькой, робкой и даже некрасивой.
— Девочки, а во что вы играете? — спрашивает Леля, подходя к нам, поднимаясь на носки и снова опускаясь.
— ...замечательные способности, — слышу я краем уха густой голос Клавдички. — Негде совершенно учить, нужен рояль, учитель, да многое нужно...
Клавдичка машет рукой и... закуривает вынутую из коробочки папиросу. Женщина — и курит! Это очень удивительно.
— А «он»? — спрашивает отец.
— Работает один, тянет, как вол. На прием к нему за двадцать верст идут. А то сам пойдет: ломит и ломит по грязи, по любой погоде; чуть не замерз в степи прошлую зиму. Ноги отморозил, едва оттерли... Любят его.
— Не женился еще?
— Ну, едва ли женится: однолюб. Не надышится на нее: это же форменный портрет матери! — Клавдичка показывает глазами на Лелю, оживленно рассматривающую мою куклу Марфушу.
Вот интересно: девочка рассматривает чужую куклу, но как она это делает! Она приподнимает Марфушу над собой, заглядывает ей в курносенькое лицо, кивает ей и говорит: «Здравствуйте, Марфуша! Какие у вас растрепанные волосы!» Марфуша кланяется ей и... тоненьким голосом отвечает: «Моя мама меня не причесывает и не одевает...»
— Это правда? — спрашивает меня Леля взрослым тоном и, посмотрев на мою нахмуренную физиономию, качает головой: — Видите, Марфуша мне сказала при всех, она не жаловалась, но, правда, со своей дочкой вы обращаетесь... — она отыскивает слово, — как мачеха.
Лелино выразительное личико чуть-чуть омрачается, она садится между нами, отодвигая Митюшку, и он радостно уступает ей место. Болтая длинными ногами и стукая башмаками о край сундука, Леля говорит:
— Мачеха — это когда у детей не родная мама, а чужая. Моя мамочка умерла, я ее даже не помню. Тогда была какая-то тяжелая болезнь, и мамочка вместе с папой лечили людей. Мамочка заразилась и умерла. Но папа сказал, что «никогда другая мама не войдет в наш дом»...
— А Клавдичка кто? — спрашиваю я.
— Тетя Клавдичка — это тетя Клавдичка! — уже смеется Леля. — Она папина сестра, только не двоюродная, а родная. И как-то так выходит, что я тебе тоже какая-то сестра... А что вы сейчас делали? — спрашивает она Дуняшу, до сих пор совершенно молчаливую.
— Нам ее папа сказку рассказывал про Василису Прекрасную, — отвечает Дуняша.
— А ты чего сидишь так смирно? — Леле надо всех расшевелить, она взъерошивает Митюшкины волосы и задумывается. — Мы тебя сейчас женим на Марфуше! — решает она. — Я видела, как справляют свадьбу, это очень интересно!
— Не хочу! — отнекивается Митюшка, но Леля сажает Марфушу рядом с ним, отходит немного, смотрит и вдруг бежит к моей маме.
— Тетя Груня, — говорит она, — нам надо подвенечное платье. Что можно взять?
— Возьми вон кисейную занавесочку...
Леля деловито берет из стопы только что выглаженного мамой белья занавесочку, говорит, что она «годится», и прикладывает ее к Марфушиным волосам. От тяжести занавески парик Марфуши, давно уже отклеившийся и надеваемый как шапка, слезает совсем и обнаруживает круглое срезанное отверстие и пустую Марфушину голову. Там виден валик с грузиком, соединяющий оба Марфушиных глаза. Когда-то она с помощью этого валика могла закрывать и открывать глаза, но это было давно, и сама Марфуша не помнит, что у нее было это свойство: теперь в ней что-то испортилось.
— Да, — говорит Леля. — Это теперь уже не Марфуша, а грудной ребенок. Уа-уа...
И, смешно сощурившись, она подхватывает Марфушу, закутанную в занавеску, качает ее, как ребенка, и поет, обращаясь к Мите:
Митенька, душенька,
Где твоя Марфушенька?
— Леля, — говорит от стола тетя Клавдичка (раз Леля назвала мою маму тетей, наверно, мне надо так называть Клавдичку), — пошли бы вы хоть в кухню, ведь невозможно разговаривать!
— Леля, — говорит мой отец, — а ну-ка подойди сюда!
Он смотрит на нее внимательно и берет из футляра скрипку... Задумчиво прижимает скрипку подбородком, долго держит смычок в руке и берет одну ноту. Потом он кивает Леле.
Поняв его, она легко и свободно серебряным голоском поет эту же ноту. Отец, взглянув на нее, переходит к другой ноте.
И эту Леля берет легко, весело — ей это доставляет удовольствие.
— А ну, вот так...
Отец играет какую-то прелестную мелодию, много раз слышанную мной, которую я не могла спеть даже приблизительно. Серебряный голос Лели звучит, как скрипка, даже еще лучше.
— Флейта! — одобрительно говорит отец.
И тут я вижу, что Леля испытывает удовольствие не оттого, что мы трое слушаем ее, — она больше не «представляется», она радуется сама для себя. Какое-то незнакомое чувство тянет меня к этой девочке и одновременно отталкивает. Мне не хочется, чтобы она была у нас, и вместе с тем я не могу глаз отвести от ее веселого круглого личика с открытым розовым ртом: она поет, и звонко, как флейта, звучит в комнате ее голосок.
Отец опускает скрипку, гладит Лелю по голове и задумчиво, непривычно долго укладывает скрипку в футляр. Он вздыхает, и я слышу этот вздох.
— Слух и голос великолепные, — говорит он. — И как я вспомнил себя! Когда-то так же Федор Карлович пробовал мой слух. Голоса у меня никогда не было, а слух его поразил. Великое благо иметь талант, но талант не лежит спокойно, он требует проявления. Ему необходимо общение, нужны люди, которых он будит. Талант растет, опираясь на душевную взволнованность окружающих. Но, чтобы пробиться с ним, надо много учиться. А на какие гроши было учиться?
Слова отца не совсем понятны мне, но я чувствую, что он говорит о себе.
— Леле надо учиться музыке, — заключает он.
Клавдичка отводит руку с зажатой в пальцах папироской, как будто говоря, что хорошо, если Леле это удастся.
— В этом-то все и дело. Сколько у нас способных людей, которым не дано хода! — возмущенно говорит отец. — Возьмите Петра. Да ведь и я бы мог быть хорошим музыкантом...
Мне ужасно хочется, чтобы отец мог говорить про меня с таким же волнением, как он говорит о Леле. Мне хотелось бы тоже обрадовать его чем-то, суметь сделать что-нибудь необыкновенное. Хорошо бы иметь такой голос, как у Лели: отец играл бы на скрипке, а я пела бы «Снегурочку», как та женщина в белом платье. Почему, если уж я не умею петь, я не могу поучиться играть на скрипке? Вот возьму и буду учиться!
— Хотите, я вам стихи почитаю? — говорит Леля.
Я понимаю ее: она счастлива, и ей хочется делать хорошее всем. Но стихи-то я и сама знаю. Я не успеваю сказать, что лучше стихи прочитаю я, как Леля становится у печки, на более свободное место в комнате, и начинает:
Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный...
Леля кончает последние слова, и мы все трое кричим:
— Еще!
Взрослым Лелино чтение тоже очень нравится.
— Вот говорят тебе, что надо помнить, где остановиться, где помолчать, где сказать громче, где тише, — укоризненно говорит мне мама, — а ты всегда летишь, ничего не разбираешь.
— Нет, этому, — отец подчеркивает это слово, — научить трудно. Это — искра. А чего «искра» — не будем говорить.
Потом мы, дети, перебираемся в кухню, и начинается потеха: мы играем в прятки. Леля прячется за дверь и выскакивает на нас, как только мы ее увидим, забирается в глубину висящей на вешалке одежды, и мы ее едва находим: она ухватилась за вешалку, подтянулась и повисла, подобрав ноги. Потом она набирает в старую резиновую собаку воды, бегает за нами и, сжимая собаку, прыскает на нас водой.
С хохотом мы вскакиваем обратно в комнату. Раскрасневшаяся Леля догоняет Дуняшу, и они, дружно обнявшись, валятся на сундук. Никогда я не думала, что может быть так весело. Я уже слышала от мамы, что Клавдичка приедет и поживет у нас, и у меня пробуждается надежда, что Леля тоже останется с ней.
Стучат в дверь. Мы с Дуняшей и Митюшкой, всей гурьбой, отворяем: наверно, пришел дядя Петр. Но на пороге стоит неизвестный высокий человек с темной бородкой и держит за руку маленького, мне по плечо, мальчика.
— Клавдия Николаевна приехала? — спрашивает он и вдруг замечает Лелю. — Лелюшка, девочка, здравствуй! Ты меня не помнишь?
Он обнимает ее, смотрит ей в лицо и, подняв руку, закрывает ею свои глаза. Мама, отец, Клавдичка — все выходят в переднюю. Отведя руку от глаз, высокий человек снимает шляпу, обнимает тетю Клавдичку, здоровается с мамой и все глядит на Лелю.
— Нет, как похожа, как похожа на Катю! — говорит он.
Мальчик Витя стоит молча, он еще совсем маленький и не знает, что ему делать. Леля и Дуняша бросаются раздевать его.
Все сидят за столом, пьют чай и разговаривают про Лелиного отца.
— Что же он сам не приехал? — спрашивает Лелин дядя. Он брат умершей Лелиной мамы. Леля будет у него жить и учиться.
— Нельзя же, он под надзором! — отвечает Клавдичка, передавая ему стакан чаю.
— И долго это будет? — неприязненно спрашивает Лелин дядя.
— Это будет всегда, — отвечает своим густым голосом Клавдичка. — Пора вам его знать.
— Да знать-то знаю: сестру не мог уберечь, сам не умеет жить. И остался одиноким.
— Не будем спорить, — говорит Клавдичка, — есть разное понимание жизни. Да он и не одинок: я никогда его не оставлю.
Леля уже возится с Витей, и он доверчиво смотрит на нее. Удивительно: она всем нравится!
— Я взял с собой Виташку, чтобы через него скорее найти общий язык, — говорит Лелин дядя, и Клавдичка, усмехаясь, смотрит на него.
Когда Леля не совсем охотно уходит со своим дядей и Виташкой, а за ними убегают Дуняша и Митюшка, мне кажется, что все опустело вокруг.
Необыкновенное чувство не оставляет меня: в комнате сейчас что-то искрилось, сверкало, и вот все затихло, и от этого больно сжимается сердце. Я слышу голос Лели, когда она поет за скрипкой отца, вижу ее улыбку, когда она читает нам стихи...
— Мама, — спрашиваю я, — мы будем ходить к Леле в гости и она к нам?
— Едва ли, — говорит мама и смотрит на тетю Клавдичку. — Да и «он» не очень-то захочет отпускать к нам Лелю.
И тетя Клавдичка добавляет:
— Я говорила брату, что это большая ошибка — отпустить ее в такую семью. Она может развить свои чудесные способности, но ведь не только в том дело, чтобы быть талантливым музыкантом, артистом. Важно направить ее характер, мировоззрение. А если «он» воспитает не того человека? Ведь это же страшная вещь: они чужие нам по духу люди.
Мы долго не виделись с Лелей: ее и в самом деле не пускали к нам. Но с нею в тот вечер в наш дом вошло обаяние талантливого, богато одаренного человека, и в играх с Дуняшей и Митюшкой часто кого-нибудь из нас называли «Лелей»: воображая себя Лелей, почему-то легче было читать стихи и петь песни, чем от самой себя.
Подарок
Всю зиму Клавдичка прожила с нами, и я очень полюбила ее. В моей памяти она чем-то неуловимым соединяется с Кондратьевым: может быть, независимой прямотой своих суждений, а может быть, отношением к поступкам людей. Впрочем, то, о чем я говорю, был один поступок одного человека, и человеком этим была я.
Клавдичка деятельно участвовала в жизни нашей семьи. Мама все собиралась дошить отцу рубашку или довязать мне рукавички, а уж когда-то потом вышить себе красивую занавеску: об этом она давно мечтала. Клавдичка, увидев кисею для занавески, сразу же подставила стул к окну, встала на него и, попросив сантиметр, смерила окно. Потом на столе появился рисунок, карандаш, ножницы, нитки. Началось обсуждение. Подошел отец, посмотрел, взял карандаш и так поправил рисунок, что он всем очень понравился. И вот уже Клавдичка дошивает отцовскую рубашку, а мама с удовольствием рассматривает начатый ею на кисее прекрасный выпуклый рисунок.
Однажды Клавдичка спросила у меня:
— Ну вот, мама к Новому году вышьет занавеску. А ты что ей подаришь?
— Попрошу у папы денег и куплю что-нибудь.
— Это не подарок, — сказала Клавдичка.
— Почему?
— В подарок надо вложить свой труд, тогда это будет приятно тому, кому ты даришь.
Труд? Значит, мне будет очень трудно сделать самой этот подарок...
— Это будет очень долго и трудно, — ответила я.
— Но зато интересно.
— А что я могу сделать?
— Все, что хочешь.
Это меняло дело. Я сразу захотела вышить маме полотенце самым красивым узором на свете. Клавдичка не проявила никакого удивления.
— Выберем рисунок, а материал пойдем и купим вместе. Но прежде всего купим тебе наперсток.
В первый раз я покупала сама в магазине полотно на полотенце, нитки. Купили и наперсток с красненьким камешком.
Рисунок выбрала тоже я сама: два мальчика плывут на лодке — один сидит за рулем, другой управляет парусом. Рисунок перевели через синюю, блестящую с одной стороны бумагу на полотно, выбрав для этого время, когда мамы не было дома. И начались первые уроки шитья, которые давала мне Клавдичка.
Уроки происходили всегда без мамы, и скоро я весело сообщала Клавдичке: «Мама уходит!» Это значило, что мы сейчас будем вышивать.
— Вот как хорошо получается! — радуюсь я вышитой мною линии борта и кормы лодки.
Клавдичка подходит ко мне, наклоняет кудрявую голову, приподнимает и подносит ближе к глазам мою работу.
— Это придется распороть, — говорит она веселым тоном, как будто бог весть как интересно распарывать такую прелестную вышивку. — Нет, нет, это же какая-то веревка лежит, а надо, чтобы была линия, передающая форму лодки. А это что? Топор?
— Да нет же, Клавдичка! — Я называю ее так, как зовут мама и отец. — Это руль.
— Зачем же его так зашивать? Пори, друг мой!
И я порю. И снова вышиваю. От всех этих действий полотенце принимает совершенно измятый и грязный вид.
— Вот, — я с сожалением рассматриваю свою работу, — мама большую занавеску вышивает, и она вся как новая, даже не мятая. А это? Все смеяться будут!
— Не будут. Мы выстираем и выгладим твое полотенце, ты его и не узнаешь.
— А все-таки хорошо, — уже весело говорю я, — когда человек все умеет делать, ни в чем не ошибается, всех слушается и не грубит старшим...
Клавдичка кладет на стол ножницы, которыми она вырезала из бумаги салфеточку, и смотрит на меня.
— А ты знаешь таких людей?
Я киваю утвердительно головой.
— Кто же это?
— Мама.
— А-а! — тянет разочарованно, как мне кажется, Клавдичка и после небольшой паузы осторожно добавляет: — Но это теперь она такая, а ведь когда она была маленькой, как ты...
Я поднимаю глаза и вижу покрытое оспинками худощавое лицо, ясные, живые, внимательные глаза и в них веселую, смешливую искорку.
— Когда мама была маленькой, — говорю я убежденно, — она всегда была послушная, не упрямая...
— Не всегда, — вздыхает Клавдичка. — Это-то, впрочем, не очень и нужно — всегда слушаться. А насчет упрямства — ой-ой-ой, как еще она упрямилась!
Я поражена до глубины души, но что-то в выражении лица Клавдички говорит, что это, наверно, так и было.
— А почему она упрямилась?
— Ну, потому же, почему и ты. Виновата, а сознаться в своей вине не хочет, вот и упрямится.
Клавдичка замечает впечатление, произведенное ею на меня, и говорит:
— Дело, голубчик мой, в том, что человек тем и чудесен, что, увидев свой недостаток, он борется с ним, преодолевает его, и только тогда из него выходит человек!
Она говорит это таким уверенным, взволнованным и звучным голосом, лицо ее освещено, глаза блестят. Такой я запоминаю ее на всю жизнь.
Все произошло так, как говорила Клавдичка: выстиранное и выглаженное полотенце приобрело такой нарядный, новый вид, что когда я дарила его маме, то боялась — никто не поверит, что это я сама вышивала.
Но мама, и отец, и Дуняша, и Митюшка поверили и очень восхищались. А скоро я опять поссорилась с мамой...
Я стояла против нее, опустив голову, и, несмотря на то что мне давно следовало попросить прощенья, и не думала этого делать.
— Откуда ты такая упрямая? — спросила меня мама.
— От тебя, — вдруг ответила я.
— Повтори, что ты сказала!
— Да, я от тебя упрямая! — сказала я.
— Но я никогда не была упрямой.
— Нет, была! — повторила я с упорным желанием сказать неприятное маме.
Мама молча, вопросительно посмотрела на Клавдичку.
— Почему же ты знаешь, что я была упрямой?
— Клавдичка мне сказала, что ты была упрямая... и злая.
И в этот момент все исчезло: упрямство, злость... Осталось на миг ощущение торжества победы. Потом и оно померкло. Что я сделала! Я не только передала то, что сказала Клавдичка, а еще и прибавила слово «злая», которого она совсем не говорила.
Я взглянула на Клавдичку. Она укоризненно смотрела на меня, все лицо ее стало красным от возмущения.
— Вот как? — пожала плечами мама, перенося всю досаду на Клавдичку. (Это было видно по гневному выражению ее глаз.) — Едва ли правильно на таких «примерах» воспитывать ребенка.
Клавдичка вынула из своего деревянного портсигара папироску и закурила. Она молчала, принимая на себя всю досаду и недовольство моей матери.
— Ну что же, — сказала мне мама, — можешь упрямиться, раз у тебя такой плохой пример в жизни, как собственная мать.
И я поняла, что весь укор этих слов направлен опять-таки мимо меня, на Клавдичку. Это уже не меня ругали. Но как мама не заметила главного: того, что я сделала сейчас проступок в сто раз худший, чем тот, незначительный, из-за которого загорелась наша с ней ссора!
Нерешительно подойдя к маме, я сейчас же призналась, что я была виновата, и внешне ссора закончилась. Но дело-то было глубже: ощущение непоправимой вины перед Клавдичкой, говорившей со мной, как с подружкой, перед Клавдичкой, которую я «выдала», было нестерпимо.
Я сделала один шаг к Клавдичке, другой... Она повернула голову и посмотрела на меня не строго, но с таким сожалением, как будто говорила: так, значит, тебе нельзя довериться, значит, я ошиблась в тебе!
Я повернулась и выбежала из комнаты. Не раздумывая, я уже знала, куда мне идти. В порыве глубокого и горького раскаяния и сознания сделанного мной гадкого поступка я кинулась к Дуняше. Это было единственное пристанище: Дуняша любила меня, а дома любить меня уже не могли.
Я прошла по длинному темному коридору фабричного общежития, освещенному через полуоткрытые двери комнат, замечая на ходу то ситцевую, цветами, занавеску, то качающуюся зыбку, подвешенную у низкого потолка. В одной из комнат девочка мыла некрашеный пол.
Девочка — ее звали Нюша — выпрямилась, держа в руке мокрую тряпку, и отвела рукой белокурые спутанные волосы.
— К Дуняше идешь? — спросила она, вглядываясь в коридор. — А ведь Дуняша-то хворает.
— А Катюшка где?
— Катюшку в люди унесли. — И Нюша снова нагнулась над полом.
Дверь комнатки, где в отгороженном занавеской углу жили теперь Кондратьевы, была закрыта и не сразу подалась. Она открылась только после крепкого толчка. В комнате никого не было, какая-то непривычная тишина стояла в ней. На большой кровати, покрытой сшитым из лоскутков одеялом, лежал ворох старья, и под ним кто-то тяжело дышал.
Я подошла и отвела край ватной куртки — лицо Дуняши, красное, с блестящими глазами, появилось передо мной. Я взяла ее маленькую руку — она была горячая и вяло лежала в моей руке.
— Попить бы... — сказала Дуняша.
Я налила воды из самовара и подошла к Дуняше, но она не могла подняться. Давая ей пить, я намочила подушку.
— Хорошо, — шепнула она, укладываясь красной щекой на мокрую, холодную ткань, и затихла.
Все это время — может быть, полчаса или четверть часа, — когда я сидела около Дуняши, из самоварного крана капала вода на черный поднос, в окна тускло проникал уже сумеречный свет позднего зимнего дня, и мне было так тяжело и тоскливо, как никогда не бывало раньше. Дуняша, которая непременно «пожалела» бы меня, лежала, закрыв глаза, и даже не слышала, когда я окликала ее.
Может быть, она умирает, а я не знаю, что сделать! Мне и в голову не приходило побежать за мамой, как это я сделала бы раньше.
Внезапно дверь отворилась, и вошел... Кондратьев. Не меньше года прошло с тех пор, как его уволили с фабрики. Он, как говорила Ксения, нашел работу на другой фабрике, под Москвой, и потому редко приезжал повидаться с семьей. Кондратьев тихонько притворил за собой дверь, снял шапку, пальто, повесил на гвоздь и, стараясь тихо ступать по скрипевшим половицам, подошел к постели. Наклонившись над Дуняшей, он положил руку ей на лоб, укрыл ее поплотнее и сел около меня на табурет.
— Жалеешь Дуняшу? — сказал он, кладя большую свою руку мне на плечо. — Сильно горит она. Уж ты не зря ли пришла? Не дай бог болезнь перекинется! Иди-ка ты домой.
— Не пойду! — искренне и горячо сказала я: сейчас не было мне лучше и милее места, чем эта комната и добрый ко мне Кондратьев.
Но он меня понял по-другому. Он сказал ласково:
— Ну ладно, сиди. Дружба так уж дружба! Не бросаешь подружку, так и надо. Ты не горюй: поправится Дуняша, опять будете играть... Мы с тобой сейчас вместе пойдем у Аграфены Васильевны лекарства Дуняше спросим.
— Я домой не хочу идти.
— Что так?
Доброе лицо Кондратьева располагало к хорошему разговору.
— Дома на меня все сердятся.
— За что? Что ты там напроказила?
Глубокое ощущение своей вины, отодвинутое на время беспокойством о больной Дуняше и смягченное ласковым отношением Кондратьева, возникает с новой силой. Чуть слышно я говорю:
— Я... не напроказила, — и опускаю голову.
— Ну, так это добро! — говорит весело Кондратьев. — Лишь бы сама не делала плохого. Другой раз, милый ты мой человек, бывает так, что и маманя напрасно поругает. У нее забот тоже немало, что-нибудь расстроит ее, а на тебе отольется. Ты этого к сердцу не бери, не помни обиды. У взрослых жизнь не простая. Это не то, что поиграл с подружкой, поссорился, обиделся, помирился...
— Я плохое сделала, дядя Степа... — говорю я, едва решаясь поднять голову.
Теперь Кондратьев пристально смотрит на меня со своим настойчивым, вопросительным выражением. И вдруг я рассказываю ему все, что со мной случилось.
Рассказываю, и слезы капают мне на грудь и на колени.
— Так вот какие дела... — медленно говорит он. — Это ты, и верно, сделала худо. Правду сказать тебе — очень плохой это поступок. Поссоритесь, подеретесь — это малое дело: помирился и не помнишь. А эта штука цепкая, она на совесть ложится. — Глаза Кондратьева снова ласково смотрят в мои глаза. — Ну, раз поняла, больше не будешь так делать?
— Не буду... никогда... — плачу я навзрыд, чувствуя его руку на моем плече, и мне становится все легче и легче.
В дверь заглядывает мама; она окидывает беспокойным взглядом всю комнату.
— Ты здесь? Так я и знала. А что это с Дуняшей?
— Горит с ночи, — отвечает, здороваясь, Кондратьев. — Подружка-то без меня забежала; я посылал домой — не пошла.
— Иди, иди домой! — говорит мама. — Я все сделаю, что нужно. Дайте я посмотрю.
Мама и Кондратьев склоняются над Дуняшей. Постояв немного, я потихоньку выхожу из комнаты.
Дома я подошла к Клавдичке и хотела сказать ей, что больше так не буду, как только что сказала Кондратьеву. Но язык мой не повиновался мне; я упорно смотрела на Клавдичкин пояс и маленькую руку, лежащую на ее коленях. Она спокойно спросила:
— Понимаешь, как плохо может выйти из-за одного слова?
— Понимаю, — сказала я, поднимая голову. — Ты на меня не сердишься?
Так как-то случилось, что я назвала ее «ты», как отца и маму.
Хорошо или плохо?
В то время моего детства я не знала, как живет наша семья — хорошо или плохо. Данила-дворник говорил, что хозяева, как наш Микитин, живут «и не сравнить насколько лучше», чем мы, а очень много людей — хуже; но я не знала, почему люди живут лучше или хуже. Мне казалось, что никого нет лучше моего отца, моей матери и ни у кого в доме нет таких хороших вещей, как папина скрипка, мамина швейная машинка, ее теплый большой платок и голубые чайные чашечки. Эти чашечки она ставила на стол, только когда приходили гости; это называлось «праздник».
На мой взгляд, наша семья жила очень хорошо.
Хорошее было в том, что отец все умел делать, и на это бывало страшно интересно смотреть. Столы и скамейки, красивые полки и даже большой книжный шкаф, стоящий у нас в столовой, были сделаны его руками. Я любила смотреть, как отец, прижав доску коленом к скамье, со звоном резал ее пилой, стругал рубанком и, подняв на уровень глаз, смотрел, ровно ли она выстругана.
Он с удовольствием проводил рукой по гладкому, хорошо пахнущему дереву, и я за ним вела своей рукой по шелковистой поверхности. Отец легко мог отпилить мне от этой доски кубик, палочку, сделать скамеечку или волчок. Иногда он давал мне кисть и разрешал покрасить сделанную им скамеечку. И, радуясь, что мне доверяется серьезная работа, я водила кистью с великим старанием.
Не раз я слышала в корпусе, где жили фабричные, как кто-нибудь играл на гитаре, на гармошке, но гораздо лучше, чем они, играл на скрипке мой отец. Когда я слушала его, передо мной сами собой появлялись разные картины.
В руках отца чудеса происходили каждый день, и одним из чудес была пересадка цветов весной. На окнах у нас стояло много цветов в глиняных горшках: моя мать очень их любила.
Отец приносил в кухню хорошей черной земли, светлого, рассыпчатого песку и, подстелив рогожу, насыпал все это горкой на полу. Сюда же он выносил и цветы, которым стало тесно в горшках.
Он брал растение одной рукой как-то особенно аккуратно за стебель около самого корня, поднимал над полом и легонько ударял молотком по горшку. Разбитые черепки отваливались, и в руке у отца оказывался «куличик», какие я делала из сырого песка, только он весь был оплетен жесткими на ощупь белыми корнями.
Отец обминал куличик обеими руками, постукивал им по полу, и старая земля отваливалась.
— Вот как тесно было корням, — говорил он. — Смотри, как переплелись! Ну, мы их сейчас распутаем немножко.
Он отгибал корни, а некоторые из них подрезал и отбрасывал.
— Ну, теперь берись за работу. Ставь сюда на пол новый горшок. Положи маленький черепок на отверстие в донышке: это чтобы земля не высыпалась. Теперь давай две горсточки песка.
Он опускал растение с освобожденными корнями в новый большой горшок, где корням было совсем свободно, а я засыпала корни свежей землей, придавливая слегка пальцами.
— Ну, вот и хорошо. Молодчина, — говорил он, — девочка — первый сорт!
Слышать это было очень приятно, как и видеть растение в новом горшке. Блестящие листья ожившего цветка свободно размещались над свежей черной землей, и освобождение бедного, стиснутого растения радовало нас обоих.
Маленькие растеньица отец пропускал между указательным и средним пальцами, перевертывал плошку на ладонь, и горшок снимался сверху, как колпачок. Это уж был просто фокус.
— Фокус-покус! — говорил он.
По вечерам отец подходил к столу, зажигал керосиновую лампу под четырехугольным абажуром — она называлась «конторская» — и придвигал к себе счеты и тоже «конторские» книги. Они были длинные, толстые, испещренные столбиками цифр. Каждый вечер я видела освещенное огнем лампы, склоненное над столом его лицо.
Нет, никогда не сидели праздно за столом отец и мать, всегда они оба делали какую-нибудь работу, ничего не приходило к нам в дом без их труда.
Только в самом раннем детстве я думала, что одна загадочная вещь все-таки появляется сама.
Я всегда с нетерпением ждала воскресенья, когда отец оставался дома, подолгу играл на скрипке и разговаривал со мной. Я очень любила этот день. Но бывали и еще особенные дни, которые праздновались в нашей семье, — дни рождения всех нас. Эти праздники я узнавала по тому, что накануне мама убирала комнату тщательнее, чем всегда, и с вечера ставила тесто в большой желтой макитре. Я очень любила смотреть, как она это делает.
Засучив рукава и подвязав передник, мать доставала пакет с мукой, банки с солью и сахаром, дрожжи, несколько яиц, наливала теплую воду в большую глиняную макитру, подсыпала туда все по порядку и вымешивала узкой деревянной веселкой. Потом она накрывала макитру чистым полотенцем, снимала передник и уходила из кухни, говоря: «Пойдем, тебе пора спать».
Но я догадывалась, что, когда я засну, мама выйдет в кухню и, как делала в сказке Василиса Прекрасная, сложит все приготовленное в печку. Потом она вернется в комнату, вынет шпильки, заплетет потуже длинную косу и спокойно ляжет спать. Наутро она встанет веселая, быстрая, откинет мое одеяло и скажет: «А ну, вставай, посмотри-ка, что там появилось у нас!»
И на столе в кухне будет стоять высокий, душистый хлеб с красивыми украшениями наверху. Его принесут маме, как приносили Василисе Прекрасной по ее приказанию хлеб, какой она едала у своего батюшки. Об этом рассказывалось в сказке. Появление этого замечательного хлеба и казалось загадочным.
Однажды, перед днем моего рождения, я проснулась ночью. Что-то разбудило меня. У противоположной стены на большой кровати спал отец, а матери в комнате не было. В кухне слышались ее легкие шаги: наверно, сейчас она как раз высыпает в печку все приготовленное! Я потихоньку слезла с кровати, подошла к двери в кухню и открыла ее.
В русской печке, которую редко топили, ярко горел огонь. У стола перед посиневшим на рассвете окном стояла мать и ловко раскатывала тесто. Руки ее так и мелькали над столом. Увидев меня на пороге, она обернулась ко мне, спросила, улыбаясь: «Что же ты не спишь?» — и, вытянув длинную полосу белого, сдобного теста, быстро свила ее жгутом и положила на стол красивый крендель.
— Это ты сама делаешь? — спросила я. — А я думала....
— Что же ты думала?
Не зная, как ответить, я спросила еще:
— А почему ты ночью встаешь?
— Во-первых, сейчас уже утро, — ответила мама, — а встаю я рано потому, что днем мне будет некогда.
И в самом деле, днем ей всегда бывало некогда: в будни она шила, готовила, убирала комнату, в праздник приходил кто-нибудь из тех людей, которых я помню с детства.
В то утро мама посадила меня в кухне на сундуке и накинула мне на плечи свой большой платок. И хотя я ясно видела, что мягкое, пышное тесто выкатывают и разрезают ловкие мамины руки, что это ее голова с большой русой косой наклоняется над столом, мне она все-таки казалась Василисой Прекрасной, одаренной чудесным умением делать вкусный хлеб из белой, сыпучей муки. Огонь, струящийся в печи, лизал верх ее темного свода, и свод прокаливался, становился светлым. Золотые, жаркие поленья разваливались и потрескивали, обдавая жаром мое лицо. В чугун с водой падал огненный уголек и с шипеньем угасал, а на темную поверхность воды ложились отсветы пламени.
Мать иногда ласково взглядывала на меня и не прогоняла спать. На черных листах перед ней смешно надувались, делались пышными и толстыми причудливо завитые плюшки.
— Тесто всегда так подходит, — сказала мама. — Потрогай, какое оно стало мягкое,
И я потрогала пальцем мягкое, но упругое тесто.
Потом она разбросала по всему поду печи золотые угли, прикрыла печь заслонкой, и, когда угли померкли, она разгребла их и стала сажать сначала плюшки, а за ними посадила каравай.
От печки мне было тепло, а на мерные движения знакомых рук матери было очень хорошо смотреть. Я все смотрела и не помню, как заснула тут же, на сундуке.
Проснувшись, я удивилась, что очутилась в спальне, быстро соскочила с кровати и побежала в кухню. Там на столе стоял нарядный, весь розовый каравай, сделанный мамиными руками, и от него очень вкусно пахло только что испеченным хлебом.
Вот как интересно было жить в нашей семье!
Раз в такой день пришла к нам Маша, и я похвалилась:
— Вот какой каравай у нас! Это моя мама испекла.
— Моя мама тоже так умеет, — ответила Маша.
Вот так так! Мне это почему-то не понравилось: мне хотелось, чтобы мамин хлеб был особенный и появлялся как в сказке, — мне так больше нравилось. Но какое же это волшебство, если и ее мама умеет печь так же хорошо?
— Но моя мама все равно делает лучше, чем твоя! — упрямо сказала я. — Ты же сама кушала.
— Ну нет, — ответила Маша, — у мамы тоже красиво получается! Она же в пекарне работала, пока мы сюда не приехали. Только моя мама сдобный хлеб на людей пекла, не себе.
— Почему не себе?
— Да ведь этот хлеб дорогой, мы его купить не можем, у нас денег нет.
Словом «мы» Маша объединила себя со своей матерью и сделала это так уверенно, что сразу показалась мне гораздо старше и умнее меня.
Выходило, что Машина мама хотя и пекла такой же вкусный хлеб для людей и получала жалованье за свою работу, — но ни она сама, ни Маша его не ели.
Какое-то разделение людей на таких, которые могут покупать, и других, которые работают, но не могут покупать, приоткрылось мне. Но мне еще не видно было, отчего это происходит.
Лучше или хуже?
К нам приходили разные люди. Одни были родные: дедушка Никита Васильевич, дядя Петр, Клавдичка, которая одно время даже жила у нас, другие — знакомые. С ними со всеми в дом входило что-то интересное, особенное для каждого. Чаще других бывали у нас дедушка Никита и Дуняшина мать, Ксения.
Дедушка Никита Васильевич входил всегда неторопливо и приносил что-нибудь завернутое в клетчатый носовой платок. Это оказывалась или булочка, или горсть орехов, или фарфоровая голенькая куколка для меня.
Наша соседка, говоря про дедушку Никиту Васильевича, употребляла лишь увеличительные слова: «ножищи», «ручищи», и даже нюхательный его табак называла «табачище». Но походка у него была легкая, в руках все спорилось, и мама рассказывала, что дедушка Никита был самой искусной сиделкой. У него дома больная жена Меланья Михайловна, и дедушка вместе с дочкой Варей ухаживают за ней. А когда дядя Петр в детстве болел страшной тогда болезнью — оспой, около него оставался дедушка Никита Васильевич. Во время оспы тело покрывается нарывами, невозможно удержаться, чтобы не расчесывать их. Мальчик метался по кровати, а дедушка сидел, держал его руки и прикладывал к волдырям пропитанные маслом тряпочки, унимавшие зуд, менял холодные компрессы на голове. Так после страшной оспы у его племянника не осталось ни одной оспины на лице.
— Дедушка, — спрашиваю я, — мама говорит, ты дядю Петю вылечил. Ты, значит, доктор?
— Что ты! — Дедушка Никита Васильевич долго смеется и гладит меня по голове. — Доктор — это ученый человек, он болезнь признал, а я только делал, что он приказывал. Я человек неученый.
Но мне все равно кажется, что дядю Петра вылечил дедушка Никита. Какой же он неученый? Он все знает: как жаворонки приносят весну, когда день прибавляется и когда убавляется. И говорит всегда так складно: «Петр и Павел дня убавил», «Пришел Спиридон-солнцеворот, повернул солнце на лето, зиму на мороз».
Вот я сегодня похвалилась, что встала рано-рано... А он ответил:
— Не радуйся раннему вставанью, радуйся доброму часу на работу!
Я беру маковник из большой дедушкиной руки и словно вижу, как он сидит, наклонившись над больным мальчиком, большой, заботливый, неторопливый, каким и сейчас он вошел к нам в дом.
Ксения всегда прибегала к нам с выбившейся из-под платка тонкой светлой прядью волос; лоб ее изборожден мелкими морщинками, бледное лицо с большими испуганными глазами доверчиво обращено к матери.
— Аграфена Васильевна, — говорит она, — дайте, пожалуйста, пятнадцать копеек, я не получила вчера... С теми будет восемьдесят копеек.
Мать встает, подходит к комоду, достает монету и маленькую синюю юбку.
— Вот юбка Дуняше, — говорит она, — вчера я не успела дошить.
— Ой, — говорит Ксения, — мне уж совестно было спрашивать!.. А у нее последнее платьишко свалилось... Я за работу заплачу вам.
— Тут работы немного, — отвечает мама. — Ничего я не возьму.
Мать моя умеет шить, и жены рабочих иногда просят ее сшить платье или рубашонку детям. Ее называют доброй; она, наверно, в самом деле такая, хотя иногда сердито пробирает меня. Но отказать человеку в просьбе она не может.
Мать вспоминается мне в прекрасные минуты ее душевного участия к человеку, когда лицо ее выражало желание помочь, когда, склонив голову с гладко причесанными густыми русыми волосами, заплетенными в косу и тяжело свернутыми на затылке, она выдвигала ящик комода и доставала что-то, торопливо говоря: «Это нам не нужно, это так лежит...»
Запомнился мне болгарский черноглазый мальчик со своей матерью. Они сидят в кухне, а мама вынесла им из комнаты какую-то теплую крепкую одежду и ставит на стол хлеб. По стеклам окна текут струи дождя. Осень.
Я помню смуглые голые плечи женщины, выступающие из рваной пестрой сорочки, и голубые белки ее глаз с черными огромными зрачками, черные ресницы и темные усталые веки. Она посадила рядом с собой мальчика с кудрявой головой, полуголого и худого. Грудная кость и ребра у него обтянуты тонкой кожей и выпирают. Перед мальчиком стоит тарелка с горячим супом, он подносит ложку ко рту, обжигается и вскидывает ресницы, такие же густые и длинные, как у его матери.
В детстве моем, я помню, часто ходили по улицам Москвы такие женщины; они называли себя болгарками и рассказывали о турках, которые хозяйничали в их стране и грабили их города и села.
У нас во дворе говорили, что это цыганки и дети с ними — не родные их дети, а краденые. С детьми же они ходят для того, чтобы люди их больше жалели и охотнее давали им разные вещи.
Но женщина с мальчиком у нас в кухне были мать и сын: выражение огромных голодных глаз женщины, обращенных к мальчику, и взметнувшийся к моей матери взгляд, где благодарность смешивалась с завистью, не могли обмануть. И у моей матери в глазах было доверие и участие к другой матери.
Дядя Петр пришел к нам в тот день и застал в кухне болгарку с сыном. Потом вечером он сердито говорил моей матери:
— Правильно, голодного накормить надо, с этим я не спорю. Но я просто советую тебе посмотреть поближе около себя.
— Я понимаю, про что ты говоришь, — ответила ему мама. — Близкую нужду я тоже вижу и стараюсь помочь, но что я могу? Ты знаешь, что мы сами едва сводим концы с концами.
Мама часто говорит про эти «концы», а мне всегда представляется, что ходит какой-то человек и старается подтянуть один конец большой веревки к другому...
— Я про то и говорю, — нахмурившись, так же сердито сказал дядя, — что такой личной помощью ничего не изменишь, все нужно менять другим путем.
Мне непонятно, на что он сегодня сердится. Обычно, когда к нам приходил дядя Петр, все оживало. Если в доме не было денег, дядя Петр смеялся и говорил, что это «в порядке вещей». Мама раз спросила его, улыбаясь:
— Почему ты считаешь, Петя, что это в порядке вещей?
Дядя Петр ответил:
— Потому что Саня — мелкий служащий и честный человек.
С отцом они всегда подолгу разговаривали, и в пепельнице, стоявшей на столе около дяди Петра, накапливалась груда окурков. Бывало, он приходил очень усталый и спрашивал:
— Саня, нет ли у тебя водочки? Как ты живешь без водочки? Иногда непременно надо выпить... Дома Лизавета Сергеевна не велит, в кабаки не хожу, брат вина не держит... — и смеялся, доставая из кармана маленькую бутылку.
— Да, ты прав, — в этот раз ответила мать, — заглянешь на квартиры фабричных — и просто ужас берет: тот принес от жалованья жалкие гроши, другой болеет чахоткой... Женщины бьются как рыба об лед. А дети? Взял бы все это в руки и переставил бы по-другому, чтобы люди могли жить.
— Вот-вот, — сказал дядя Петр, — это уже правильные слова. И надо, надо переставить! Ходи почаще на фабричные квартиры да подумай о том, что видишь...
Я хорошо знала дом, где жили рабочие; я ходила туда к Дуняше; мама всегда отпускала меня к ней. Когда Кондратьева уволили с фабрики, Дуняша редко стала приходить к нам: мать ее целыми днями работала в прачечной, а у Дуняши было много домашних дел. Чтобы не было лишних разговоров о Кондратьеве, Ксения говорила всем, что муж ее работает на фабрике далеко от них, живет в общих спальнях и поэтому пока не может взять ее с детьми к себе. Дуняша же как-то сказала мне, что отец «попал в черный список», и потому его нигде не принимают на работу. Этот страшный список долго представлялся мне листом черной бумаги и на нем мелом написано: «Кондратьев».
Мама и теперь отпускала меня к Дуняше, но с условием — не заходить на общую кухню. В общей кухне были грязные лавки и столы. Густой, тяжелый запах стоял в ней от кислой капусты, несвежих продуктов, от стирки белья, которое постоянно сушилось тут же на протянутых у потолка веревках. В рабочих общежитиях часто ссорились и ругались; рабочие жили тесно; на длинных нарах, на тощих тюфяках всегда кто-нибудь спал. На грязном асфальтовом полу около нар валялись стоптанные сапоги и опорки.
Прежде в маленькой комнатке у Кондратьевых было чисто: Ксения добела выскребала некрашеный пол, чисто промывала маленькое окно со щелястой рамой и прибивала ситцевую занавесочку. Кондратьев был непьющий. Это слово обозначало очень завидное качество человека. Когда Ксения заходила к маме и рассказывала ей о ком-нибудь из рабочих, она всегда разделяла их на пьющих и непьющих:
— Ну, этот непьющий, как и мой Степа. Это же ей такое счастье, Аграфена Васильевна: непьющий муж попался! — говорила она.
И произносила это «непьющий» с восторженным удивлением, что бывают люди с таким замечательным качеством.
Зато слово «пьющий» в ее речи встречалось гораздо чаще, и она роняла его легко, махнув рукой.
«Пьющие», заходя в праздники на фабричный двор, шумели и кричали. Это, казалось мне, были веселые, хорошие люди, хотя случалось, что они затевали драки, и тогда Данила угрюмо уговаривал их разойтись. Но даже в ругани Данилы не было слышно осуждения.
Не раз он говорил, что наши ткачи пьют от плохой жизни. Я сама видела, как трудно и тяжело было жить их семьям: у них всегда голодали дети, плакали избитые мужьями женщины... Но как сложилась эта плохая жизнь?
Я видела, что и «непьющие» рабочие жили так же трудно.
Иногда приехавшего хозяина встречал около конторы рабочий, ожидавший его здесь с утра. Он быстро сдергивал с головы картуз, кланялся и тихим голосом просил о чем-то хозяина. Хозяин останавливался и громко повторял:
— Расценок, говоришь, сбавили? Заявляешь претензию за штраф? Дело твое! Не нравится у меня работать — могу рассчитать. На твое место — десяток у ворот, — и проходил, не глядя, мимо просившего.
Однажды зимой во дворе фабрики я увидела, как хозяин выходил на крыльцо конторы, отдавая распоряжения старшему приказчику, стоявшему за его спиной. Лошадь, запряженная в санки, стоя у забора, нервно переступала ногами. Кучера не было. Данила, завидев хозяина, побежал в свою «дворницкую», куда ушел греться кучер. Приказчик стоял в дверях конторы без шапки, рыжеватые волосы его, подстриженные в кружок, блестели на солнце, будто смазанные маслом, широкое, красное лицо с плутоватыми глазами было обращено к хозяину.
— Ну, ступай! Делай, как я приказал, — закончил хозяин и спустился с крыльца.
Приказчик быстро повернулся и исчез в темном коридоре.
Хозяин оглядел двор, покрытый снегом, весь испещренный следами проходивших тут людей. На снегу были видны разноцветные пятна от вылитой краски. В это время к нему подошел старик красильщик, высокий, суровый человек с нахмуренным лицом, давно работавший на фабрике, и снял шапку. Ветер шевелил его густые седые волосы.
— Чего тебе? — спросил хозяин.
— Такое дело, Павел Никанорыч, — сказал старик, — уволили вы меня безо всякого последствия. А ведь я на вас сорок лет работал... Сколько же из моих рук знаменитых материй вышло, это надо подсчитать. Вспомните, была ли где порча или брак?
— Чего ж тебе надо? — повторил хозяин. — Что полагается, ты получил. Иди, иди восвояси! — и махнул рукой.
Но старик не собирался уходить.
— И думаешь, ты со мной по справедливости обошелся? — с обидой сказал он. — Немного ведь я с тебя получил. Я к тебе не милостыньку просить пришел. А надо мне вот что: уволили меня не за провинность, а по старости моих лет, значит, должно быть мне вспоможение. А то что же, мне по миру идти после трудовой жизни?..
— Данила! — нетерпеливо закричал хозяин.
— Ты в красильне пять минут не вытерпел, — жестко продолжал старик, не давая перебивать свою речь, — а я всю жизнь в ней пластался. И улучшений никаких не видел. У нас в красильной баки с кислотой да с красками до сих пор открытые стоят. Воздух ядовитый и сырость все легкие мне съели. Бумага, доска желтеют за сутки в этом воздухе, а тут ведь человек...
Хозяин ступил в сторону. Но старик загородил ему дорогу и продолжал:
— Ты нам простой вытяжки не мог установить, сами уж трубу деревянную в окно вывели. А ведь я тебе новые краски производил! Самоучка, а не уступал ученым красковарам. Секрет свой не утаил. Тебе же от этого денежки в карман текли. Лазоревый колер-то — это моя краска...
Кучер выбежал из Даниловой сторожки, натягивая на бегу рукавицы. Подбежал, огладил лошадь, встряхнул синюю полость с медвежьей опушкой. Искрясь на солнце, посыпался осевший на ней иней. Плотно сжав губы, хозяин шагнул мимо старика, отводя рукой загородившего дорогу человека.
— Проходи, проходи! Ты и человек-то проходящий! — вдруг резко и властно закричал на него старик. — Спеши! Что от тебя, от твоей жизни на земле останется? Пшик останется!..
Хозяин торопливо прошел к саням: кучер уже подавал лошадь. На большом, пустынном дворе остался стоять только высокий, худой старик, странно величавый перед быстро мелькнувшим хозяином.
— Что мне полагается, говоришь, я получил?.. — кричал старик. — А что, и то правда! Уважение людей получил, меня каждый на фабрике уважает. Меня люди по имени-отчеству величают, а тебя кличут...
Подбежавший Данила откинул полость, и хозяин шагнул в сани.
«Какой противный, злой этот хозяин!» — подумала я.
— Убери его со двора долой! — бросил он дворнику. — Городовому скажи.
Он грузно опустил на сиденье свое большое тело. Данила угодливо подобрал полы шубы, запахнул полость и побежал стремглав открывать ворота.
В воротах мелькнул высокий задок саней, на выезде резко качнулась широкая спина хозяина и над ней острая, колпаком, каракулевая шапка. Данила закрыл ворота.
— Алексей Герасимович, — сказал он, с уважением подходя к старику. — Зайди ко мне в светелку, погрейся. Плюнь на него, старого черта. Человек живет хуже не знай кого!
Тот же Данила, который утверждал, что хозяин живет лучше нас, теперь говорил совсем другое о его жизни. У хозяина была фабрика, шуба, лошадь, дом, и этим он жил «лучше», то есть богаче нас и тех, у кого не было всего этого. Но выходило, что хозяйского «лучше» не надо было желать: оно не принесло ему уважения людей; наверно, оно было плохое, самое худшее...
На другой день я спросила Данилу:
— Вот ты говорил, хозяин — богатый. А что же он старику ничего не дал?
— Эге, брат, хозяин растет на наших грошах! Кабы он стал раздавать, он бы и хозяином не был. А вот Герасимыч полвека работал и нынче руку будет протягивать.
— Дедушка этот у тебя теперь живет? Старик?
— Старик-то? — спросил он. — А что?
— Он бедный?
Данила ответил загадкой:
— Небогат, но побогаче нас с тобой — уважением мирским. Так-то!
На фабричном дворе
В шесть-семь лет я не могла еще понимать, что совершается передо мной и какие события развертываются на фабричном дворе перед окнами нашего флигеля. Вероятно, многое из виденного мной тогда я запоминала потому, что оно повторялось не один раз и об этом рассказывалось впоследствии взрослыми, когда я была уже старше. Но некоторые стороны жизни не могли остаться не замеченными мною и в то время, и постепенно они выступали все резче — конечно, потому, что я сама подрастала.
Так, большой фабричный двор перед нашими окнами не только меняется весной и летом, осенью и зимой, но по-иному представляется мне и в разные времена моего детства. То — это широкое, громадное пространство, где можно бегать с утра до вечера, гоняться за Чоком, смотреть, как Данила бежит отворять ворота «Микитину», и прятаться от девочек за углом фабрики или за ржавыми станками, сваленными у забора; то — это темный, сузившийся от вечерней темноты двор под крупными звездами и голос Кондратьева негромко поет любимые его песни; то — по хрустящему снегу мы идем с дедушкой Никитой Васильевичем и синие тени ложатся от нас на белый блестящий двор. То смотришь — пятна красной, зеленой, оранжевой краски выступают на снегу... И вдруг этот двор преображается: в ворота группами входят ткачи, собираются у конторы, слышится говор недовольных, раздраженных людей. За воротами раздается пронзительный свисток полицейского...
То, что на фабрике главным среди всех был хозяин, я усвоила с самого детства. У него были фабрика, фабричный двор, контора, флигель, где мы жили, и дома, где жили рабочие. Хозяина, одного человека, боялось и слушалось много рабочих. Хозяин имел силу заставить всех их служить ему. Когда рабочим надо было увидеть хозяина, они иногда по нескольку часов дожидались его, стоя во дворе в любую погоду.
Самые сильные впечатления всегда запоминались мной и впоследствии появлялись перед глазами, словно изображенные на картине; как будто кто-то нарисовал все происходившее так ясно, что через много лет я вижу и могу описать фигуры людей, как они стояли, какое чувство выражалось на их лицах и какая одежда была на них в это время.
Вот рабочие собрались у конторы получать жалованье и ждут хозяина. Высокий сутулый ткач, которого все зовут «дядя Паша», говорил сейчас, что получка у него «грошовая», работает он «до полного изнеможения, а хозяин еще старается урвать непосильный штраф. И жаловаться некому». Все, наверно, видят, что у дяди Паши худое, изнуренное лицо, он тяжело дышит и часто кашляет. Дуняша рассказывает, что он недавно упал во время работы в ткацкой и двое рабочих вынесли его во двор. Как же можно с больного брать штраф, когда ему надо лечиться? Вот и сейчас он закашлялся, и на губах его показалась кровь.
Дядя Паша кашлял гулко, придерживая рукой грудь, и никак не мог перестать. Потом махнул рукой и отошел, сел на лежащее у флигеля бревно. Он тяжело дышал, сплевывал в сторону и затирал сапогом.
Две молодые ткачихи подошли к нему. Одна сказала:
— Тебе, дядя Паша, в больницу надо, кровью плюешь.
— В больнице чахотку не лечат, — ответил подошедший Данила.
— Красный-то ситец моей кровью крашен, — сказал дядя Паша и тяжело вздохнул.
— И наш румянец фабрика съела, — прибавила ткачиха.
— Зато хозяин поправляется, вон какой гладкий! — добавил кто-то.
В это время «Микитин» как раз привез хозяина. Выйдя из пролетки, хозяин пошел в контору сквозь самую гущу тесно столпившихся в дверях людей. И всю массу рабочих словно разрезает ножом, все расступаются, пропуская его, хотя только что проходил мастер из красильни и кричал: «Да пропустите же, идолы!» — а рабочие вовсе не торопились его слушаться и только сильнее напирали в дверь конторы.
Перед хозяином же все не только расступились, а и картузы сняли: вот как его боятся! Боятся, что хозяин «рассчитает». Дуняша говорит, что, если хозяин не даст денег, рабочим будет нечего есть и они умрут.
Но, кроме рабочих — ткачей и красильщиков, на фабрике есть управляющий, ткацкие мастера, красковары и химики, конторские служащие. Эти люди тоже боятся хозяина, это всем заметно: они идут или бегут ему навстречу и почтительно издали кланяются. Когда хозяин поднимается на несколько ступенек к двери конторы, управляющий или мастер старается поддержать его рукой под локоть, как «батюшку» — священника, который приезжал на двор фабрики служить молебен в день хозяйских именин. Как и рабочим, хозяин всем им тоже платит жалованье.
Я думаю, что они не умрут с голоду, если хозяин не даст им денег, потому что и управляющий, и мастера, и конторские служащие одеты тепло и чисто, не так, как рабочие. Они не ходят в растоптанных валенках или в лаптях и холщовых штанах; заплат на их пиджаках тоже не видно. Некоторые служащие носят шубы, пальто или поддевки, на голову надевают меховые шапки и хорошие картузы и даже шляпы. Они похожи на хозяина тем, что они тоже грубо кричат на рабочих, как на врагов. Среди служащих есть такие, которые потихоньку жалуются хозяину на рабочих.
В этом разъединении людей, которое так явно замечается на фабрике, и управляющий, и мастера, и некоторые конторские служащие стоят на стороне хозяина. Рабочие их не любят и не разговаривают с ними при встрече. И еще я знаю людей, которые не рабочие и не служащие, им хозяин не платит жалованья в конторе, но они тоже слушаются его приказаний и грубо обращаются с рабочими — даже могут избить человека, и им ничего за это не будет. Они и «забирают», то есть уводят, рабочего с фабрики, и потом, говорит Данила, никто не знает, где он. Дуняша же знает: она говорит, что такого «забранного» сажают в тюрьму, где очень плохо и всегда темно. Из тюрьмы нельзя уйти, потому что двери там запираются на замок.
Эти люди — городовые и полицейские.
Но вот моего отца и дядю Петра никто из рабочих не боится, рабочие часто подходят поговорить с ними. Особенно часто отец разговаривает с красильщиками, интересуется, как получился новый рисунок на ткани, каков он «в работе». Рабочие стоят и разговаривают с ним, и нередко они вместе смеются и шутят. Вот и Кондратьев, который работает теперь на другой фабрике, всегда посылает с Ксенией и с Дуняшей моему отцу поклон. Дядя же Петр однажды при мне передал Ксении какой-то сверток для Кондратьева и сказал: «Вот, передай ему «гостинчика». А потом Ксения просила маму сказать Петру Ивановичу, что Степа благодарит и просит: пусть Петр Иванович посылает еще.
Много лет спустя я спросила у отца, могло так быть или нет. И, удивившись, как я могла это запомнить, он сказал, что действительно тогда дядя Петр передал Кондратьеву напечатанные для рабочих листовки.
Всю правду о жизни узнавали рабочие из этих листовок: в них было написано, что богатство хозяевам создают рабочие, а сами живут в тяжелом труде, и что им надо бороться против хозяев за лучшую жизнь. Конечно, листков этих не должны были видеть ни хозяин, ни управляющий, ни приказчики. Для рабочего было самым опасным, когда у него находили на фабрике такой листок. За это его рассчитывали, «забирали» и сажали в тюрьму. Поэтому рабочим, чтобы не быть на подозрении, приходилось в обращении с хозяином тоже казаться покорными, иногда даже угодливыми. Об этом я услышала позже от дяди Петра.
— Ты думаешь, если, завидев хозяина, рабочий срывает картуз с головы, то это он делает из уважения, из любви? Нет, девочка, уважать и любить хозяина, какой бы он ни был как человек, рабочим не за что. А снимает он шапку, покоряясь обстоятельствам, потому что пока еще зависит от хозяина.
— А что значит «зависит»? — спросила я.
— О, это важное слово в жизни каждого человека! — ответил мне дядя Петр. — Бывает, что человек «зависит» или «не зависит». Так вот, «зависит» — для рабочего значит, что он боится остаться без работы. И поскольку дать ему работу может только хозяин, рабочий и кланяется ему, хотя нисколько не уважает его. Так же и служащие.
Мой отец тоже служащий и тоже кланяется хозяину, когда его видит, но отец не бежит торопливо ему навстречу, не подсаживает под локоть в пролетку. Когда я спросила дядю Петра, «зависит» ли мой отец от хозяина, он ответил, что «зависит», но отец сумел «себя поставить»: он не только хороший конторщик, а, как и мой дед по отцу, Иван Иванович, умеет подобрать лучший узор, который подойдет к той или иной ткани. Для хозяина это очень выгодно, поэтому хозяин его ценит.
Дома у нас в толстой папке отец бережет красивые рисунки, которые сам он придумал. На них раскрашены красками разные узоры — цветы, фигурки, бабочки. Эти же рисунки я часто вижу на образчиках, которые отец приносит с фабрики.
— У Сани большой вкус, — говорит дядя Петр. — Твой отец — художник по натуре. Его на Цинделевскую фабрику не раз звали, хозяин как огня боится, что он туда уйдет, и даже хотел вовсе перевести Саню из конторы работать по рисунку для тканей. Но Саня говорит, что тогда ему надо многому подучиться. Он работает конторщиком, а делает сверх положенного. Вот он себя и «поставил».
Выходило, что хозяева сами делать ничего не могут: машины есть, а надо, чтобы ткали на них ткачи; рисунки на ситец и то нарисовать сами не могут. Над окраской ситца дядя Паша все здоровье потерял, Герасимыч на хозяина всю жизнь проработал. Двор и то подметает Данила! Когда хозяин захотел посадить молодой сад, он сам ни одной ямки не выкопал, все делал Данила, а хозяин только указывал.
Да, различие между хозяином и рабочими было очень большое. Хозяин прикажет — и все должны его слушаться; как он хочет, так и будет. Я до тех пор так думала, пока не случилось увольнение Герасимыча — старика красильщика, и все события, которые за этим последовали.
Мой отец и дядя Петр, как я не раз слышала от отца, были дружны с самого детства. Пока мой дед служил у француза-фабриканта, детей учили. У отца были большие способности к музыке, его отдали к немцу-скрипачу. Но со смертью моего деда ученье прекратилось: платить немцу было нечем, отец должен был зарабатывать себе на хлеб. Он поступил на фабрику.
Когда говорят, что в прежнее время даже очень талантливым людям было трудно выбраться на широкий жизненный путь, то это совершенно точно можно отнести к моему отцу. Он мог бы стать очень хорошим музыкантом, но у него не хватало того, что называется «школой» — длительного ученья у хорошего преподавателя, и времени для ежедневных упражнений, без которых невозможно стать мастером. А без мастерства в своем искусстве отец не смог бы заработать на жизнь семьи.
Младший же брат отца, Петр, несмотря на то что имел прекрасную память, учился кое-как — может быть, потому, что в это время дед умер и за мальчиком некому было смотреть. Дядя Петр любил рассказывать, заразительно смеясь, что из всего закона божьего, которому тогда учили, он запомнил лишь и ответил на экзамене: «Катехизис — слово греческое», после чего и был изгнан из школы. Тогда он отправился бродяжить по Волге.
Дядя Петр плавал матросом на пароходах, работал на пристанях, ходил на лов в рыбацкой артели, ездил на поездах кочегаром. Свою Лизавету Сергеевну он нашел в трактире, где она плясала и развлекала гостей. Он женился на ней, поселился под Москвой и поступил куда-то счетоводом, а вскоре перешел на Морозовскую мануфактуру. Жену он очень любил, она была ему верным другом и помощником.
Но это были только внешние события его биографии. Дядя был связан с нелегальной типографией, хорошо знал большевика Ногина и встречался с замечательным деятелем большевистской партии Николаем Эрнестовичем Бауманом. Когда Бауман стал работать в Москве, организовывая новые рабочие кружки, дядя Петр способствовал этому делу на морозовских фабриках, где служил. Преданный рабочему делу человек, он постоянно участвовал в распространении рабочих газет и листовок на фабриках, подбирал рабочие библиотечки, в его квартире под Москвой встречались рабочие. Он не был членом социал-демократической партии; он знал, что ему мешало: великим несчастьем и помехой он считал свое пристрастие к вину. Иногда он не бывал у нас по нескольку дней — болел.
Как и у отца, у дяди Петра был хороший музыкальный слух. Он играл на гитаре многие замечательные произведения. Я помню, как, сыграв что-нибудь, он задумывался и говорил: «Вальс Чайковского», или: «Это Милий Балакирев, «Жаворонок», вот... подобрал». Но таким он бывал только среди близких людей, и то не часто.
К тому времени, как мой отец женился, дядя Петр уже работал на Морозовской мануфактуре. Его хорошо знали рабочие и на других фабриках, где все больше и больше выдвигались такие личности, как Кондратьев.
Сколько я себя помню, и отец, и дядя Петр очень ценили Кондратьева не только за его мастерство ткача. «Вот это человек!» — говорили они про него.
Позже я узнала, что Кондратьев был одним из тех рабочих-передовиков, которые, ясно увидев в революционной борьбе цель своей жизни, вели за собой массу рабочих. Огромное преимущество Кондратьева перед такими людьми из служащих, как дядя Петр, заключалось в том, что Кондратьев сам был рабочим и, значит, на себе испытал тяжелый гнет бесправного труда на хозяина, насилия, унижающего душу, лишения рабочих самых необходимых прав человека. Он узнал на себе цену хозяйских обещаний: на фабрике чуть не каждые полгода сбавлялись расценки и ежедневно штрафовали рабочих за малейшую оплошность. Он работал ночами и в праздники; ходовой фразой фабричной администрации было: «рабочий — такая скотинка, которая в отдыхе не нуждается...»
Убеждения человека складываются правильно, когда он глубоко узнает жизнь и смело откидывает все старое, мешавшее ему видеть новое. Так и Кондратьев, задумавшись над страшной несправедливостью жизни, продолжал вглядываться и думать обо всем, что видел. Постепенно он вошел в круг людей, которые руководили рабочим движением и принадлежали к социал-демократической рабочей партии. Они помогли ему выработать твердые убеждения. Эти убеждения Кондратьев тут же начал проводить в жизнь: вооруженная массовая борьба рабочих против царского самодержавия — вот что должно было привести их к освобождению, вот о чем теперь неустанно говорил рабочим Кондратьев. Его лицо и он сам необыкновенно ясно вспоминаются мне не только потому, что он был отцом лучшей моей подружки, но, вероятно, и потому, что я чувствовала отношение к нему людей — моего отца, матери, ткачей, дяди Петра и даже Данилы. Да он и не мог не вспоминаться тому, кто знал его. Кондратьева уважали и любили, чувствуя в нем твердость и достоинство рабочего человека.
Расчет
Вечером отец вернулся из конторы раньше, чем обычно. Он сел молча к столу, все постукивал пальцами по коленке и молчал. Мать спросила:
— Что там у вас случилось?
— Хозяин приказал найти, у кого живет старый красильщик Алексей Герасимыч, и отправить Герасимыча в участок, а того, кто его пустил без разрешения хозяина, оштрафовать «за самоуправное распоряжение хозяйскими квартирами».
— А у кого он живет?
— У Гвоздева Павла, ты знаешь его. Ткач наш, больной чахоткой.
«Участок» мне представлялся странным местом: как будто это кусок двора, а может быть, угол в комнате, но почему-то темный, без света, огороженный, и оттуда нельзя выйти. Я раз спросила маму, что такое участок, она ответила: «Ты мала еще, не поймешь. Вырастешь большая — узнаешь».
— За что же старика в участок? — спросила беспокойно мама.
— За то, что справедливо укорил хозяина. Выбросили человека, работавшего сорок лет, изумительного знатока красок: его лазоревый колер славу фабрике создал. В участке прикажут ему убираться с фабрики, из комнаты, где ему дал угол Паша Гвоздев, а Павла оштрафуют, хотя он ни в чем не виноват.
— Но... — сказала мама, — кто же скажет, где Герасимыч живет?
— Уже все известно. Этот мерзавец Тишкин — его недавно поставили помощником мастера в ткацкой — улучил минуту, когда никого из служащих и рабочих не было поблизости, подскочил к управляющему Федоту Осиповичу и шепнул. Я хоть сам не видел, но это точно, как дважды два! Управляющий доложил хозяину. Так что хозяин только проверяет, кто из служащих скажет, а кто утаит.
— Просто не верится, — сказала мама, — как могут люди выдавать своих!
— Своих? Для такого человека нет «своих». Он хочет хорошего только для себя, он никому не свой. И хозяин его выбросит, если он не будет ему полезен.
На другой день, когда мы с ребятишками лепили снежную бабу около сарая, а Данила особенно усердно разметал пышно нападавший за ночь легкий снег, на крыльцо конторы вышел хозяин. Молча он прошел через двор, оглядывая все его углы, остановился и подозвал Данилу.
— Ты зачем тут приставлен? — со сдержанным гневом спросил он, показывая на ржавое железо у забора, причудливо украшенное снегом. — Тебе некогда позаботиться о хозяйском добре?
— Да ведь оно примерзло, — сказал Данила, поддавая валенком под низ тяжелого железного вала, как будто он мог его отбросить одним толчком. — Снег сойдет — уберу.
Наверно, это был довольно убедительный довод, потому что хозяин ничего ему не ответил.
— А это что? — показал он на выступившие у забора пятна разноцветной краски как раз в том месте, где из-под снега поднимались ряды тоненьких деревцев, посаженных Данилой. — Сколько раз приказывал во дворе не лить!
Данила, разметая сегодня двор, все подваливал снег к корням деревцев и обнажил из-под снега старые пятна краски. Пестрота двора как будто удивила самого дворника, и он стоял молча.
Хозяин долго ругал Данилу, показывал рукой направо и налево, а нам все это казалось очень интересным, хотя мы и боялись выйти из-за угла фабричного корпуса, чтобы не попасть на глаза рассерженному хозяину.
— Расчет получишь, будешь ходить попрошайничать!.. — наконец сказал он, презрительно выпятив губы.
Вот оно, самое страшное на фабрике слово: расчет! Но — удивительно! — Данила не испугался. Он все стоял, равнодушно глядя перед собой. Потом сказал:
— Наверно, доброго слова от вас никто не слыхал сроду.
И молча продолжал размахивать метлой, хотя двор был уже разметен.
— И не услышите! — закричал хозяин.
В это время отец спустился с крыльца конторы и пошел в глубь двора. Я подбежала к нему, но он удержал меня непривычным мне, отстраняющим жестом руки. Я остановилась, не зная, что делать.
Хозяин, завидев приближающегося отца, повернулся ему навстречу.
— Ну что? — спросил он.
— Павел Никанорыч, — сказал отец твердо, — я по поводу давешнего. Не следует этого делать. Отмените ваше распоряжение.
— Что-о? — протянул хозяин.
Он стоял, широко расставив ноги, засунув руки в карманы узких брюк, из-под которых ярко блестели черные носы галош. Покачиваясь, он смотрел на отца. Его маленькие глаза еще больше сузились, толстые губы крепко сжались.
Отец стоял прямо и смотрел серьезно и спокойно. Ветер отвел в сторону прядь густых его волос.
— Выбрасывать на улицу человека нельзя, — с укоризной сказал он. — И кого выбрасывать, Павел Никанорыч? Красильщика, проработавшего на вашей фабрике сорок лет. Он еще отцу вашему служил...
Отец говорил, а хозяин как-то странно слушал его. Я и раньше замечала, что, встречаясь друг с другом, люди становились не такими, какими они бывали каждый в отдельности. И это было удивительно.
Вот, например, Тишкин, которого мы, ребята, хорошо знаем. Он часто сидит один на бревнах под окнами у нашего флигеля, смотрит на свои сапоги, изредка бросая зоркий взгляд на проходящего мимо рабочего. Мокрые мелкие окурки разбросаны около его ног; он встает, бросает последний и придавливает его толстым сапогом. Лицо у него серое, неприветливое. Один глаз у него сильно косит. Но вот из дверей фабрики выходят рабочие. Тишкин уже среди них, разговаривает, смеется, заглядывает людям в глаза. «Наше дело — как все, так и мы!» — говорит он. Теперь он — другой человек!
Так и лицо хозяина сегодня изменяется на моих глазах. Из брезгливо-равнодушного оно становится удивленным. Холодный взгляд прищуренных его глаз сосредоточивается на лице стоящего перед ним отца, брови нахмуриваются. Отец прямо смотрит в глаза хозяина и продолжает говорить.
— Захотели составить компанию дармоедам? Пожалуйста! — наконец язвительно перебил его хозяин. И, повысив голос: — Можешь получить расчет. И (это громко, на весь двор!) — вон с фабрики!
Отец молчал, смотрел на хозяина, потом дернул плечами, повернулся и пошел.
— Стой... те! — закричал хозяин. — Стойте же!
Но отец не остановился. Он дошел до двери флигеля и скрылся за ней.
События
Рано утром меня разбудил шум во дворе. В комнате горела лампа с привернутым фитилем, и отец, наклонившись, смотрел в окно. За стеклами стояла мутная синева зимнего пасмурного утра.
— Не идут? — спросила, входя, мама.
— Нет, конечно. Пойду посмотрю.
Отец вышел, накинув на себя пальто. Когда он открывал дверь, в комнате на минуту стало слышно, как во дворе кто-то крикнул и ему отозвалось несколько громких голосов. Дверь закрылась, и снова сквозь заклеенные рамы со двора стал доходить лишь многоголосый шум, разбудивший меня.
Обычно рабочий день на фабрике начинался в семь часов утра. Летом я просыпалась спозаранку, вместе с отцом. Мама — сколько я помню — всегда вставала раньше нас. Просыпаясь же темными зимними утрами, я часто видела, что отца уже не было в комнате.
Отец долго не возвращался. Потом стукнула дверь; он вошел и сел к столу, как был — в пальто и шапке.
— Ну что? — с беспокойством спросила мама, подходя и останавливаясь перед ним.
— Наши рабочие страшно взволнованы, их прямо не узнать! — ответил отец. — Кричат открыто, никого не опасаясь, говорят, что в одиночку ничего не добьешься, что рабочим надо поддерживать друг друга и всем вместе бороться с произволом.
— Что же будет? — сказала мама.
— Говорят еще, — продолжал отец, — что раз рабочие на Цинделевской и других фабриках прекратили работу и вышли на улицу с пением революционных песен, то и нашим надо идти. Не знаю, будут ли сегодня работать.
— А ты пойдешь в контору?
— Мне, как ты знаешь, вчера приказано «убираться с фабрики». Значит, не пойду. — Отец зло усмехнулся.
Уже став взрослой, я не раз замечала, что дети, не понимая смысла какого-нибудь события, чувствуют по настроению старших, по их взглядам и отдельным словам, хорошее оно или дурное, доброе или злое, и я помню по своему детству, как беспокойное ощущение чего-то непонятного, происходящего вне нашей семьи, иногда овладевало мной. Это тревожное чувство возникло и в то темное зимнее утро. И многоголосый гул за окном, и привернутый фитиль керосиновой лампы, и фигура отца, бездеятельно сидящего за столом, — все пугало меня сегодня.
Как хотелось мне в это необычно начавшееся утро услышать за дверью тихий голос Клавдички! Но она еще вчера уехала к Леле. Она уезжала и раньше, но ни разу еще Клавдичка не оставалась у Лелиных родных больше чем на один день; она говорила, что ей там «неуютно» и хочется скорее домой. «Домой» — это значило к нам. Сегодня и Клавдички не было.
Мама спросила:
— Полицейских много?
— Никого нет, — ответил отец.
— Ну, слава богу! — воскликнула мама. — Может быть, так и обойдется.
И я по тону ее голоса поняла, что она боится за фабричных и беспокоится о том, что там, во дворе, для них как-то может «не обойтись».
— Боюсь я за них, — продолжала мать, — вдруг и у нас так будут стрелять, как на Дворцовой площади в Петербурге... Какое страшное время наступило! Представить только, с каким чувством шли тысячи людей к царю с просьбой облегчить их невыносимо тяжелую жизнь! Они же верили, что царь поможет им. Шли семьями, даже детей взяли с собой. И... — она вздрогнула и, прижав руку к щеке, с выражением боли в глазах, горестно взглянула в мою сторону, — ...приказать стрелять в безоружных, доверчиво настроенных людей! Нет, не могу поверить: они же шли с хоругвями, несли царские портреты.
— В том-то и беда, — ответил отец, беря руку матери и глядя ей в лицо, — что люди пошли с просьбой, хотя наивно было думать, что царь поддержит рабочих против фабрикантов или одним своим словом облегчит их жизнь... И священник этот, который вел рабочих, — кто он? Петр утверждает, что провокатор.
Это было совсем непонятное мне слово. Отец и мать говорили о своих «взрослых» делах, не замечая, что я проснулась.
— Священник? — в ужасе воскликнула мама. — Не может быть!
Отец пожал плечами и посмотрел на меня.
Как сегодняшнее утро отличалось от тех светлых и ясных, когда отец шутил со мной и мама, улыбаясь, наклонялась ко мне! Сейчас они оба только потому взглянули на меня, что не хотели, чтобы я поняла. Такие взгляды я хорошо знала: взглянуть так во время разговора было все равно что сказать: «Девочка здесь, она поймет то, что ей рано еще знать».
— Ну, раз проснулась, пора вставать! — сказал мне отец.
Но мне представляется такое страшное, что я боюсь вылезать из кровати и плотнее завертываюсь в одеяло. Я, конечно, совсем не понимала тогда и даже не могла вообразить, сколько это — тысяча человек, но раз эти «тысячи людей», про которых говорят отец и мать, были безоружные, а по ним стреляли, значит, наверное, их всех убили — убили очень много людей!
В детстве я многое из сказанного при мне взрослыми понимала неверно и часто преувеличивала услышанное в плохую сторону. Особенно такие неверные преувеличения получались, когда я видела, что взрослые что-то скрывают от меня.
Чем старше я становилась, тем чаще замечала, что взрослые иногда замолкали при детях или говорили так, чтобы было трудно понять их. Тогда, не договорив, они взглядывали друг на друга, как это случилось и сегодня, или употребляли им одним понятные слова. Но хотя я иной раз и не могла понять, про что говорят при мне, то как говорят — я всегда чувствовала. Интонация, жест, сопровождавший обращение к другому человеку, придавали выразительность словам, даже когда их нарочно произносили так, чтобы не привлекать моего внимания. Таким образом, внимание как раз привлекалось и услышанная фраза крепко врезывалась в память.
— Почему вы с мамой перестали разговаривать? — помню, спросила я в то утро.
— Потому что тебе об этом еще рано знать, — ответил отец.
Такие ответы я слышала не раз и всегда понимала их по-своему, но достаточно верно: взрослые не хотели, чтобы дети знали о плохом или страшном.
У взрослых была своя, особенная жизнь. Они не хотели показывать детям всего, что в ней происходит, считая, что дети еще успеют узнать обо всем в будущем. Поэтому все, что случалось, было как будто только одной стороной обращено к детям, а другая оставалась невидимой для них.
Но если в таких, как наша, семьях детей хотели и старались уберечь от тяжелых впечатлений жизни, то в семьях рабочих дети вместе со взрослыми сами жили этой тяжелой жизнью. Играя с девочками, видя, как живут их отцы и матери, я с особенной жадностью схватывала самые различные впечатления — вероятно, именно потому, что они отличались от тех, которые я получала в своей семье. Хотя взрослые думали, что я ничего не понимаю, но в свои семь лет я замечала многое.
Я не могла не замечать, что мои отец и мать относятся ко мне по-другому, чем рабочие к своим детям. Меня стараются накормить повкуснее, берут гулять, и у меня есть с кем гулять — с мамой или дедушкой Никитой Васильевичем.
По дороге мы разговариваем, мне отвечают на мои вопросы, меня берут за руку, когда надо перейти улицу, меня берегут. Дуняшу никто никуда не водит гулять, она сама водила Катюшку, когда та была маленькой, а теперь и Катюшка всюду ходит одна, даже за хлебом в лавку.
Меня не заставляют ничего делать, наоборот: отец и мать все делают для меня. Нельзя же считать, что я вышила маме полотенце или подвигаю ей стул, когда мы садимся за стол. Дуняша же моет пол, зажав в руках веник, долго трет с песком каждую половицу. Она мне давала помыть немного пол у них в комнате, но засмеялась и сказала, что я не умею. А сколько девочек не старше Дуняши уже работают на фабрике!
Мама, бывало, скажет: «Бегай, играй, пока ты маленькая». Ксения же никогда не говорит так Дуняше. Она говорит: «Вот и подросла помощница мне!»
...Кто-то прошел по коридору и сильно постучал в дверь. Вошел рыжий приказчик.
— Федот Осипыч приказали вам выходить работать, — сказал он.
— Что же, разве хозяин увольнение мое отставил? — спросил отец.
Приказчик молча пожал плечами.
Отец взглянул на мать, встал, прошелся по комнате и остановился у окна.
В окно было видно, как непривычно медленно втягивались группы рабочих в открытые двери фабрики. Скоро большой двор опустел. Рабочий день сегодня начинался с опозданием.
— Так чего же сказать Федоту Осипычу? — спросил приказчик.
— Скажи, сейчас приду.
И когда приказчик вышел, отец добавил:
— В такое время мне не хочется уходить с фабрики, где все рабочие меня знают и доверяют мне.
Это было зимой 1905 года, вскоре после того, как по всей стране стало известно, что в Петербурге 9 января царь приказал стрелять в безоружных рабочих, которые пошли к нему, надеясь на его помощь и защиту.
Много лет спустя, глядя на картину Маковского, изображающую расстрел безоружных, доверчиво идущих к царю людей, я необычайно ясно увидела, как все происходило до этого схваченного художником момента. Сначала рабочие шли спокойно, неся образа и портреты царя, женщины вели за руку своих детей; внезапно ряды этих торжественно настроенных людей смешались, они побежали, оставляя на снегу тела раненых и убитых товарищей. Эти женщины, с ужасом в глазах прижимавшие детей, и похожий на Герасимыча человек в распахнутом на груди полушубке были хорошо знакомы мне. Они были такие же рабочие, как и ткачи Никитинской фабрики. И вдруг я почувствовала, что эта картина уже возникла во мне в то утро моего детства, когда я все-таки поняла, что тысячи людей пошли к царю с просьбой облегчить их «невыносимо тяжелую», как сказала мама, жизнь, а царь приказал стрелять в них. Думали, что царь хороший, а оказалось — он жестокий человек. Вот как ошиблись люди!
Так большие события властно вторгались и в нашу семью.
В то время мне шел восьмой год.
События продолжаются
Днем мы играли во дворе с моей новой подружкой, Лизунькой. Дуняша давно уже жила на Пресне. Кондратьев теперь поселился там во дворе дома, где жил дедушка Никита Васильевич, и взял к себе Ксению и детей. Дуняша иногда прибегала к нам вместе с дедушкой Никитой Васильевичем и присылала поклоны с матерью.
Лизунька была быстрая, веселая девочка с прямыми стрижеными волосами и замечательная тем, что ее мать при нас «пронимала» ей уши иглой и она даже и не охнула. Потом в маленькие ее ушки ей вдели тоненькие серебряные сережки, и она долгое время спрашивала нас, хорошо ли ей с сережками. Мне тоже захотелось надеть сережки, но мама сказала, что это «глупости».
В тот день был небольшой морозец; человек десять ребятишек присоединились к нам, и мы затеяли игру в «школу и учительницу». Надо было надеть картонные шпульки на указательные пальцы и такими длинными пальцами писать на снегу буквы и цифры или рисовать, что говорила «учительница». Тот, кто написал первый, бежал застукивать палочкой-выручалочкой, и у кого сваливалась на бегу шпулька, тот проигрывал.
В это время из дверей фабрики стали выходить рабочие.
— На обед гудка еще не было, а выходят, — сказал Ваня, высокий, тоненький мальчуган из той комнаты, где прежде жили Кондратьевы. — Чего-то случилось, что ли?
Мать его работала в ткацкой. Он беспокойно побежал навстречу выходившим ткачам, и мы с Лизунькой тоже пошли следом за ним.
Рабочие почему-то, не дожидаясь перерыва, снова выходили из дверей фабрики. Они держались особенно, не так, как всегда: что-то горячее, порывистое выливалось с ними во двор. Они шли дружно, сообща, во дворе не растекались вправо и влево, а останавливались плотной массой. Под открытым небом лица их, непохожие своими характерными чертами, сегодня походили друг на друга выражением серьезной и хмурой сосредоточенности. Лица — молодые и старые, гладкие и морщинистые, глаза измученные, робкие и глаза неукротимые, горящие — были обращены в одну сторону — к конторе, к закрытой ее двери. Обычно женщины, выходя в обеденный перерыв, громко разговаривали между собой, сегодня же они шли торжественно, сурово сжав губы. И когда одна звонко крикнула: «Шабаш, кончили работать!», идущие рядом одернули ее, сказав: «Тише!»
Из двери конторы вышел управляющий, Федот Осипыч, немолодой уже, плотный человек с маленькой бородкой клинышком, в накинутой на плечи шубе. Он стоял, смотрел молча на собиравшихся среди двора рабочих, потом спросил громко и визгливо:
— Это что, бунт?
— Нет, это протест за убийство невинных людей! — прозвучал из толпы чей-то спокойный, звучный голос.
Голос был такой знакомый. Мне показалось, что я увижу сейчас Кондратьева, но я не могла рассмотреть его в толпе.
Управляющий сделал несколько шагов к стоящим во дворе:
— Протестовать можно, не бросая работу.
Тот же звучный голос ответил:
— Чем? Протестовать нужно тем, что вас бьет по карману.
— Нас это по карману не бьет! Это вы за копейку готовы бастовать, хотя мы и можем всегда договориться.
— Это прежде бастовали за копейку. Теперь дело другое.
— Ну что ж! Тогда уволим зачинщиков, и дело с концом.
— Всех не уволите и в тюрьму не посадите! — снова сказал невидимый мне в толпе человек с голосом Кондратьева.
Толпа угрожающе подвинулась к управляющему. Послышались выкрики:
— Старика Герасимыча выбросили — вот кого вы увольняете! Какой же он зачинщик? Он весь век работал...
— Кто вам дал право старика в участок водить? — крикнула из толпы женщина. — Герасимыч — не вор и не пьяница, а вечный труженик.
— Про старика — вопрос малой важности! — махнул рукой управляющий. — Мы о нем будем разговаривать с мастером Сенечкиным.
— У нас к Сенечкину доверия нет, — ответили ему.
— Ну, так о старике можете сами хозяина просить. Герасимыча никто не тронет. А к чему такая демонстрация?
— Будто не знаете к чему? — язвительно выкрикнул кто-то.
— О старике — вопрос вовсе не малой важности! — сказал все тот же хорошо знакомый мне голос. — Хозяева, конечно, привыкли не видеть в рабочем человека. А мы на вас и не надеемся. Только на себя. Освобождение рабочих есть дело самих рабочих!
— Вот как! — насмешливо сказал управляющий. — Мы это уже слышали. Грамотные!
Теперь мне кажется, что все эти фразы особенно звучно раздавались в воздухе и как бы запечатлевались в памяти. Что-то в них я по-своему понимала и, главное, что рабочие заступились за Герасимыча. Понимала и то, что не всегда бывает так, как хочет хозяин. Вот когда все рабочие вышли во двор, заговорили, управляющий сразу пообещал, что Герасимыча никто не тронет.
В то время как рабочие и управляющий перебрасывались фразами, толпа постепенно обтекала управляющего так, что он оказался в середине ее, и голос его слышался теперь из глубины толпы, как и голоса рабочих.
В ворота громко застучали. По двору к воротам пробежали два сторожа, Данила и вслед за ним рыжий приказчик. В ворота ввалились несколько полицейских в черных шинелях, с револьверами на шнурах и со свистками. Управляющий выбрался из толпы. И тут же раздался пронзительный свисток. Тревожно вскрикнули в толпе женщины.
— Пре-кра-тить! — выступил вперед околоточный надзиратель. — Рас-хо-дить-ся!
В светлой своей шинели, в фуражке с красным околышем, он стоял, повелительно вытянув руку.
— Не шуми! — закричали ему.
Кто-то громко выругался. Сейчас же послышались голоса окружавших его рабочих:
— Спокойно, товарищи! Не надо беспорядка.
Мама выбежала на крыльцо, ища меня глазами, и, увидев, крикнула:
— Домой иди! Домой!
Когда во дворе фабрики что-нибудь случалось — выводили ли из ткацкой рабочего с отрезанными машиной пальцами или падала в обморок женщина, — меня всегда звали домой: мама не любила, когда люди глазеют на чужое несчастье. «Ты же не можешь помочь, значит, и стоять смотреть на человека нечего», — говорила она.
Но сегодня, на мой взгляд, ничего страшного не происходило. Около собравшихся рабочих вертелись мальчишки, и никто не прогонял их. Все же я медленно направилась домой.
В ворота вбежали еще несколько полицейских, придерживая болтавшиеся на боку шашки; я и сейчас вижу, как все это происходило. И снова засвистели свистки.
Словно в ответ на них, вся масса стоявших рабочих, не расступаясь, двинулась к воротам, оттесняя полицейских в сторону, приобретая на ходу порядок и превращая сосредоточенную силу в стройное движение. Сразу несколько голосов, и среди них — высокий женский голос, заглушая свистки, запели:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...
И как будто давно и дружно спевшиеся мужские голоса подхватили:
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...
И вот со двора уходят уже последние рабочие. Мы с мамой видим в окно, как за воротами ряды их повертывают налево, нам слышен их мерный, твердый шаг. Широко и вольно звучит песня:
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...
С улицы послышались окрики, свистки, кто-то проскакал мимо ворот на коне. Шествие повернуло на широкую улицу, песня все удалялась и удалялась... Издали отчетливо донеслось:
Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда...
Все, что произошло в этот день, особенно врезалось мне в память: еще не бывало, чтобы рабочие так уверенно собрались и вышли с фабричного двора на улицу, несмотря на свистки и окрики полицейских. В первый раз я увидела, что наши ткачи могут быть сильнее хозяина и полиции, могут не зависеть от них.
Сильными они стали потому, что действовали сообща и в эти дни почувствовали поддержку всего трудового народа. На сотнях фабрик и заводов, во всех крупных промышленных центрах страны — повсюду происходили такие демонстрации протеста: ими рабочие отвечали на расстрел царем безоружных людей, веривших ему. Были такие люди — большевики, которые предупреждали народ, что в рабочих будут стрелять: «Мы пойдем просить хлеба, а нас угостят свинцом». И говорили, что не просьбами, а борьбой завоевывается свобода. Но тогда бо́льшая часть рабочих еще верила, что царь поможет им. Всего один день, который народ назвал «Кровавым воскресеньем», показал рабочим, что царь им враг, что он стоит на стороне хозяев фабрик, земель, заводов.
Рабочих людей в стране многие тысячи, их руками делается все необходимое человеку для жизни, а хозяев гораздо меньше, но они забирают все то, что производится рабочими, а платят им гроши. Сила хозяев только в том, что они владеют фабриками, машинами, деньгами и царь защищает их.
Теперь эти тысячи рабочих людей, охваченные гневом за гибель своих братьев-рабочих, поднялись все вместе с таким единением, какого еще не бывало до того, и почувствовали, что они — большая сила, что не хозяева, не царь, а только они сами могут устроить свою жизнь. Рабочим надо не только требовать от хозяев улучшения условий своей жизни, но решительней идти на борьбу за политические свои права, и прежде всего — на борьбу с самодержавием.
«Долой самодержавие!» — вот с каким лозунгом выходили теперь рабочие на улицу. Рабочие шли спокойно и уверенно, с пением революционных песен, и, хотя их пытались разгонять, они держались стойко. Наступало необыкновенное время открытой борьбы рабочих — начиналась первая русская революция...
Еще днем, после ухода рабочих, на опустевшем дворе появился отряд полицейских. Как будто осматривая что-то около фабрики, они то останавливались у дверей ткацкой и красильной, то обходили двор вдоль забора. Данила с одним из сторожей сопровождал их всюду.
Я гуляла во дворе, когда в воротах показалась Клавдичка. В своей серой шапочке, с муфтой, она казалась большой девочкой. Я кинулась ей навстречу и, не отпуская ее руку, так и вошла вместе с ней в дом.
— Почему ты не пришла вчера? — спросила я, стараясь помочь ей раздеться.
— Леля упросила меня остаться, — ответила Клавдичка, — она скучает там.
Это было совсем неожиданно для меня: мне казалось, что Леле всегда и везде весело. Я спросила:
— А ты возьмешь меня к Леле, когда пойдешь в другой раз?
— Если мама позволит, возьму.
Я с надеждой взглянула на маму.
— Там видно будет, — ответила она.
Пришел дядя Петр и неожиданно привел Дуняшу. Как всегда, он сразу подошел к печке и стал греть озябшие руки. Всю зиму он ходил в осеннем пальто и сильно мерз.
— Я от дяди Никиты, — сказал он. — Взял с собой Дуню — Ксения попросила. Говорит — пусть пробежится, она себе отдых заработала.
— Кто заработал? — спросила я.
— Дуня.
— Дуняша, как ты заработала?
— А так, — ответила она смущенно, — я на поденную вместо мамки ходила полы в трактире мыть.
— А что же Ксения? — спросила мама.
— Мамка сильно хворала, — ответила Дуняша. — Денег не стало, а до получки еще три дня оставалось, я и побежала вместо мамки.
Дуняша была закутана в теплый Ксенин платок, ее беленькое личико раскраснелось на морозе, и, когда она разделась, я увидела, что на ней надето славненькое клетчатое платьице.
— Это мне бабушка Малаша сшила, — сказала она. — Она хорошая, Катюшку по всякий день к себе зовет. И дедушка Никита Васильевич ее любит.
Дядя Петр в это время рассказывал маме, что сегодня в Москве было несколько рабочих демонстраций.
— Их пытались разгонять, но обошлось без вооруженных столкновений, — с волнением сказал он. — С Кондратьевым вчера встретились в одном месте. Необыкновенный человек! Вожак!
— Я раньше не понимала, как он не боится оставить семью на произвол судьбы... — задумчиво сказала мама.
Эти слова она часто говорила, желая показать, что кто-то остался один, беспомощный; с таким человеком все может случиться, и ему уже неоткуда ждать хорошего, никто его не поддержит.
— А теперь? — оборачиваясь и проницательно глядя на нее, спросил дядя Петр.
— Теперь понимаю. Но сама бы не могла, — горячо ответила мама, — для матерей этот путь неимоверно труден!
— Однако этим трудным путем идут многие женщины.
— Девушки, которые не знают, что оставляют...
— Идут и матери. Да ты знаешь ли, как та же Ксения помогает Кондратьеву тем, что в его отсутствие не падает духом. Она всегда прокормит детей своим трудом.
— Ну, а куда бы я пошла работать?
— Значит, Ксения с двумя детьми может пробиться, а ты — грамотная женщина — не можешь? А почему? Какая разница? Ты боишься подумать о том, что видишь. Жизни не бойся, Груня, а то она тебя бояться будет.
Из этого разговора я поняла, что мама тоже хочет, чтобы рабочим жилось лучше, но путь для этого трудный, и мама не решается пойти этим путем.
Вечером дядя Петр сказал, что теперь он доведет Дуняшу до дома: он идет в ту сторону.
— Оставь ее ночевать у нас, Петя, — сказал отец. — Да и тебе не остаться ли? Нынче около нас что-то уж больно много полиции.
— Мы выйдем за ворота и поглядим, — ответил дядя Петр. — С Дуняшей нам веселей будет идти... Одевайся, Дуняша!
Дуняша быстро надела свой полушубочек, обвязалась платком, и я тоже накинула шубейку.
— Куда ты? — спросила мама.
— Я только за ворота, поглядеть! — крикнула я, выбегая во двор.
Так хорошо было на дворе! Все затихло, ушли и полицейские, только в будке у ворот сидел Данила в тулупе. Маленький фонарик, висящий на стене, освещал горевшей в нем свечой запавшие под темными бровями глаза Данилы и темную широкую бороду.
— Куда это ты побегла? — спросил он меня.
— Я только за ворота... Дуняшу проводить.
— Дальние проводы — лишние слезы! — сказал Данила. — Иди-ка домой! Вот, Петр Иваныч, там на углу ходят, интересуются документами...
— Кто ходит? — спросил дядя Петр.
— Пехотный патруль, — лениво протянул Данила, вглядываясь в лицо дяди Петра умными, пристальными глазами. — Похоже, выстрел был. Не слыхали?
Мы с Дуняшей первые выскочили на улицу. Около фабричных ворот горел фонарь, освещая темные доски забора, бросая светлый круг на утоптанный ногами прохожих серый снег. Дальше один фонарь был разбит, а за ним через большой промежуток фонари, казалось, горели тусклее... Оба сторожа, в тулупах, как и Данила, ходили взад и вперед вдоль забора. Мимо ехал извозчик; санки, прикрытые полостью, раскатывались в неровных колеях.
— Не слыхал. Спасибо.
Дядя говорил отрывисто, оглядывая улицу. Она была такая, как всегда, и чем-то другая.
— А «те» ушли? — спросил дядя Петр.
— В дворницкой сидят... — тихо ответил Данила. — Чего-то ожидают.
Издали на улице послышался какой-то сыпучий звук многих шагов и железное звяканье или постукиванье по мостовой. Звук мерно нарастал и приближался.
— Д-да... — сказал дядя Петр. — Нарываться не стоит. Ну, вот что, девочки: идите-ка домой. Ты, Дуняша, заночуешь. А я зайду мамке твоей скажу.
Он надвинул шапку и пошел в узкий маленький переулок напротив фабрики.
Взявшись за руки, мы с Дуняшей перебежали через двор и, румяные, оживленные, вбежали в комнату.
На другой день мама сказала Дуняше:
— Ты иди, Дуняша. Может быть, Петр Иванович не зашел вчера к вам, и мама твоя беспокоится.
Когда через день или два снова появился у нас дядя Петр, мама его спросила:
— Ты, наверно, не заходил тогда к Кондратьевым?
— Как же это могло быть! — сердито отрезал дядя. — Я ведь живой, как же я не исполню обещанного?
В гостях
Наконец-то мама позволила, чтобы Клавдичка взяла меня с собой в гости к Леле. Ох, как мы собирались!
Мама достала из шкафа новое синее платьице, одела меня и, когда причесывала, пожалела, что мои волосы еще нельзя заплетать в косу.
— А так ты растреплешься, и будет нехорошо! — Она посмотрела на меня сбоку, и я по ее взгляду поняла, что там, в гостях, на меня будут смотреть со стороны и маме хочется, чтобы у меня был хороший вид. — Следи за собой все время, — сказала мама, — помни, что ты в гостях.
Никогда мама так не говорила мне, хотя мы с ней ездили и к дяде Петру, и к дедушке Никите Васильевичу, и в концерт, где я слушала «Снегурочку».
Когда мы шли с Клавдичкой по улице, я спросила:
— Клавдичка, а почему у Лели мне надо все время следить за собой?
— Потому, — ответила Клавдичка, — что там ты увидишь совсем другие порядки, чем у вас дома. Лелины родные — богатые люди, у них красивая обстановка, которая больше рассчитана не столько на удобства живущих там людей, сколько на то, чтобы ею восхищались другие. У них, например, нельзя залезть на стул с ногами и упираться локтями о стол...
Это была моя любимая привычка, и я подумала, что уж так-то я не буду вести себя в гостях.
— А еще чего нельзя мне делать? — спросила я с хитрецой.
И Клавдичка ответила:
— Не смейся, девочка, ты сама всё увидишь.
...Швейцар открыл перед нами тяжелую дверь с ярко начищенными медными ручками. По лестнице, застеленной бархатной дорожкой, сбежала Леля и с радостным криком бросилась на шею к Клавдичке.
— Клавдичка, Клавдичка! — кричала она. — Ой! И Саша!
Она подбежала ко мне, сияя глазами, обняла, и я сразу же вспомнила тот вечер, когда Леля была у нас, и мне показалось, что мы расстались только вчера.
— Ну, а сейчас, — сказала Клавдичка Леле, — ты покажи Саше свою комнату, расскажи, как живешь и учишься, а я пойду к тете.
— Пойдем, я тебе, все-все покажу! — Леля крепко схватила меня за руку и потянула за собой.
Так, взявшись за руки, мы взбежали вверх по лестнице и остановились на пороге большой, прекрасной залы. Стройные ее окна закруглялись вверху, и между ними в голубоватой глубине зеркал отражался блестяще натертый паркет и кресла в белых чехлах. По такому полу, наверно, нужно было ходить тихонько: я вспомнила мамино напутствие.
Но Леля, сделав несколько шагов, раскатилась по паркету, как я сама каталась на льду, и в зеркале сейчас же отразилась ее задорная и легкая фигурка. Она подбежала к большому роялю, подпрыгнув, села на круглый стул около него, открыла крышку — матово блеснул ряд белых клавиш, — победоносно взглянула на меня и заиграла. Я узнала музыку: это была мазурка, только отец как-то по-другому играл ее на скрипке. Маленькие крепкие руки с чистенькими пальцами то разбегались друг от друга, то снова сближались...
— Правда, хорошо? — Не доиграв до конца мазурку, Леля повернулась на стуле так, что сделала полный оборот и остановилась, ухватившись рукой за рояль. — Мой учитель говорит, что ни одна его ученица не запоминает так легко, как я. Это называется музыкальная память. Я и по нотам могу играть!
Она соскочила со стула, отыскала на этажерке тетрадку нот и поставила ее перед собой.
Теперь она играла что-то такое веселое, радостное, под эту музыку хотелось танцевать, да так, чтобы подниматься, подниматься, а потом полететь куда-то... Как мне захотелось играть так же, чтобы отец мог похвалить меня!
— Ты что задумалась? — засмеялась Леля, шаловливо проведя пальцем по всем клавишам подряд. — Тебе надоело слушать?
— Нет, нет...
— Ну, все равно! Пойдем в мою комнату.
Мы прошли через гостиную, застеленную голубовато-серым ковром, в кабинет, где на большом письменном столе стояли бронзовые подсвечники с белыми, еще не обгоревшими свечами и большой бронзовый кабан с острыми клыками и злыми маленькими глазками, казалось, вот-вот кинется на стоящего перед ним бронзового охотника. Напротив стола висел большой портрет молодой прелестной женщины. Мне показалось, что это Леля, и я невольно обернулась к ней.
— Это дядин кабинет, — сказала Леля. — Тебе нравится здесь? А это — моя мама. Правда, я на нее похожа?
То же смелое и беспечное выражение, как и у Лели, было в глазах ее матери, те же красивые, улыбающиеся губы. Я кивнула головой.
Почему-то мне было не очень удобно в незнакомых мне прекрасных, холодноватых комнатах, но Леля двигалась среди всего этого великолепия так свободно, будто много лет жила здесь. Только когда в кабинет вместе с Клавдичкой вошла высокая нарядная женщина, которую Леля назвала тетей Соней, я заметила, что веселое выражение исчезло с лица Лели, и она, едва дав мне поздороваться с теткой, быстро шепнула: «Пойдем!» — и потащила меня в свою комнату.
Леля жила здесь вместе с маленьким Виташкой и его няней, и было видно, что Виташка сильно привязался к ней. Он все время подбегал к нам и показывал игрушки. Мы стали строить ему дворцы из кубиков, возить перед ним длинный поезд. Но скоро это нам надоело.
У окна стоял большой аквариум, он был гораздо больше и красивее тех, что я видела на Трубной. Из белого, чистого песочка на дне его поднимался целый лес необыкновенных растений с прозрачными листьями, и между ними проплывали рыбки. Рыбки были самые разные, и я долго рассматривала их, поднявшись на носки.
— Какие у тебя башмаки некрасивые, — сказала Леля.
Я почему-то посмотрела не на свои, а на Лелины ноги: она была обута в маленькие желтые туфельки. Мои башмаки по сравнению с ними были грубыми и тяжелыми, но мне не хотелось признать это. Я вспомнила, как Леля в свой приезд сидела у нас на сундуке и болтала ногами.
— Ты была у нас тоже в таких же башмаках, — возразила я.
— Ну? Правда? — Она нахмурилась. — Не помню... — У нее был такой тон, будто она рассердилась на меня за что-то.
В углу на маленьких диванчиках сидели две большие куклы. Я подошла к ним; одна была немного потрепанная, как моя Марфуша, другая — новая, с льняными волосами, очень красивая. Я взяла ее в руки.
— Это моя кукла, — небрежно бросила Леля. — Хочешь, я тебе подарю ее?
— Нет, мне не надо, мы лучше тут поиграем, — ответила я с неосознанным чувством обиды. — Мне она не нужна.
И я посадила куклу на место. Сама Леля с ее живым личиком словно вдруг отодвинулась от меня. Что-то нас разделило.
— В куклы скучно играть, — сказала Леля, и я угадала в ней чувство противоречия мне.
— Ну, не хочешь — и не надо, — ответила я холодно.
Леля, видимо, заметила перемену во мне и снова стала так доверчиво-весела, что легкая тень, возникшая между нами, быстро исчезла. Мы очень дружно играли с ней в куклы до тех пор, пока не пришла тетя Соня и не стала смотреть, как мы ходим в гости друг к другу и водим наших детей. Вся наша игра сразу разладилась. Удивительно было то, что эта красивая молодая женщина совсем не умела разговаривать с такими девочками, как мы с Лелей. Казалось, произнося слова и фразы, она думает совершенно о другом. Она говорила: «Как вы интересно играете», а я видела, что ей совсем не интересно. Она смотрела на меня, и мне почему-то делалось неудобно и хотелось, дернув плечом, освободиться от ее взгляда.
Вдруг за румяным Виташкой, возвратившимся с гулянья, в дверь комнаты вбежала маленькая белая собачка и, увидев меня, звонко залаяла. У собачки были красные, слезящиеся глаза и злое выражение морды.
— Какая противная собака! — сказала я.
— Тебя, наверно, дома учили так говорить в гостях? — презрительно сжав губы, спросила тетка.
— Нет, дома меня так не учили...
— Ну, значит, ты на улице выучилась говорить так?
Я не думала, что, выразив свою мысль, я сказала плохое, но смутно поняла, что нарушила мамин наказ о том, как держать себя в гостях. Вот я не залезала с ногами в кресло, не бегала как угорелая, не раскатывалась по скользкому паркету, но словами о собаке я, видимо, нарушила какой-то порядок, принятый в этой семье. Я поняла, что словами «на улице» тетка осуждает моих мать и отца. Я молчала, мне было не по себе. К счастью, нас скоро позвали обедать.
Лелин дядя уже был в столовой, когда мы вошли.
— Здравствуй, девочка моя, — сказал он подбежавшей к нему Леле, и в голосе его я услышала нежность и любовь к ней.
Этот высокий человек с большим лбом и усталым взглядом, с узкой белой рукой, которая опустилась на мои волосы и погладила их, был глубоко равнодушен к прекрасному убранству стола и всей большой столовой. Я подумала, что все это он видит каждый день и все ему надоело. Ему как будто было скучно среди окружающих его в этом доме людей — всех, кроме Лели. И все при нем, даже тетя Соня, стеснялись чего-то. Смутное чувство, что в этом богатом доме не так уж хорошо живется, рождалось во мне.
— Какая прекрасная зима в этом году, — сказал он, садясь за стол напротив Клавдички и вынимая из серебряного кольца блестяще белую салфетку. — Люблю Москву зимой!
Он взглянул на Клавдичку с едва уловимым выражением превосходства, как будто если он любил Москву зимой, так это было только ему свойственное качество.
— Я тоже люблю Москву зимой, — ответила Клавдичка с каким-то внутренним смыслом, который угадывался по выразительной ее улыбке.
— И вам не мешают происходящие события? — В голосе его уже ясно прозвучала насмешка. — А знаете, ведь на Коншинской фабрике снова беспорядки...
— Вы опять называете беспорядками то, что я называю борьбой рабочих за свои права, — ответила ему Клавдичка.
— А как же! Конечно, беспорядки! — Лелиному дяде как будто понравилось, что Клавдичка смотрит на него, нахмурив брови, и он оживился: — Ведь они выступают против царя и всего существующего строя...
— Сколько раз мы зарекались говорить с вами о подобных вещах! — сказала Клавдичка. — Ведь мы же по-разному думаем об этом.
— Нет, но вы, Клавдия Николаевна, на самом деле не слыхали, как здорово казаки разогнали забастовщиков у Трехгорки?
Клавдичка сидела очень прямо, как будто хотела встать из-за стола. Как бы отгоняя тревожную мысль, она провела рукой по лбу.
— Об одном и том же событии, — ответила она, — мы с вами слышим с двух сторон, и мы никогда не сойдемся посередине...
— Ну, и закончим на сегодня этот скучный разговор! — засмеялся Лелин дядя, подчеркивая слово «скучный».
Леля с беспокойством переводила глаза с лица Клавдички на лицо дяди, как будто тревожилась за то, что Клавдичка, которую она всегда любила, и дядя, который был добрым к ней и окружал ее заботой, не могут поладить друг с другом.
— Ну что ты так смотришь, девочка? Мы же снова друзья с твоей Клавдичкой! — И он стал подробно рассказывать тете Соне и Клавдичке о том, как сегодня прошло заседание какой-то их «правительственной» комиссии.
Я обрадовалась, когда кончился обед, хотя все было очень вкусное и в конце подали розовое и белое мороженое. Было уже поздно. У нас никогда не обедали по вечерам, и поэтому порядок в этом доме показался мне чужим и неудобным. Мне захотелось домой.
— Да, мы скоро поедем домой, — ответила мне Клавдичка.
— Нет, нет! — закричала Леля. — Не уезжайте, пожалуйста, не уезжайте! Мне сегодня играть при гостях!
Она обняла Клавдичку и заглянула ей в глаза. Клавдичка вздохнула, поцеловала ее и сказала, что мы остаемся. Леля схватила меня за руку, и мы побежали в ее комнату.
Теперь поминутно раздавались звонки: приезжали гости.
Мы играли с Лелей в шашки, когда нас позвали к гостям. Первый раз в жизни я почувствовала, входя в эту ярко освещенную залу, полную незнакомых мне людей, такое непреодолимое стеснение, что, если бы можно было вернуться с порога в Лелину комнату, я немедленно убежала бы. Но или наставления мамы вспомнились мне, или помогло то, что где-то в зале была Клавдичка, я все-таки преодолела застенчивость и вошла.
И сразу как будто очутилась на открытом месте, откуда меня всем хорошо видно. На отодвинутых креслах сидели, разговаривая между собой, одетые в красивые платья женщины. Несколько мужчин стояли около них. Мне показалось, что я двигаюсь среди них совсем не так, как обычно, иду, глядя прямо перед собой, и чувствовала, что покраснела до ушей.
И вдруг я увидела Клавдичку: она стояла около окна. Не раздумывая ни секунды, я пробежала через всю залу и остановилась около нее. Я почему-то думала, что она покачает укоризненно головой, но она спокойно, «при всех», пригладила мне волосы, откинув их со лба, отодвинула от стены стул и посадила меня так, что я оказалась близко к роялю.
Леля уже садилась на высокий стул, и затихали веселые голоса гостей.
Она обернулась к гостям, сказала, что сыграет сейчас Моцарта, и вдруг с хитрой гримаской дружелюбно кивнула мне. Она и здесь, среди взрослых, хорошо одетых гостей, могла делать все, что ей вздумается.
Но как она держалась! Вся ее небольшая фигурка вдруг приобрела какую-то манерность, чуждую той легкой, прелестной мелодии, которая зазвучала в зале из-под ее рук. Она как-то особенно плавно приподнимала и переносила руку с одной стороны клавиатуры на другую. И что было совсем непонятно — Леля покачивалась и чуть приподнимала голову в особенно выразительных местах, как будто хотела показать, как оно у нее хорошо выходит. Но от этого выходило вовсе не хорошо, совсем не так, как Леля недавно играла мне.
— Девчонка! — с досадой сказала Клавдичка за моей спиной.
Когда Леля кончила, похвалам не было конца. Она соскочила со стула, поклонилась, сказала непонятное мне: «Вальсизфауста» — и снова заиграла, держась так же манерно, как и раньше. Что-то сбивчивое было в ее игре.
— Прелестно! Очень хорошо! Как мила! — заговорили все, когда она кончила.
— Тебе рано играть этот вальс! — не громко, но так, что всем это было хорошо слышно, сказала Клавдичка.
И я увидела, как вся кровь бросилась Леле в лицо.
Она села снова к роялю. Задумалась. Потом неожиданно соскочила со стула и, сказав: «Мне больше не хочется играть», побежала через залу и от порога поманила меня за собой.
Лелина тетка была вне себя от досады. Она хотела остановить Лелю, пробегавшую мимо нее, но, вероятно, поняв, что Леля ее не послушается, обратилась к гостям, прося извинить за неожиданную выходку племянницы.
— Не знаю, что с ней случилось сегодня! — сказала она. — Это Клавдия Николаевна ее смутила.
— Ее и надо так смущать, — ответила Клавдичка, — а то ей уже хочется, чтобы все ее слушали и восхищались.
Я посмотрела на Лелиного дядю. Он сидел впереди в кресле и разговаривал со старым человеком в мундире, как будто не замечая, что Лелина игра кончилась и она убежала.
Но и эта выходка Лели не вызвала ни у кого недовольства.
— Талант! — сказал один из гостей. — Ничего не поделаешь: талант своеволен!..
Я догнала Лелю в коридоре. Она стояла у окна, видимо ожидая меня.
— Тебе понравилось, как я сейчас играла? — требовательно спросила она.
Я не умела выразить словами, какое впечатление произвела на меня ее игра.
— Мне больше понравилось, как ты играла в первый раз, когда я только что пришла. А сейчас...
— Это я нарочно так делала. Мне надоело для них играть: каждый раз показывают, как обезьяну какую-нибудь...
Леля была так не похожа на обезьяну, что я рассмеялась, но тотчас же смолкла, увидев крупные слезы у нее на глазах.
— Им все хорошо! — как-то угрожающе сказала она. — Что бы я ни сыграла, они все равно похвалят. Они к тетке в гости пришли, ну, и всё хвалят: обед хвалят, теткино платье хвалят, мою игру... Дядя Толя — важный человек; если его кто-нибудь из них попросит, он может все сделать. А они знают, что он любит меня, вот и хвалят меня, когда ничего хорошего в моей игре нет...
Она вдруг покраснела и топнула ногой:
— А еще, уйдут домой и будут надо мной смеяться! Я же знаю: я, и верно, играла плохо. Мне стыдно так играть, а я все равно буду так играть: хотят, чтобы была обезьяной, ну и пусть буду обезьяна... — И она утерла рукой глаза. — Хорошо тебе, — сказала она, немного успокоившись, — ты с мамой и папой живешь. И с Клавдичкой еще. А я тут одна...
— Но ведь тут тебя все любят.
— А я всех их ненавижу.
— Кого «всех»?
— Ну всех! Виташку я, правда, люблю и дядю... А ее ненавижу!
Наверно, в этом доме в Лелину жизнь входило очень много ненужного ей, и все это ненужное она соединяла с теткой.
— Все равно, хоть и любят, мне не хочется тут жить, я хочу к своему папе...
И она горячо и порывисто, как все, что она делала, бросилась мне на шею и заплакала, уткнувшись в мое плечо.
— Я... я потому здесь живу, что папа хотел... чтобы я училась. Я всегда помню его... и девочек, с которыми я играла. Папочка мой... папочка...
Мы ушли в Лелину комнату и долго сидели обнявшись в большом кресле, и Леля рассказывала мне, как хорошо жили они с папой в деревне, как она каталась с девочками на салазках с горы и как они летом бегали купаться.
Понемногу она развеселилась, и скоро громкий смех ее уже снова раздавался в комнате.
Когда мы уходили, я слышала, как Лелин дядя сказал Клавдичке:
— Все-таки, Клавдия Николаевна, вы видите сами, что каждый ваш визит выбивает ее из колеи. Это вредно для нее.
Клавдичка покачала головой и прямо взглянула на него:
— Трудно сказать, что для нее вреднее...
Прощанье с Клавдичкой
Клавдичка и мама сидели в комнате у стола и разговаривали, а я около окна шила толстой канвовой иголкой платье Марфуше. Тонкая кисейка легко прокалывалась толстой иглой, зато нитка никак не хотела пролезать, и иголку приходилось сильно дергать. Пальцы у меня заболели, и я отложила шитье.
За окном мне были видны длинные, свисавшие с крыши сосульки, толстые в основании и тоненькие на конце. Интересно было смотреть, как по сосульке скатывались капельки воды: они никак не могли оторваться и намерзали внизу. Сначала капелька вся сияла и переливалась радугой на солнце, потом мутнела: ее обволакивал тоненький ледяной мешочек, из него вода уже не могла вытечь и застывала. Сосулька становилась длиннее.
— Значит, ты твердо решила ехать? — спросила мама.
— Да, Грунечка, поеду: я нужна ему. Он только виду не показывает, а я знаю, как после целого дня в больнице, разъездов по своему участку он возвращается вечером домой, и дом не светит ему навстречу, окна его темны... Конечно, работы у него много, но он ведь хочет и поговорить о своей работе!
Я очень хорошо помню, как в день своего приезда Клавдичка сказала про своего брата, что он «тянет, как вол», «ломит и ломит по грязи... и все его любят», и дядя Ваня, которого я никогда не видела, представляется мне богатырем, большим и добрым человеком, который ходит всюду и лечит людей. Очень жалко, что он отправил Лелю с Клавдичкой в Москву и остался один.
Но неужели Клавдичка уедет от нас? Как же я-то останусь? Ей можно все рассказать, и она объяснит, как в тот раз, когда Ксения с детьми уезжала из фабричного общежития и мы с Дуняшей плакали, расставаясь. Клавдичка подошла, обняла нас обеих и сказала, что Дуняша уезжает не на край света, а только на Пресню и мы будем видеться. «Самое главное, — сказала она, — быть хорошими друзьями. Тогда не страшно, если друг и уедет: он всегда тебя будет помнить...»
Кто-то высокий прошел мимо окна, заслонил свет, и сразу раздался звонок. Как всегда быстро встав с места, Клавдичка пошла открывать дверь.
— Ах! — услышали мы ее взволнованный голос.
Я сейчас же побежала в переднюю и увидела, что с Клавдичкой здоровается, наклонясь к ней, и крепко жмет ей руку одетый в черный полушубок человек, никогда у нас не бывавший, немолодой, но мне показалось — очень веселый, потому что он смеялся, показывая два ряда белых зубов.
— Иван Николаевич жив, здоров, — сказал он. — И даже не успевает скучать без вас.
— И вы живы, здоровы, — сказала Клавдичка. — Вижу и радуюсь. И все у вас в порядке?
— Все, все. Можно раздеться?
— Ну конечно же, о чем говорить!
— Говорить-то есть о чем.
Этот разговор, в котором мне невозможно было понять, о чем идет речь, шел необыкновенно. Казалось, что два человека, встретившись в нашей передней, очень хотели бы говорить по-другому, но не могут. Или Клавдичка сдерживается, чтобы не показать, как она взволнована.
Когда они вошли в комнату, Клавдичка сказала:
— Вот, Груня, это Ванин помощник, наш фельдшер, Сергей Касьянович. Помнишь, я говорила. — И села на стул, глядя на гостя блестящими глазами.
— Ну, познакомимся, девочка, — сказал гость, протягивая мне руку, но я почему-то застеснялась и отошла в сторону.
— Это — Саша, — сказала Клавдичка. — Мы с ней друзья.
— Ну, значит, и со мной подружишься! — пообещал он мне. — У меня у самого две такие девочки, как ты.
И сел на диван. У него были блестящие густые волосы, зачесанные назад над большим гладким лбом, но у самых глаз было много морщинок.
— Как это вы приехали так неожиданно? — спросила Клавдичка.
— У нас новости: наконец-то достроили больницу, приехал кое за каким оборудованием.
— Я уже знаю про вас многое, — сказала мама. — О том, как вы работаете с Ваней...
— Вы давно видели Ивана Николаевича? — спросил Сергей Касьянович.
— Давно, — ответила мама, — еще когда он студентом был, но помню, как он стремился жить и работать для народа.
— И все выполняет, как решил! — с восхищением сказал Сергей Касьянович. — Потерял самое дорогое для него — жену и друга — и не сломился. Теперь сотни крестьян знают его как врача, не жалеющего ни сил, ни времени для людей. Наверно, Клавдия Николаевна, он редко писал вам?
— И редко и мало, — ответила Клавдичка, придвигая к гостю пепельницу и сама закуривая. — Это понятно: не хочет жаловаться.
— Тем более, — подхватил гость, — что у него было много тревог и неприятностей.
— А как теперь? — Клавдичка наклонилась вперед.
— Я же сказал «было», Клавдия Николаевна, значит, прошло.
— Ну, не всегда так бывает: было и прошло.
Сергей Касьянович взглянул на Клавдичку, и вдруг все лицо ее порозовело.
— Расскажите же! — почти приказала она.
— Это все произошло из-за литературы, — начал он. — И раньше у нас было насчет этого — только давай, а теперь, после январских событий, из центра нам посылают листки, обращенные к крестьянам; у нас их многие читают. Хотят узнать настоящую правду о жизни. Ну, кое-что попалось кому-то на глаза. Становой, исправник всполошились, из себя выходят, ездят по пятам за Иваном Николаевичем, расспрашивают крестьян. А в это время литература другим путем течет.
Клавдичка улыбнулась гостю и покачала головой, как будто говоря: «Знаю, все знаю...»
— Ну, вы же знаете нашу работу, — ответил на незаданный вопрос Сергей Касьянович. — И однажды нагрянули... Ничего не нашли, успокойтесь. Но Ивана Николаевича оттуда переводят.
— Куда?
— Еще неизвестно. Вот приедете к нам и узнаете. Ведь, я думаю, вы скоро к нам вернетесь? Может быть, вместе и поедем?
Клавдичка посидела молча, потом достала новую папиросу, закурила и сказала твердо:
— Куда бы его ни перевели, я поеду туда, где будет брат.
— Саша, — позвала меня мама, — пойди помоги мне накрыть на стол.
И нехотя я пошла за ней, оставляя Клавдичку в каком-то непонятном мне волнении.
Сергей Касьянович много раз приходил к нам. Он умел очень интересно рассказывать о том, что видел, и о книгах, которые читал. От него первого я услышала о Робинзоне Крузо. Он говорил о нем, как о хорошо известном ему человеке, и, помню, я была очень удивлена, когда оказалось, что и отец и мама тоже прекрасно знают Робинзона. Вероятно, это было первое мое представление о том, какое широкое знакомство может быть у героя книги. Мне и в голову не приходило, что Робинзона выдумал его автор.
Вместе с Клавдичкой Сергей Касьянович ездил к Лелиному дяде, они видели Лелю, даже хотели привезти ее к нам, но у меня болело горло, и ее не пустили. Клавдичка все время была такая веселая.
— Ты красивая, Клавдичка! — говорила я ей убежденно. — Тебе надо сшить розовое платье.
Она шла ко мне и, смеясь, говорила:
— Где ты видела такую красавицу?
— Ты лучше всех! — отвечала я ей.
Однажды мама сказала при мне:
— Ваня все равно узнает, что есть человек, которого ты любишь... Зачем же отказываться от личной жизни?
— Я и не отказываюсь: моя личная жизнь будет полна и около брата.
— Нет, — сказала мама, — это совсем, совсем не то!..
Мне не раз приходилось слышать о свадьбах, но я всегда думала, что женятся только люди совсем молодые, а уж никак не такие, как Сергей Касьянович и Клавдичка. Но когда я видела их рядом, Клавдичка казалась мне молодой, и никакие оспинки не мешали ей быть веселой и красивой.
Правда, непонятное заключалось в том, что у Сергея Касьяновича были две девочки, а если были девочки, то куда же девалась их мать? Но как-то из разговора мамы с отцом я услышала, что с женой Сергей Касьянович «давно расстался» и «лучшей матери детям, чем Клавдичка, ему не найти». Но как же так? Дядя Ваня обещал Леле, что «никогда другая мама не войдет в их дом», а Сергей Касьянович как раз хочет, чтобы Клавдичка вошла в их дом и была той самой «другой мамой» его дочери и племяннице? Одно ли это и то же, когда люди «теряют» жену или «расстаются» с ней? И теряют ли они в обоих случаях «самое дорогое» для них, как сказал Сергей Касьянович про дядю Ваню? Эти мысли возникли в моей голове, но я была не в состоянии разобраться в сложных отношениях женщин и мужчин и больше всего желала, чтобы Клавдичка не уезжала от нас. Но чувствовала, что самой Клавдичке хочется и надо уехать.
И на самом деле пришло время расставаться с Клавдичкой. Теперь мы знали, куда она едет: в марте пришло письмо от дяди Вани, что его перевели в Воронежскую губернию. Перед своим отъездом она взяла меня с собой провожать Сергея Касьяновича в Саратов. Несмотря на то что мы с Клавдичкой его провожали, он сказал: «Я все равно не расстаюсь с вами». И Клавдичка в ответ кивнула ему.
А вскоре мы стояли с мамой на платформе Казанского вокзала, держа с обеих сторон руки Клавдички. Высоко над нами поднимался особенный, сетчатый свод со вставленными в нем запыленными стеклами. Кое-где стекла были разбиты, и сквозь них виднелось далекое, пронзительно ясное, голубое небо. Почему-то казалось, что отсюда, из-под этого высокого свода, начинаются только далекие путешествия и Клавдичка уезжает в такое.
Тихо, задним ходом, рядом с нашей платформой подвигались вагоны, и вот пустой еще поезд остановился перед нами.
— Когда же мы теперь с тобой увидимся? — спросила мама.
— Трудно сказать, Грунечка, просто даже и не знаю... — ответила Клавдичка.
Мама обняла Клавдичку и заплакала.
Я смотрела во все глаза на милую, наклоненную к маме голову: из-под шапочки выбивались кудрявые волосы Клавдички. И вот она обняла меня, приподняла и крепко поцеловала. На глазах у меня были слезы, я вытерла их рукой. Мне хотелось прижаться к груди Клавдички и заплакать. Я удержалась, но Клавдичка все равно поняла.
— Клавдичка, — сказала я, — помнишь, ты сказала мне с Дуняшей: «Самое главное — быть хорошими друзьями. Тогда не страшно, если друг и уедет: он всегда тебя будет помнить»?
— Ну? Ты помнишь? — воскликнула Клавдичка. — Очень хорошо, что помнишь! А я чуть не забыла недавно, когда это мне было очень-очень нужно. — И она снова поцеловала меня.
Вот уже дали три звонка. Вагоны медленно двинулись, и мы с мамой, с заплаканными глазами, взявшись за руки, идем рядом с поездом, торопясь еще раз заглянуть в окно, где сквозь тусклое стекло виднеется лицо Клавдички. И сжимается сердце при мысли, что я, может быть, никогда больше не увижу ее...
Гроза
В саду зацвели молодые яблоньки. Маленькие деревца, которые при мне сажал Данила-дворник, выросли и стояли такие нарядные. Цветы плотно сидели на ветках; белые их лепестки внизу, у чашечки, были густо подкрашены розовым и так хорошо пахли.
Вот, значит, я тоже подросла, но почему-то мне этого по себе не видно, разве только платья становятся коротки мне и мама их «выпускает» каждый год.
То, что я немного подросла, я знаю и по тому, что теперь мне кажется смешным бояться темной комнаты. Раньше, «когда я была маленькой», я боялась вечером проходить одна через темную столовую потому, что в углу под диваном кто-то сидел, может быть даже медведь. Днем там никого не было, но я-то уж знала, что по вечерам медведь откуда-то берется под диваном и, если я хоть шаг сделаю от двери, он выскочит и зарычит. Порожек у этой двери мне хорошо запомнился: я стою, держась за притолоку, и ноги мои словно прилипли. Глаза прикованы к дивану, и я вижу, что бахрома, которой он обит внизу, легонько колышется... И вдруг я решаюсь — бегу через комнату во всю силу, сердце стучит, и я как будто оглохла: так бьет в виски кровь. Вскакиваю в спальню, а там мама зажигает лампу и, увидев мое красное лицо, говорит: «Сколько раз тебе говорить, что в доме бояться нечего!»
Теперь я нарочно пробегаю в темноте через комнату, стучу по дивану палочкой и даже кулаком, и, конечно, медведь не показывается, потому что его там и нет вовсе. И когда я рассказываю, как я раньше, «когда была маленькой», боялась, мне кажется, что это было очень давно.
С тех пор как уехала Клавдичка, у нас дома без нее стало пусто: отец с утра до вечера на работе, мама целый день занята — то шьет на машинке, то готовит обед. И я целый день бегаю по двору с девочками. Иногда собирается много ребятишек, и мы играем в любимые наши горелки. Больше всего я люблю «водить»:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят...
Говоришь это каким-то особенным, поющим, звонким голосом, а сама посматриваешь одним глазом и ждешь — вот-вот из-за твоей спины вырвутся с той и другой стороны стоящие в паре подружки и побегут со всех ног, делая большой круг, чтобы успеть встретиться прежде, чем я схвачу кого-нибудь из них. И когда после такой игры приходишь домой, мама проводит рукой по моим волосам, по лбу и говорит: «Опять вся мокрая!..»
Как-то в самое цветущее время начала лета меня взяли в Ново-Гиреево к дяде Петру. Лизавета Сергеевна встретила нас одна, приветливая, очень миловидная, в синем ситцевом платьице. За ней тотчас вышел на крылечко кот тигровой расцветки, взглянул равнодушно зелеными глазами и, сделав вид, что наш приезд не может отвлечь его от выполнения ежедневных обязанностей, стал следить за пролетающими ласточками.
Ласточки носились низко над землей и почти чертили крыльями по траве; было удивительно, что птицы соединяли с воздушной легкостью какую-то стальную точность полета. Лизавета Сергеевна показала мне под крышей гнездо, слепленное из глины, и я едва могла поверить, что ласточки сделали это сами.
— Ты у нас девочка городская, — сказал отец, — и того, верно, не знаешь, что ласточки низко летают к дождю.
Но солнышко светило так ясно, никакого дождя не могло быть!
У Лизаветы Сергеевны было много интересного. В комнате стояли пяльцы, в них был натянут кусок полотна, и по нему были вышиты особенно плотной гладью необыкновенно выпуклые белые цветы с разными мережками.
— Да вы, Лиза, и монастырской гладью умеете шить! — с восторгом сказала мама. — Сколько же тут надо «настилать»?
Лизавета Сергеевна стала показывать очень охотно, ее маленькие ручки так и замелькали над пяльцами.
Иголкой она словно целилась немного сверху и, легко воткнув, ухватывала ее и вытягивала снизу. Блестящие льняные нитки ложились тесно одна к другой.
— Ну, вы, Лиза, просто мастерица! — еще раз повторила мама. — И рисунок — прелесть какой!
— Это у меня большой заказ, — сказала Лизавета Сергеевна, — приданое одной из дочек купцов Разореновых.
Потом мы напились чаю, а дяди Петра все не было, и мы с мамой и Лизаветой Сергеевной пошли за рощу на луг собирать цветы. Отец же сказал, что он посидит на крылечке и дождется Петра.
Первый раз была я на таком лугу: всюду, куда ни глянешь, меня окружали плотные, блестящие на солнце листья, над ними на тонких стеблях поднимались свежие, душистые цветы, и можно было сорвать любой. Горячее солнце грело голову и плечи, летали бабочки, и я чувствовала себя необыкновенно легко и счастливо.
Когда мы уже шли обратно, легкая сероватая тень внезапно легла на все вокруг. Я оглянулась, ища, откуда она появилась, и вдруг увидела за рощей темно-синюю тучу. Туча поднималась так, будто ее толкало снизу, и, когда я взглянула на солнце и снова на тучу, я заметила, что расстояние между ними сильно уменьшилось. Край тучи был плотный и беловато курился в голубое небо. Настала такая тишина, что казалось — ни один цветок не шелохнется.
Далекий гул послышался за лесом, как будто там глухо заворчало что-то большое.
— Ну, быть грозе! — сказала мама.
Туча поднималась все быстрее, она словно спешила надвинуться на голубое пространство неба, и в этом быстром движении от края ее отрывались клочки облаков и летели вперед, к солнцу. Пронесся сильный порыв ветра, наклонил траву, и все цветы закачались и затрепетали. Край тучи надвинулся на солнце, стало темно.
И вдруг огненной змейкой блеснула молния и — разом! — над головой раскололся звучный, отдавшийся во все концы неба удар грома.
— Бежим! — крикнула мама, и мы побежали.
Было немного страшно, но больше — весело. Пыль так и отлетала на бегу от моих ног. Мама отставала от меня: смеясь и подобрав длинные юбки, она порой останавливалась, чтобы отдохнуть. А Лизавета Сергеевна бежала легко, как девочка.
Молнии сверкали одна за другой, гром перекатывался гневно и гулко. Но отец уже шел нам навстречу, и с ним почему-то стало не страшно.
Ветер взвил около нас пыль, подхватил откуда-то белый лист бумаги и, словно поддерживая его с обеих сторон, покатил вперед по дорожке, как колесо, с угла на угол. Ух, как теперь засвистел ветер и понес песок и мелкие камешки!
Первые капли дождя ударили в землю, особенно запахло свежестью, и при блеске молнии я увидела, что роща стоит вся светлая, молодая на синем фоне тучи, и листья ее недвижимы, хотя они только что трепетали. Так же и бежавший по дороге мальчуган при свете молнии словно застыл на бегу. Над головой с оглушительным треском снова прокатился гром, но прелесть рощи меня так поразила, что я остановилась и посмотрела еще раз.
— Молодчина! — сказал отец. — Не боишься грозы, это хорошо.
Полил дождь, капли его застучали по моей голове, а вот уже и струйка потекла по спине, и мы вбежали на крылечко.
— А где же ласточки? — закричала я и вскочила на стул, чтобы рассмотреть их гнездышко.
И оттуда на меня глянули два черных глазка испуганной птички.
Сквозь слитный шум падающего на деревья и на крышу дождя слышались сильные порывы ветра, но молнии теперь блистали не часто и удары грома все отдалялись.
И тут, весь мокрый, подбежал к крыльцу дядя Петр и громко крикнул:
— Лиза, дай-ка мне сухую рубашку!
Он переодевался в комнате и не то ворчал, не то сердито читал стихи:
— «Не водись-ка на свете вина, тошен был бы мне свет!..»
— Что с тобой, Петя? — спросил отец. — Ты как будто немного того... Чем ты недоволен? Гроза пройдет — как еще свежо и прекрасно будет!
— Гроза! Что гроза? — сказал дядя. — Сейчас я скажу вам нечто такое, что вы ахнете...
Дядя Петр сел к столу и положил на стол оба сжатых кулака. Глаза его зло блестели.
— Пятнадцатого мая в Цусимском проливе японцы потопили всю эскадру Рожественского! Всю! Прекрасные суда, матросы, офицеры — честь русского флота — потоплены, погибли... — И он обвел глазами лица мамы и Лизаветы Сергеевны.
Обе они испуганно, со слезами на глазах смотрели на него. Отец молча подошел и тоже сел к столу против дяди Петра.
— Несчастная эта война с Японией! — сказал он. — Погнали людей на край света, погубили всю эскадру...
— Я шел сюда и непрерывно ругал скотов и негодяев! — сказал дядя.
Можно было легко понять, что дядя Петр обвиняет кого-то, кто погнал на край света людей и кто имеет власть на этом, очень далеком, наверно, краю света «губить эскадру». О том, что идет война с японцами, об эскадре, крейсерах, миноносцах я имела слабое и весьма туманное представление. На пустыре перед фабричным общежитием теперь собиралось много мальчишек играть «в войну». Они рассчитывались по считалке на японцев и русских и усердно нападали друг на друга. Одного курносенького мальчугана прозвали «Камимура»: он был японский генерал.
На улицах Москвы тогда продавались интересные открытки из толстого картона, на которых в левом нижнем углу был нарисован русский военный крейсер с пушкой на носу, а в другом углу, наискось, — японское судно, из-за трубы его выглядывал японец со злым лицом.
— Думал я обо всем, — сказал дядя Петр, — ругался на чем свет стоит и со зла купил вот эту штуку...
Дядя Петр полез в карман и вытащил как раз такую открытку. Он подозвал меня, дал мне рассмотреть картинку, потом зажег спичку и приложил ее к дулу пушки, нарисованной на носу русского крейсера. Сейчас же с легкой вспышкой зажегся огонек и, будто кто-то повел по картону огненным угольком, побежал наискось через всю открытку к японскому судну. Под самым его дном огонек приостановился, и вдруг щелкнул довольно громкий взрыв. На месте японского крейсера и выглядывавшего японца осталась дыра с обгорелыми краями.
— Не хотите ли? — спросил язвительно дядя Петр, обращаясь к отцу и матери. — Как ловко мы взрываем японские крейсеры, но, увы, на открытках! Свою же эскадру дали японцам потопить. Чудовищно! На всех перекрестках продают эти открытки — безобразное издевательство над превосходным нашим флотом, над нашими офицерами и матросами, которые могли бы действовать превосходно, если бы во главе флота не стояли бездарные царские адмиралы!..
Дядя Петр с отцом долго разговаривали, называли красивые имена погибших судов: «Орел», «Ретвизан», «Аскольд»... И все они, такие же гордые и красивые, как крейсер «Варяг», знакомый мне по картинкам в «Ниве», словно выплывали передо мной на широкой глади никогда не виданного моря.
— История расскажет нам, как вели себя наши русские герои перед лицом опасности, — сказал дядя Петр. — Примеры героизма — «Варяг» и «Кореец», миноносец «Стерегущий» — всегда будут памятны русскому народу. Но гибель лучших людей в эту войну он не простит...
— Вот уж на самом деле грозовые дни настали, — сказал отец.
— Ну, грозы еще впереди! — ответил дядя Петр.
Гром погромыхивал, но дождь быстро переставал. С крыши еще сбегали тонкие струйки воды, но они становились все тоньше, и скоро уже падали только отрывистые, звучные капли. Как освежился воздух после грозы! Хлынуло солнце, и первая ласточка вылетела и взвилась в голубое, чистое небо.
Снова Кондратьев
Все это лето часто собирались грозы. Иногда они проходили без дождя, тогда ослепительно сверкали молнии и гром гремел так, будто на небе что-то раскалывалось с оглушительным треском. Такие грозы дядя Петр называл «сухими грозами» и говорил, что они самые страшные.
В одно из воскресений, после того как мы ездили к дяде Петру, я снова встретила Кондратьева. В той комнате, где за ситцевой занавеской мы играли с Дуняшей, теперь поселилась другая семья. В ней было пятеро детей — все мальчики, из них я «водилась» только с Ваней. Рядом с этой комнатой жила Лизунька, и, как-то проходя к ней коридором, я услышала знакомый голос. Это был голос Кондратьева. Открыв темную, закопченную дверь, я вошла и увидела, как из-за спин сидящих на скамьях, склоненных над чем-то людей выглянул большой, чуть выпуклый лоб и на меня глянули зорко прищуренные глаза под прямыми бровями...
— Дядя Степа! — крикнула я, подбежала к нему и положила руку ему на колени. — А Дуняша пришла?
— Она после придет, — сказал Кондратьев приветливо. — Дело, дело, что ты прибежала! Папане скажи: Кондратьев заходил, думал повидаться. Только, — он наклонился к моему уху, — тихонько скажи, не шуми... Ладно?
— Ладно! — ответила я.
Мне не хотелось уходить, и я все стояла около него. Перед Кондратьевым лежал сильно потрепанный большой лист бумаги с забавной картинкой. Внизу на ней было нарисовано много рабочих, похожих на наших фабричных. Тяжело согнувшись, они, как на огромном подносе, держали на своих плечах веселых, хорошо одетых людей: мужчин, похожих на хозяина, и барынь в красивых платьях. Над головами этих людей на помосте стояли солдаты с ружьями в руках... И выше солдат был еще кто-то.
Кондратьев провел рукой по нижнему ряду рабочих и прочитал надписи справа и слева:
— «Мы работаем за вас», «Мы кормим вас». — Потом поднял руку выше к ряду «господ» и сказал: — «Мы едим за вас».
Все засмеялись, и кто-то заметил:
— Вот это без ошибки!
Кондратьев показал на ряд солдат с ружьями в руках. Медленно, разделяя слова, он прочел:
— «Мы стреляем в вас!» — и обвел глазами собравшихся: — Это как?
— А «Потемкин»? — ответил вопросом молодой рабочий из граверной. — Ведь отказались же матросы стрелять по рабочим.
— Это — первая ласточка, но за ней прилетят и другие... — сказал Кондратьев, — Ну, иди, иди, — подтолкнул он меня. — Скажи папане, не забудь!
— Я тихо-о-нько скажу!
— Вот и ладно будет, — похвалил Кондратьев.
Выбежав из коридора, я открыла дверь. Влажный, теплый воздух после прошедшего утром дождя повеял мне в лицо. Неожиданно я увидела Тишкина, стоявшего за углом. Может быть, я пробежала бы мимо него, но какое-то странное выражение всей его фигуры приковало меня. Он стоял, наклонившись всем корпусом, и как будто рассматривал что-то на стене. Около его лица приходился нижний край оконного наличника, так же потемневший от времени или, может быть, от дождя, как бревна стены, но угол его был длинно отщеплен, и там белело свежее дерево.
«Что он там увидел такое интересное?» — подумала я и остановилась около большой бочки, подставленной под желоб и полной дождевой воды. В это время и Тишкин заметил меня. Я хотела подойти посмотреть, что он разглядывает, но Тишкин замахал рукой.
— Чего уставилась? Тебе тут делать нечего! — сказал он.
Меня поразило то, что Тишкин сказал это очень тихо. Обычно голос у него был громкий, визгливый. Я побежала домой.
И вот, пока я прыгала то одной, то другой ногой в большие следы, протоптанные от крыльца по грязному двору, стараясь не запачкать туфли, передо мной складывалось и складывалось какое-то, еще неясное мне самой ощущение того, зачем Тишкин стоит, наклонившись под окном барака, где жили фабричные и откуда я только что вышла.
Почему-то вспомнилось, как он своей неспешной и даже медлительной походкой проходит по двору, как курит и, прежде чем бросить окурок, поворачивает его к себе обгоревшим концом и плюет на него, и что отец мой называет его «этот мерзавец Тишкин». Все наполнило меня сейчас каким-то неясным подозрением, и по спине моей пробежал озноб. И вдруг я с неожиданной точностью увидела перед собой окно, у которого он стоял, и ясно вспомнила этот отщепленный внизу угол наличника. Ведь это Ваня отщепил его, когда лез в свою комнату через окошко! Мы играли тогда в классы около их окна, а он смеялся и говорил: «Девчонкина игра...»
В передней я сразу же с радостью услышала звуки скрипки отца и, не вытерев ног, вбежала в комнату. Мама была в кухне.
— Папа, знаешь, там Кондратьев пришел! — шепнула я, помня, что обещала Кондратьеву сказать отцу тихонько. — И он хотел с тобой повидаться...
Но, говоря об этом, я чувствовала, что есть еще главное, о чем надо сказать отцу.
— Ну и очень хорошо! — ответил отец. — Вот ноги ты не вытерла. В такую грязь лучше уж в галошах ходить. Где ты видела Кондратьева?
— Они там все сидят, смотрят картинку...
— Какую картинку? И где сидят? — спросил отец.
— Где Ваня живет... где Дуняша раньше жила... — И тут я неожиданно для себя быстро сказала: — А Тишкин стоит под ихним окном, подглядывает.
— Ладно, беги к маме! — внезапно вставая из-за стола, сказал отец. Он торопливо положил скрипку в футляр, прошел в переднюю, взял фуражку и вышел.
Но я не пошла к маме, а выскочила на крыльцо и увидела, как отец вышел через калитку на пустырь и идет к бараку. Вот он поравнялся с дверью, вот, не заглянув за угол, открыл дверь и вошел. Значит, он не понял, где стоит Тишкин? А ведь так заторопился, когда про него услышал! Я побежала к бараку, заглянула за угол и увидела, что Тишкин куда-то ушел. Ну, теперь отец скажет, что никакого Тишкина не было и я «напрасно путаю», как он иногда говорит.
Я раздумывала об этом, когда отец спокойно вышел из общежития. Он заметил меня, подозвал и, ничего не сказав мне, обнял за плечи и повернул к нашему флигелю. Вдруг из дворницкой вместе с молодым сторожем Матвеем появился Тишкин. Они оба почти побежали к бараку, и в это время из двери навстречу им, о чем-то весело разговаривая, вышел Кондратьев и несколько рабочих. Они шли, не обращая внимания на Тишкина, который, завидев их, остановился и даже отступил немного в сторону, пропуская идущих.
— С прибытием вас, господин Кондратьев! — насмешливо сказал Тишкин с шутовским поклоном.
Кондратьев остановился и прямо посмотрел на него прищуренными глазами. Все лицо его, большой лоб и прямые, сейчас сведенные у переносицы брови, — все выражало презрительное негодование.
— Смотри, Тишкин, — сказал он, — как бы тебе худо не было!
— А мне за что? — нагло ответил Тишкин.
— Продаешь!.. — Кондратьев помедлил. — Так помни: себе дороже станет.
И, сопровождаемый товарищами, он не спеша пошел через пустырь на улицу.
Тишкин, помедлив, двинулся за ним.
Прошла, может быть, неделя или больше, когда однажды отец вынул скрипку, посидел немного, положив ее на колени, потом встал и взял с полки несколько тетрадей нот.
Он открыл одну тетрадь и поставил на пюпитр. И вдруг выскользнула и развернулась сложенная вчетверо бумага. Я подбежала и подняла ее: это была та самая картинка, которую я видела в руках Кондратьева. «Давай-ка ее сюда! — сказал отец, протягивая руку. — Это нужная мне вещь». Я поняла, что он тогда взял эту бумагу у Кондратьева и спрятал у себя.
Много лет спустя такой агитационный листок я увидела в Музее В. И. Ленина и тогда хорошо рассмотрела и прочитала то, чего не могла увидеть в детстве. Это — приложение к ленинской газете «Искра», изданное социал-демократической рабочей партией. Повыше, над рядом солдат с ружьями, нарисованы священники и монахи в черных рясах, и там написано: «Мы морочим вас»; в следующем ряду изображено совсем немного людей, и около них стоит надпись: «Мы правим вами»; а на самом верху помещаются только царь и царица, и там написано: «Мы царствуем над вами».
Внизу можно прочитать стихи:
Но настанет пора — возмутится народ,
Разогнет он согбенную спину,
Дружным, могучим напором плеча
Опрокинет он эту махину...
Дуняшино горе
Прошло немного времени — каких-нибудь несколько дней — с тех пор, как я встретила Кондратьева. И вот произошли новые события, которые, как чертой, отделили первые, немного смутные детские годы. Меня окружали всё те же люди, но теперь я увидела их яснее. Произошло это так.
Я играла около дома, когда высокая молодая женщина взошла на крыльцо и крепко постучала в нашу дверь. И тут, вдруг заметив меня, она сказала так, будто мы с ней виделись много раз и очень часто:
— Здравствуй, племянница Саша! Тебе дедушка Никита кланяется... Мама дома?
В это время дверь перед нами открылась, мы вошли, и женщина откинула со лба легкий шарф и поцеловалась с мамой. Это была Варя, дочь дедушки Никиты Васильевича и моя тетка. Она приехала к маме и просила ее съездить с ней вместе к Лизавете Сергеевне:
— Одна я не сразу найду их, а очень нужно. Есть заказ на вышиванье. Наш мастер просит, он дочь замуж отдает. Отказать нельзя.
— Ну что же, поедем. Только подожди, Варя, сперва пообедаем.
За обедом тетя Варя рассказывала о дедушке Никите Васильевиче, называла его отцом, и мне почему-то странно было, что он и дедушка и отец. О матери своей она сказала, что здоровье ее все такое же плохое, но она без рукоделия минуты не сидит, все что-нибудь шьет или вяжет.
Мне случалось оставаться одной дома, но в такую хорошую погоду, как сегодня, так не хотелось сидеть в комнате. Я спросила маму, можно ли мне пойти играть в большом саду за нашим двором.
— Можно. Но если пойдешь туда, запри дверь и ключ отдай Даниле, чтобы не потерять.
Когда они уходили, я слышала, как тетя Варя сказала:
— Бедная Ксения себе места не находит с тех пор, как взяли Степана Саввича.
Это я хорошо расслышала, но сразу не догадалась, что значит «взять» человека. Можно было взрослому взять куда-нибудь с собой маленького ребенка: взять в церковь, взять в Нескучный сад, взять в гости. А большого?
В этот день забежал Митя, и, так как услышанное почему-то беспокоило меня, я сказала ему, что дядю Степу куда-то «взяли», но только я не поняла куда.
— Эх, ты! Взяли — это взяли и есть! — объяснил он с высоты своего девятилетнего возраста.
— Куда?
— Да в тюрьму посадили! — ответил Митя. — Разве мало народа сажают?
Это было уже понятно.
— А Дуняша? А Ксения? — спросила я с испугом.
— Дуняша небось плачет, а мать ее, наверно, побежала узнавать, куда отвезли мужа: в Таганскую или в Бутырскую, а то еще куда-нибудь. Это всегда так жены бегают узнавать про мужей.
Спокойствие Мити меня поразило.
— Что же ты так говоришь? Разве ты Дуняшу не жалеешь?
— Жалею. А что же мне, плакать о ней, что ли? У нас (он так и сказал: «у нас») не плачут, а как в семье горе — соберут денег, снесут и поглядят, в чем самая нужда. А плакать, это... — Он пренебрежительно махнул рукой.
Мне представился такой же «угол», как был у Ксении после увольнения Кондратьева с фабрики, и там за столом, покрытым потертой клеенкой, сидит Дуняша, держит на коленях Катюшку, и большие ее голубые глаза смотрят задумчиво и печально.
Как бы хорошо было, если бы я могла пойти к ней, спросить, как они теперь будут жить. Да вот беда — далеко до Пресни.
— Митя, — спросила я, — до Пресни очень далеко?
Митюшка посмотрел на меня, выпятив немного губу, и присвистнул:
— Рукой подать — вот как далеко! А что?
— А ты не врешь? — У меня все-таки было сомнение в том, что до Пресни «рукой подать».
— Чего я буду врать? На Красной площади бывала?
Я кивнула головой.
— Оттуда по Моховой, потом по Никитской, все прямо и прямо — вот тебе и Пресня.
— А ты до Кондратьевых дорогу найдешь?
— А то!.. Я у них, может, раз пять с Петром Иванычем бывал. Идти, что ли, хочешь? Так пойдем.
Дело решилось так скоро и просто, что раздумывать было бы ни с чем не сообразно: мама ушла надолго, отец придет только вечером. Конечно, одной мне идти нельзя, на улицу мне можно выходить только с кем-нибудь из взрослых. Но Митя же знает дорогу. И потом, мы не гулять идем, а проведать подружку, у которой случилось горе. Мы скоро вернемся.
Все-таки на душе у меня было неспокойно, и при одной мысли, что мама очень рассердится, сердце словно летело куда-то. Вот ведь Митя ходит один по улицам, и Дуняша ходит, и никто им ничего не говорит! Я закрыла дверь на замок, как всегда, уходя, делала мама, ключ отнесла Даниле и сказала, что мама велела отдать — мы с ней уходим.
— Постой, постой, — сказал Данила, — ведь Аграфена Васильевна с час как ушла.
— И мне велела догонять! — беспечно сказала я, поражаясь про себя, как быстро один неправильный поступок влечет за собой другой. — Мы с Митюшкой пойдем.
Мое путешествие к Дуняше, с одной стороны, казалось мне правильным и неправильным — с другой. Э! Что там думать! После разберемся.
Мы вышли с Митюшкой из ворот. Вид и даже самый воздух улицы сегодня показались мне совсем другими: необычайно резко выступали стены домов, камни мостовой, доски заборов с кругленькими сучками в них — все было так выпукло и нарядно, словно обведено тонкими черными линиями.
Сначала мне казалось, что все встречные смотрят на меня и думают: «Вот девочка пошла одна, не спросившись у мамы». Но когда один старичок спросил меня: «Девочка, как пройти на Пятницкую?», я поняла, что мое путешествие в глазах других людей — дело самое обычное, и мне очень польстило обращение ко мне взрослого человека. Зная Пятницкую, я постаралась дать ему совершенно исчерпывающие указания, и он поблагодарил меня, сказав: «Ну, спасибо, дай бог тебе здоровья», и это я приняла с уверенностью, что такое пожелание непременно принесет мне только хорошее.
После этого маленького случая я почти перестала испытывать угрызения совести, и мы весело шли с Митей, заглядывая в витрины магазинов, где сегодня все выглядело так же нарядно, как и проезжавшие извозчичьи лакированные пролетки, на круглых изгибах которых масляно блестело солнце.
Мне очень захотелось что-нибудь подарить Дуняше, например, розовую ленту, которую я увидела в окне магазина: она так красиво была переброшена с одного края витрины до другого и покоилась на белоснежных, пышно сложенных букетами кружевах. Но у меня не было денег, и я пожалела, что не взяла из дома замечательную картинку: собачка с лентой на шее везет корзиночку, полную цветов.
Я начинала уставать: столько окон, дверей, ворот было на улицах, и я боялась, что мы не туда идем. Наконец Митя остановился и показал рукой.
— Вот и Пресня! — сказал он, и я увидела улицу, на которую выходили большей частью деревянные домики вроде нашего флигеля, с маленькими палисадниками.
Окна первых этажей везде были со ставнями. Мы прошли мимо каменного двухэтажного дома, где в нижнем этаже помещалась пивная лавка, а рядом на железной вывеске был изображен блестяще-черный сапог и написано: «Чекалин — военный сапожник». Мне казалось, что нам долго еще идти, как вдруг Митя неожиданно повернул во двор и остановился перед маленьким флигельком, по стене которого высоко вились листья любимого маминого цветка — ипомеи.
— Здесь и живут Кондратьевы, — сказал он.
Так уютно и хорошо было в этом дворе, что я оглядела его, прежде чем войти. Чисто-чисто выметенный двор, две толстые, раскидистые липы росли между флигельком и большим оштукатуренным домом с крыльцом на улицу. Под липами был вкопан в землю столик на одной ноге и две скамеечки. На веревке, протянутой от липы к углу дома, ветерок развевал выстиранное детское бельишко.
— А вон там Никита Васильевич живет, — показал Митя на два окна дома, выходившие во двор. — Эту половину хозяин всю квартирантам сдает. И флигель тоже.
Поднявшись на крылечко флигеля, мы постучали, но никто не отозвался, и сердце у меня упало: мне как-то казалось, что раз нет дяди Степы, то и никого совсем нет. Но дверь была не заперта.
В маленькой кухоньке Дуняша подметала пол; она выпрямилась, отвела со лба густые растрепавшиеся волосы, закричала:
— Саша! Ой, Сашенька... — и заплакала так горько, таким недетским плачем, что и я заплакала за ней.
Так мы сидели, обнявшись, а Митя стоял и смотрел на нас. От стола пахло только что вымытыми добела досками, в чистые стекла светило солнце. Лучи его ложились на противоположную стену, и там светлые четырехугольнички были обведены радужными краями. В открытую дверь виднелась небольшая комната со столом посередине: здесь было гораздо лучше, чем в комнате у Кондратьевых, когда они жили на фабрике. Митя, любивший во всем ясность, прервал наше горестное молчание.
— Когда папку твоего взяли? — деловито спросил он.
— Три, а может, четыре дня... — ответила Дуняша.
— На фабрике или из дома?
— Из дома. Мы только спать легли. Катюшка от Никиты Васильевича прибежала, дверь оставила отпертой, мы и не посмотрели. Вдруг стучат, и сразу же слышу кто-то открыл дверь. Вошли околоточный и двое полицейских или жандармов, что ли. «Вставай», — говорят папке. Он встал, быстро накинул на себя пиджак, а полицейский подошел и ощупывает у него карманы. Мамка вскочила, испугалась, сразу не поймет, кто, откуда... А папка ей: «Засвети, Ксения, лампу и не беспокойся». Полицейские сбросили одеяло, матрац, вытащили из-под кровати папкин сундучок с книгами, все из него стали выбрасывать, каждую книжечку глядели. Один отложит — другой рукой махнет: дескать, не нужно.
— Ну и как? Что-нибудь нашли? — спросил Митюшка. Он присел на подоконник, и его рыжеватые волосы засветились на солнце.
— Не нашли ничего, — сказала Дуняша. — Папка спокойно так сидел с краю на кровати. Один полицейский ему сказал: «Ничего, доищемся», а папка ответил: «Ищите, ищите, я чего сам не положил, того никогда не ищу».
— А Ксения? — вырвалось у меня.
— Мамка тоже сидела на табуретке, все глядела за ними, куда лезут да что перебирают. Мы с Катюшкой заплакали, а папка сказал: «Что же это вы, дочки, вздумали? Плакать не о чем. Все будет ладно». — Дуняша вздохнула. — А потом они говорят папке: «Одевайся, пойдем». И увели. Мы всё плакали с Катюшкой, а мамка и говорит мне: «Ну-ка, дочка, лучше помоги мне все убрать да и ложись, спи. Отец наш — честный человек. Тем, что его так преследуют, не обижаться, а гордиться надо».
Дуняша рассказывала обо всем спокойно, только слезы иногда набегали, и она утирала глаза.
Прибежала с улицы Катюшка; она стала такой большой, что я ее сразу и не узнала.
— А ты как, Саша? Отпросилась ко мне? — посмотрела на меня Дуня.
Я отрицательно покачала головой.
— Как же так? Тогда тебе идти надо, — озабоченно сказала она. — Спасибо, Сашенька, что прибежала...
По правде сказать, меня тревожила мысль о доме, но и уходить не хотелось.
— А пойдем к Мелании Михайловне! — вдруг сказала Дуняша. — Не знаю, дома ли Никита Васильевич. Все равно им показаться надо. Это же обида: была в ихнем дворе и не зашла.
Мама бывала у дедушки Никиты Васильевича, но меня брала с собой редко. Я слышала, как мама говорила отцу: «Я взяла бы с собой Сашу к дедушке Никите, но боюсь, а вдруг у Мелании Михайловны чахотка!»
Дедушка Никита Васильевич строгал в кухне какую-то доску и очень обрадовался мне.
— Самая дорогая гостья пришла! — сказал он, гладя меня по голове.
Против ожидания, он почти совсем не обеспокоился, что я ушла из дому без спроса.
— Ничего, Сашенька! Беда, конечно, есть в том, что не сказалась. Но уж раз сделано, тужить нечего, а надо поправлять. Погостишь полчасика, да я вас с Митей еще и на конке прокачу! Пойдем-ка, голубка, к бабке Малаше.
Мы вошли в небольшую переднюю, где стоял сундук, застеленный сшитой из пестрых лоскутов покрышкой. Лоскуты в ней были искусно вырезаны и так подобраны, что получался красивый узор звездами. Открыв маленькую дверь, дедушка пропустил меня вперед, и я увидела Меланию Михайловну, сидевшую на кровати в подушках. Уже несколько лет она с трудом вставала с постели: у нее болели ноги, одна она не могла выходить из дому. Она совсем не казалась старой; темные ее волосы были разобраны на прямой пробор. Отложив в сторону какое-то вязанье, она ласково обернулась ко мне.
— Вот кто к нам пришел, Малаша, — сказал дедушка. — Узнаёшь?
— Узнать-то трудно, давно не видались, а догадаться можно! — весело ответила моя бабушка.
И тут я заметила морщины на ее лице. Все-таки она была мало похожа на бабушку: помню, меня удивил ее веселый, звучный голос.
— Все, все знаю: как вы жаворонков ходите слушать, как тебя дедушка на грибной рынок водит, как морских жителей тебе покупает...
Я хорошо помнила грибной рынок. Он бывал зимой около Устьинского моста, на льду Москвы-реки, и на память о нем я берегла деревянные, искусно выточенные грибки. Между рядами построенных на льду маленьких деревянных лавочек, где продавались всевозможные соленые и маринованные грибы, так же как на Трубной площади, ходили продавцы со связками сушеных грибов и разными деревянными поделками. Все эти деревянные грибки, коробочки, кадушечки, веселки, гладко обточенные, как шелковые под рукой, очень любила моя мать, и мы с дедушкой Никитой Васильевичем всегда приносили ей подарок с грибного рынка.
— Была бы я здоровая, и я бы с вами везде ходила, — продолжала бабушка. — В молодости-то я ведь какая резвая была, вся в тебя!.. — Она повернулась к дедушке. — Угости-ка ее яблочком.
— Угощать, пожалуй, ее не стоит, — сказал дедушка, — она самовольно к Дуняше прибежала.
Бабушка хотела сделать строгое лицо, сдвинула брови, но тут же неудержимая улыбка тронула ее губы.
— Беда, беда! — покачала она головой. — Слушаться ведь старших-то надо, на то ты еще девочка маленькая. Вот вырастешь большая, тогда по своей воле живи... С кем же ты прибежала?
— А с Митей.
— Ну, с Митей, — серьезно, но со смешинкой в глазах сказала бабушка, — так это еще ладно. Где же он?
— Он у Дуняши сидит.
— Тебе можно было бы с тетей Варей прийти. Она бы тебя и привела. И мама бы отпустила. Ну, да уж ладно: давай грех пополам!
Рассказать, как в комнате Мелании Михайловны собрались Митя, Дуняша, Катюшка, как мы ели яблоки и играли в старые, растрепанные карты с бабушкой в «пьяницы» к в «носы», весело смеясь над проигравшим, — значит заглянуть в безмятежный и добрый час детства. Наконец дедушка Никита Васильевич скомандовал собираться, и, расцеловавшись с Дуняшей и вовсе позабыв спросить ее, как же они с матерью теперь живут, мы пошли к конке.
Дома меня встретила мама. Трудно сказать, какого приема я ожидала: не думала же я, что меня ударят или поставят в угол, — но все-таки было страшно.
— Где ты была? — спросила мама строго.
— Ходила к Дуняше на Пресню. — Я побоялась сказать, что ходила с Митей: на обратном пути он только дошел с нами до ворот фабрики и отправился домой.
— Ну, так и иди туда, откуда пришла. Раз ты у меня не спрашиваешься, ты мне и не нужна.
Но мама-то была мне нужна! Я громко заревела, и в это время вошел дедушка Никита Васильевич.
— Ты уж прости ее, Грунечка, она больше не будет, — миролюбиво сказал он.
— Не люблю потатчиков! — отрезала мама. — Раз она не слушается, пусть и отвечает за это. Хорошо, что Данила догадался, куда они с Митей пошли, и сказал мне.
И вдруг мне стало так горько, так обидно.
— А Клавдичка бы мне ничего не сказала! — крикнула я. — Она бы меня не ругала за то, что я пошла.
— Почему ты знаешь? И Клавдичка бы ругала, — уже не так уверенно сказала мама.
— Нет, я знаю, что не ругала бы: дядю Степу в тюрьму посадили...
Мама повернулась ко мне:
— Откуда это тебе известно?
— Я слышала, как тетя Варя тебе рассказывала.
— А тебе нечего было слушать! Детям не обо всем надо знать.
И тут я вспомнила, что главное-то — спросить у Дуняши, как они теперь живут, — вылетело у меня из головы.
— А почему мне не надо знать, что у Дуняши горе? — сердясь на себя, упрямо сказала я.
— Ну, ответьте ей, Никита Васильевич, я не могу! — махнула рукой мама и отвернулась к окну.
Тут вошел отец.
— Что у вас случилось? — спросил он.
Мама стала рассказывать, жалуясь на меня, что я ушла не спросившись, и явно желая, чтобы отец тоже счел меня виноватой.
— А как я могла спроситься, — громко закричала я, — если ты с тетей Варей ушла?
Мама молча опустила руки, как будто показывая этим жестом, что ей не по силам справляться со мной.
— Ты сердишься, я все понимаю, — сказала я. — Но раз мы с Дуняшей подруги, мне надо было к ней пойти. Что ж бы я ее издали жалела, и всё?
Отец молча взглянул на маму.
— Да ведь что, Грунечка, — дедушка Никита Васильевич сгреб рукой большую свою бороду, — нет греха в том, что Сашенька побежала подружку утешить. А что не спросилась — прости уж ее за это.
И тут мама, которая так решительно назвала дедушку потатчиком и только что жаловалась отцу, вдруг сказала:
— Ну вот что, Саша: только для дедушки Никиты Васильевича я тебя прощаю. Благодари дедушку.
Я кинулась к дедушке, запуталась в его бороде и чмокнула куда-то в щеку; потом подошла к маме, не зная, что делать. Она сама нагнулась и поцеловала меня в наклоненную голову, а я крепко обняла ее за шею и почему-то снова заплакала.
Когда потом я с легким сердцем уселась около отца, он обернулся ко мне:
— Надо всегда подойти и сказать мне с мамой, что ты хочешь сделать. Если это хорошее — тебя никто не остановит.
Проводы Баумана
Со времени описываемых мной событий прошло много лет, и поэтому теперь мне кажется, что они происходили очень близко одно за другим; на самом же деле события эти разделялись неделями и даже месяцами друг от друга.
Стояла поздняя осень, холодная, тревожная... На лицах Ксении, когда она к нам приходит, и Машиной мамы теперь всегда видно беспокойство, и разговаривают они о том, что наступает трудное время.
Но однажды я не узнала Ксении: ее похудевшее, усталое лицо сияло радостью, она показалась мне молодой и красивой — такое ясное выражение счастья было в ее глазах.
— Степа мой пришел, — сказала она, застенчиво улыбаясь, — выпустили.
— Вот какая радость! — ответила мама. — Когда же?
— На той неделе... Ху-до-ой!
— Ну, теперь, Ксения, пусть он немного отдохнет дома.
Ксения удивленно взглянула на маму и рассмеялась, махнув рукой.
— Да разве его удержишь дома! — воскликнула она. — Нипочем не удержишь. Сколько людей в нем нуждаются: то один за ним придет, то другой... Ничего, мы и поскучаем, лишь бы живой, здоровый был. Время-то ведь какое! Слыхали? Казанка и Ярославская забастовали первые, а за ними — Рязано-Уральская, Курская, все дороги стали...
Время действительно было особенное. Ксения рассказывала маме, что на Морозовской и Прохоровской ткацких фабриках — везде рабочие бастуют: знают, что царское правительство только пообещает улучшить их жизнь, но на деле все останется как было.
А через несколько дней и наши рабочие на фабрике снова забастовали. Они шли сплошной толпой по фабричному двору, слышались голоса: «Долой царя! Да здравствует революция!»
Вернулся отец и сказал матери:
— Наши бросили работу.
На фабрике остановилась вся работа, и во дворе как будто опустело... По всей Москве происходило что-то большое, не очень мне понятное: течение обыкновенной жизни нарушилось.
Стоял октябрь месяц.
Дядя Петр вошел в переднюю, отряхнул пальто, покрытое мелкими дождевыми капельками, и остановился на пороге в комнату, держа шапку в руках.
Отец писал, сидя за столом. Он обернулся:
— Что же ты, Петр? Входи, чай горячий.
Дядя Петр стоял молча.
— Ты не заболел ли? — спросил отец, вставая и всматриваясь ему в лицо. — Или устал?
— Бауман... убит, — тихо ответил дядя Петр.
— Что ты! Как же это так случилось? Где?
— Сегодня. Недалеко от Технического училища.
Подошла мама, взяла шапку из его рук, повесила на отдушник только что вытопленной печки. Дядя Петр снял пальто, бросил его на спинку стула, подошел и сел к столу, потирая красные, озябшие руки. Отец сидел перед ним, не спрашивая ни о чем, и все-таки казалось, что он спрашивает.
— Так все нелепо произошло, — сказал дядя Петр, глядя на отца. — Такой революционер погиб!.. В Техническом училище, где помещается Московский комитет большевиков, был митинг. Потом огромная масса народа вместе с Бауманом двинулась к Таганской тюрьме освобождать заключенных. Предательское нападение из-за угла... Черносотенец ударил Баумана чем-то железным по голове. И — насмерть.
Он долго молчал. Так и сидели они все трое за столом и молчали. Потом дядя Петр сказал:
— Необыкновенно честный был человек...
—Ты его знал? Видел? — спросила мама.
— А как же? Знал и видел.
Я сидела у печки на маленькой скамеечке и, вероятно чувствуя необычность появления дяди Петра, не решалась, как всегда весело, подойти к нему, а только смотрела. Удивительно, какое худое лицо у дяди Петра, щеки у него впалые, влажные от дождя, желтоватые усы опускаются вниз на губы... Он повернулся и посмотрел на меня.
— Вот, девочка, какие дела, — сказал он. — А ты что так смотришь?
Я встала и подошла к нему.
— У взрослых, брат ты мой, бывают трудные дела. Не только в сказках отправляются люди за живой водой, и сколько всего трудного происходит с ними в пути... — Он встал и, подойдя к печке, прислонился всей спиной, стараясь согреться. — Когда-нибудь мы с тобой об этом потолкуем, а сейчас иди-ка ты спать.
Но хотя дядя Петр говорил как будто спокойно, голос и лицо его не могли обмануть даже восьмилетнюю девочку, какой я была тогда. Убили человека, который называется — революционер. Дядя Петр жалеет его. И отец жалеет этого человека. Опять случилось что-то в той, неизвестной мне жизни, которая текла за стенами нашего дома, но властно входила внутрь него и привлекала к себе все мысли его обитателей...
На другой день утром я провожала отца до конторы.
Рабочие сегодня не торопились заходить в двери фабрики. Они приостанавливались во дворе, как будто ожидая чего-то. Так бывало в дни получек и в тот памятный день, когда все рабочие нашей фабрики бросили работу и вышли на улицу. Но сегодня они ничего не требовали от фабричных хозяев, даже и не смотрели в сторону конторы.
В строгом порядке, без толкотни, они стали выходить на улицу, и никто из конторы не останавливал их. За воротами над головами идущих впереди ткачей вдруг взметнулось красное знамя. Небольшое, оно развернулось на ветру и двинулось вперед.
Вместе с рабочими пошел мой отец и многие из конторских служащих. Перед этим дядя Петр, ночевавший у нас, спросил у мамы:
— Ты пойдешь с нами?
— Я? Я пошла бы... — нерешительно сказала мама. — Но... я даже и не знаю, кто такой был Бауман. Что я значу во всем этом?
— Ты так думаешь? Неверно. Каждый человек много значит.
Больше он ничего не сказал и быстро вышел.
И вот наступила какая-то особенная тишина. В нашем доме тихо, и за окнами не слышно говора и шагов, может быть, потому, что окна уже вставлены и замазаны на зиму. Но когда я выхожу на крыльцо в драповом пальтишке и в галошах и свежий воздух поздней осени охватывает меня, я с недоумением замечаю, что широкий фабричный двор тоже совершенно опустел и затих.
Даже Данила-дворник не ходит с метлой, присматриваясь, откуда ему удобнее приступить к делу, а просто стоит у ворот. Вокруг меня так тихо, что мне как будто чего-то недостает. С легким шелестом пролетает ворона, плавно опускается на ровную широкую поверхность двора, подскакивает, глядя на меня черным глазком. Никого нет во дворе, никого!
И вдруг я замечаю, что тишина, наступившая во дворе, идет от фабричного корпуса: нынче во дворе не слышно привычного шума фабрики, который всегда доносится в открытую дверь и только в праздник смолкает. Но сегодня не праздник, а вот фабрика не работает.
Накинув на плечи большой платок, мама выходит на крыльцо. Она стоит, прислушиваясь и глядя перед собой. Потом говорит мне:
— Саша! Ты хочешь пойти со мной на улицу?
— Хочу, хочу! — Мне кажется, что и мне самой хотелось сейчас именно на улицу.
— Ну, так одевайся потеплее и пойдем. Надень платок под пальтишко.
Мы выходим из ворот, и улица с редкими прохожими сегодня как будто стелется перед нами, мягко увлекая нас идти по ней куда-то вперед. И мы идем. Проходим один переулок, другой — и вот перед нами широкая улица. Это Большая Серпуховка; в одну сторону — налево — она ведет к московским окраинам, куда мы не раз ходили гулять с дедушкой Никитой Васильевичем, а в другую — к самому красивому месту Москвы, на Красную площадь и на Театральную, где стоит Большой театр.
Улицы сегодня не такие, как всегда. Обычно на улицах люди спешат по своим делам в разные стороны. Но переулки, по которым мы сначала шли с мамой, были странно пустыми. На Серпуховке же много людей шли в одну сторону — направо.
Мы с мамой повернули туда же, и скоро Пятницкая улица открылась перед нами. И сразу с Серпуховской площади на нее стали выходить ряды рабочих, но людей здесь было гораздо больше, чем утром вышло с нашего двора. Прохожие останавливаются, словно ожидая чего-то. Они стоят на тротуарах и смотрят, как по мостовой движется колонна рабочих; впереди два человека несут большой венок, над головами людей кое-где поднимаются красные флаги с черной полосой внизу.
Мамины шаги становятся медленнее, нерешительнее...
— Саша, — говорит она, — вот мы и погуляли с тобой. Не пора ли нам возвращаться?
— Пойдем подальше! — прошу я, и мама, как будто она только и ждала, чтобы я ее попросила, сразу уступает.
— Ну, так и быть, еще немножко! — говорит она.
Впереди нас люди идут группами, то быстро, то останавливаясь и снова уходя вперед. Большинство прохожих — женщины, мужчины, подростки — переходят на мостовую и стараются не отставать от колонны; все идут в одну сторону, к центру. Туда же пошли и мы с мамой.
Среди идущих, очень разно одетых людей многие были в такой же одежде и шапках, какие носят наши рабочие. Но были и люди, одетые в пальто и шапки, как мой отец и дядя Петр; были и очень хорошо одетые люди — в меховых шапках и шляпах, с нераскрытыми зонтами в руках — день был сырой и холодный. Шел даже священник в черной рясе и шляпе с поднятыми с боков полями.
И вдруг на углу одного переулка все приостанавливаются, оттуда на Пятницкую вливается новая колонна людей. Они идут стройно, подняв над головами красные знамена с траурной полосой, неся венки, обвитые крепом, и чем ближе они подходят, тем сильнее нарастает необыкновенная, торжественная песня. Сотни голосов поднимаются над толпой, от песни мне становится горячо на сердце, хочется идти вперед не останавливаясь, сделать что-нибудь хорошее, самое хорошее на свете...
Но мама решительно останавливается.
— Дальше мы не пойдем! — говорит она.
— Почему?
— Там везде очень много народу, как бы тебя не затолкали, — отвечает мама, как будто она страшится идти вместе с таким множеством людей.
— Ну, тогда постоим тут немножко! — упрашиваю я.
И мы стоим. Долго стоим, пока не проходит из переулка мимо нас вся длинная колонна. Я провожаю ее глазами: люди уходят все дальше и дальше, вот уже не отличишь их друг от друга... На некоторое время около нас становится совсем просторно.
Мама то оглядывается, то всматривается вперед. Похоже, что она потеряла кого-то.
— Мама, — спрашиваю я, — ты кого ищешь?
— Неужели все прошли? — говорит она с тревогой. — И мы с тобой отстали?
Значит, ей хочется идти вперед! Ее пугает сейчас то, что мы стоим одни, ей хочется к тем людям.
— Если мы быстро пойдем, мы догоним их, — говорю я.
Мама о чем-то думает, потом крепко берет меня за руку:
— Да, дочка, давай догоним их, не будем отставать больше! Хорошо?
Я с радостью срываюсь с места и шагаю впереди мамы по гладкому влажному асфальту тротуара. Мне приятно, что мы не отстаем от идущих людей, мне нравится и быстрота нашего движения вперед. Я спешу так, что мама тянет меня назад.
— Тише, — останавливает она, — я не могу так скоро.
Действительно, она запыхалась, щеки ее покраснели, глаза под мягкими ее широкими бровями, в которых волоски лежат так гладко, блестят оживлением. Мне мама ужасно нравится такой.
Мы чуть-чуть замедляем шаги, и я уже беспокоюсь: нет, не догнать нам ушедших вперед людей с красивыми венками и с яркими красными флагами... Но тут же мы слышим за собой знакомый мотив. Я разбираю слова: «...в царство свободы доро-огу...» — и, оглядываясь, вижу снова такую же плотную массу людей, и кажется — она заполняет всю улицу. Впереди, нагнув голову, две женщины в черных платках несут большой венок, и встречный ветер отвевает в сторону красные с черным ленты. Они идут скорее, чем мы, обгоняют нас. Я жадно смотрю кругом, но связать все это вместе не могу.
— Мама, — спрашиваю я, — куда идут все люди?
— Все люди? — Мама как-то нерешительно, стесняясь, отвечает: — Сегодня хоронят одного... хорошего человека. Вот люди и хотят проводить его, показать, что они знают, какой он был...
Неизвестно как, но об этом я уже догадывалась сама.
— Это того человека, какого убили?
Мама взглянула вопросительно:
— Ну, раз ты поняла... да, которого убили.
— А кто его убил?
— Злой человек.
Но в это время идущий рядом с нами усатый худощавый человек в холодном пальто неодобрительно взглянул на нас с мамой.
— Хороших людей много бывает, — строго сказал он маме. — Однако за гробом их не пойдут тысячи рабочих... — Он повернулся ко мне и посмотрел на меня вниз со своего большого роста. — Нынче провожают Баумана, Николая Эрнестовича, вот кого. Запомни, девочка! Его знали и уважали, потому что он жил не для себя только, как многие живут, а боролся за хорошую жизнь для всех рабочих, для всего народа. И не злой человек его убил, — взглянул он на маму, — как вы дочке сказали, а... предатель! — Он поднял палец вверх и пояснил: — Предатели — отбросы человечества.
Мне хочется спрашивать еще, но перед нами показался мост через Канаву у Балчуга. Мы шли уже в густом потоке людей, и мама беспокойно оглядывалась. Она боялась, чтобы нас не задавили, но как только делалось тесно, кто-нибудь отодвигался, и становилось просторнее.
— Сам народ соблюдает порядок, — сказал наш спутник. — Посмотрите, ни одного городового не видно.
— Ну, теперь уже некуда возвращаться, — сказала мама, — будь что будет!
И я поняла, что маму не переставало что-то тревожить.
Так мы шли и шли вперед.
С Москворецкого моста мы увидели, что по набережным по обеим сторонам Москвы-реки тоже движутся рабочие колонны. Сзади нас снова слышится торжественный хор голосов. Мы приостанавливаемся и, оглянувшись, видим, как, заполняя всю улицу, течет стройная масса людей и голоса их соединяются в мощную, все заполняющую песню:
Вы жертвою пали в борьбе роковой...
— Это что они поют?
— Ты слушай, мы потом поговорим.
По руке мамы, взявшей снова мою руку, я угадываю душевное волнение. Может быть, она снова колеблется: идти или не идти? Но она идет, и звуки обнимают нас со всех сторон и ведут вперед.
Чем ближе мы подходили к середине Красной площади, тем меньше мне было видно: вокруг меня были люди, гораздо более высокие, чем я, и они загораживали то, что хотелось видеть. И я и мама устали и остановились около Торговых рядов. Здесь мы могли только слышать голоса людей да видеть осеннее серое небо и облака, которые неслись куда-то над нами, беспокойно перемещаясь и низко нависая над тысячами медленно идущих вперед людей.
Донесся чистый звук какой-то трубы, другой, третий... Люди стали говорить, что процессия показалась, они становились на цыпочки, стараясь увидеть. В это время впереди как будто стало свободнее, и все устремились туда. На какую-то минуту перед нами открылось пространство. И стало видно, как среди тысяч голов медленно двигается траурная процессия и поднятый на плечах гроб, накрытый красным знаменем.
Декабрьское восстание
Осенью 1905 года вся Россия была охвачена событиями, страшными для царского правительства. Начавшись с сентябрьской забастовки печатников в Москве, революционное движение нарастало с каждым днем. К печатникам присоединились булочники, трамвайщики, железнодорожники, рабочие машиностроительных заводов, ткацких фабрик — стачка охватила сотни тысяч рабочих крупных городов самых различных профессий. Это была уже всеобщая политическая забастовка. Большевики звали рабочий класс к решительным боям против царя, готовили вооруженное восстание. Этой же осенью крестьяне поднялись против помещиков и жгли барские усадьбы.
Остановились поезда на железных дорогах страны, перестали работать железнодорожные мастерские, прекратилась работа почты и телеграфа. Октябрьская политическая забастовка стала всероссийской. Рабочие руки перестали работать, и жизнь огромной страны, движимая ими, замерла. Ленин писал: «Страна замерла перед бурей».
И буря грянула в декабре, когда рабочий класс перешел в открытое наступление и вступил в бой с полицией и царскими войсками. В Москве и во многих крупных городах создавались Советы рабочих депутатов, которые руководили борьбой рабочих.
Главной крепостью восстания в Москве была Пресня; боевыми дружинниками здесь руководили большевики. И Пресня первая покрылась баррикадами...
Лег первый снег, и на ровной его поверхности не видно, как в прошлые зимы, ярких пятен вылитой краски, брошенных шпулек, частых следов людей. Одни мастера иногда проходят на фабрику, и лишь изредка приезжает в контору хозяин.
Эта зима чем-то не похожа на прежние, хотя и наступили такие же морозные зимние дни. Главное, что во дворе давно уже не слышно шума работающей фабрики. По целым дням не видно никого из девочек. Мою «учительницу», Марию Степановну, ее мама отдала в школу, где девочек учили кройке и шитью. Девочки целый день проводили в мастерской школы: наметывали, подшивали, гладили — приучались работать; кроме этого, их учили грамоте и счету. Маня жила там и приходила домой только на воскресенье. Я смотрела на нее, как на взрослую. Как же: черноглазая моя «учительница» будет настоящей портнихой!
Дуняша тоже не приходит с Пресни. Мама говорит, что конка не ходит, а пешком по морозу идти далеко — простудится.
Данила, как всегда неторопливо, прибирается около ворот и конторы. Когда я в морозный день выхожу погулять, он поглядывает на меня и говорит:
— Отдувайся, а то щеки замерзнут! Грей их изнутри теплым воздухом, — и сам смешно надувает свои щеки, чтобы показать мне, как это надо делать. — Нынче одна гуляешь?
— Одна. Почему-то никого из наших ребят не видно.
— Холодно! — отвечает Данила. — Это из теплой комнаты хорошо на мороз, а как дома печка не топлена, тогда как?
Печка у нас топлена, но и у нас многого нет: мама теперь зажигает маленькую лампочку и переносит ее из комнаты в кухню или зажигает там свечку, лампадку, потому что керосин покупать трудно. И говорит, чтобы, умываясь, мы не лили зря воду: воду теперь носят издалека.
Отец сейчас целые дни проводит дома, но на скрипке он играет редко. И в оркестр играть он больше не ходит. Его не приглашают, потому что концертные залы и театры Москвы закрыты. Иногда, взяв скрипку в руки, он рассматривает ее, подвинчивает колки и, немного поиграв, кладет обратно в футляр. Зато он занимается со мной: учит меня писать цифры, складывать и вычитать. Приходит и дядя Петр.
— Почему рабочие не стали работать? — спрашиваю я дядю Петра.
— Этим, девочка, — отвечает он, — рабочие показывают, что сила — не хозяева, а они. Видишь, они прекратили работу — и фабрика остановилась. Рабочие хотят добиться лучшей жизни, а тогда и работать по-другому.
Добиваться им, видно, нелегко. Во дворе я встречаю людей с серыми, изнуренными лицами; с каждым днем лица становятся истощеннее. Но когда люди разговаривают между собой, в голосах их нет уныния.
Зимним вечером на фабричном дворе ветер метет снег, забивает стекло фонаря у ворот, и свет его тускло ложится на заметенное снегом крыльцо конторы. Мне кажется, эти холодные зимние ветры появляются целой компанией: один из них шумит и воет в трубе, другой свистит по земле и несет поземку. Так они перекликаются между собой.
Мама боязливо подходит к окну и слушает.
— Ты что слушаешь? — спрашиваю я.
— Ветер очень сильный, — отвечает мама.
Я давно слышу какой-то неравномерный далекий гул. Иногда это похоже на гром, но грома зимой не бывает. Днем со двора гул был слышен сильнее, сейчас он доносится глухо. Лицо у матери тревожное, глаза блестят, она волнуется. Я понимаю, что она не хочет пугать меня. Но я и сама знаю, что это и есть «стреляют».
Отец стоит у открытой форточки, прислушиваясь к далеким залпам.
— Это у вокзалов, наверно... — говорит он. — А вот это в стороне Сухаревки. Пресню от нас меньше слышно.
Когда к нам заходит дядя Петр, мама спрашивает его:
— Ты знаешь, Петя, что там делается?
— Царские войска стреляют по рабочим, — отвечает он, — вот что там делается. Около Ваганьковского кладбища поставили пушки: бьют всю ночь... Дружинники — боевые дружины рабочих — отстаивают баррикады и, конечно, тоже стреляют: идет бой.
Выходит, что царь и его войска опять стреляют по рабочим! Значит, царь такой жестокий враг рабочих... В моей голове зарождается какая-то неясная еще мысль о справедливости того, что рабочие выступают против царя.
— Дядя Петр, а что такое баррикады?
Дядя Петр начинает объяснять: чтобы обороняться от царских войск, рабочие всюду строят укрепления — снимают с петель ворота, разбирают заборы, выносят из домов ящики, бочки, мебель, набивают мешки песком и все это вытаскивают на улицу и перегораживают ее. Это и называется «баррикада»...
— Ну, об этом ей не надо рассказывать, — остановила его мама.
— А почему? Надо говорить обо всем, чтобы человек понимал жизнь. Сколько раз спорю с вами — и все без толку! — Дядя Петр говорит досадливо, даже со злом. — Вы ее учите слушаться старших, говорить правду, быть честным человеком, то есть таким, который не ворует, не лжет, не обманывает. Главную же черту честного человека — иметь убеждения и бороться за них — вы упускаете. А без этого все наши высокие добродетели ничего не стоят.
Иногда дядя не приходил подолгу, и по каким-то неуловимым признакам, может быть по следам усталости на его лице, я узнавала, что там, на Пресне, у рабочих положение трудное.
— Неужели подавят? — спросил его однажды отец.
— Вероятно... — ответил он и рассказал, что рабочие борются геройски, но накануне боя жандармы арестовали Московский комитет большевиков. Рабочим приходится обороняться, а это всегда хуже, чем наступать. Правительство же все подтягивает войска из Петербурга в Москву. Большое упущение, что Николаевская дорога осталась в руках правительства...
Однажды вечером красно засветилось небо, со двора было видно зарево.
— Пресня горит, — сказал Данила.
Пресня! И Дуняша, и дедушка Никита Васильевич, и Катюшка, и Ксения — все там, на Пресне!.. Я побежала к маме, плача, и долго не могла успокоиться.
Мне страшно за них всех. И темные декабрьские ночи, полные опасности для любимых мною людей, навсегда врезываются мне в память.
В окошко стучат, и мама идет открывать дверь. Входит дядя Петр, заметенный снегом, иззябший. Он снимает пальто и стряхивает с воротника и усов намерзшие ледышки.
— Саня в конторе? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, говорит: — Я только что оттуда!
«Оттуда» — это значит, что дядя Петр был на Пресне, там, где стреляют и где живут дедушка и Кондратьевы. Я подбегаю к нему и спрашиваю про Дуняшу и дедушку Никиту Васильевича. Оказывается, дядя Петр видел их, они «живы-здоровы».
— Отца у нас в полицию вызвали, — отвечает ему мама. — Боюсь...
— Бояться не надо. Нет особого основания за него бояться.
— Казаки утром проскакали, потом драгуны... — говорит мама. — Сколько войска прислали!
— Ну, у вас тут еще тихо.
— А там?
— Там — большие бои. И большие жертвы, Кондратьев ранен, и, кажется, сильно. Руководил боевой дружиной.
— Ой!.. — Мама с волнением поднимает руку к лицу. Глаза ее широко открыты и наполняются слезами.
— Его сюда привезут, — говорит дядя Петр. — Там спрятать трудно: обнаружат — расстреляют на месте.
— Куда же — сюда? — нерешительно спрашивает мама.
— Ну... куда-нибудь, — отвечает дядя Петр.
Он садится к теплой печке, берет со стола налитый матерью стакан чаю и, обхватив его обеими руками, долго не выпускает.
И вдруг ясное понимание глубокой серьезности происходящего, как лучом, освещает мои детские мысли. Значит, вся эта стрельба по рабочим, которая, казалось мне, происходит где-то далеко от нас, «будто на картинке», — настоящая, опасная для жизни стрельба! Она идет совсем недалеко от нас и направлена против близких нам людей. Какой же смелый дядя Степа, он все время там и ничего не боится!
— Стойко держатся! — горячо говорит дядя Петр. — Сотни баррикад, не преувеличиваю.... Вся Пресня покрыта баррикадами. И представьте себе: драгуны, привезенные из Петербурга, часто не выдерживают против наших дружинников.
— Страшно! — говорит мама и вздрагивает: в окно снова стучат.
Из коридора она возвращается вместе с отцом, вопросительно заглядывая в его лицо.
— Пустяки, только предупредили, — говорит он, здороваясь с дядей Петром.
И сразу же возникает движение на улице: кто-то подъехал к нашему дому. Не раздеваясь, отец проходит в кухоньку и откидывает крючок. Дверь распахивается, белый холодный воздух течет по полу. За дверью видны темные фигуры. Два человека входят в кухню. Навстречу им из комнаты, худой, высокий, выходит дядя Петр.
— Куда нести? — спрашивают его вошедшие.
Дядя Петр переводит глаза на мою мать. Она стоит у притолоки, бледная, и какое-то колебание чувствуется в ней. Вдруг лицо ее краснеет до слез.
— Сюда! — говорит она, указывая на дверь.
Осторожно, заходя спиной вперед, большой, широкий человек в полушубке пятится, таща что-то тяжелое; другой, обхватив чьи-то ноги, помогает ему, и вместе они вносят бледного, неподвижного человека.
— Дальше, дальше несите, в спальню... — шепчет мать.
Я вижу землисто-серое, знакомое лицо Кондратьева с закрытыми глазами, широкие брови и руку. Рука поднимается, нащупывает что-то на груди — значит, человек жив...
Ночью меня разбудил гулкий стук в ворота. По двору к рабочим общежитиям с зажженными фонарями пробежали полицейские. Они искали скрывшегося дружинника. К нам они не зашли.
Трудное время
Сколько времени пробыл у нас Кондратьев, я не помню. Дверь в спальню, где он лежал, была закрыта, и только отец осторожно входил туда. На вопросы мамы отец сначала отвечал: «Все так же», а потом сказал, что Кондратьев «пришел в себя» и ему лучше, но все-таки трогать его с места без доктора опасно.
Мне было удивительно, что ни Ксения, ни Дуняша не навещают больного дядю Степана. Лежал бы мой отец так хоть бы на другом конце города, думала я, все равно я убежала бы к нему!
Однажды утром я проснулась со счастливым чувством ясной и полной радости. Еще в полусне я поднималась куда-то высоко-высоко; казалось, еще немного — и я все увижу сверху, потому что я лечу надо всем, хотя тут же почувствовала подушку под головой и окончательно проснулась. Но что-то особенно счастливое оставалось: отец играл на скрипке так, как я давно не слышала.
Я оделась и быстро подошла к двери в спальню, где был сейчас отец. Мне хотелось приоткрыть дверь, но, пока отец играл, я боялась ему помешать: мне было жаль прерывать его. И потом, я не знала, можно ли мне войти, не побеспокою ли я дядю Степу. Я словно видела, как, протянув смычком высокий, чистый звук, отец отвел руку, и сейчас же послышался шелест: он перевернул страницу нотной тетради. И снова заиграл.
То, что отец играл при Кондратьеве, не удивило меня; я помнила, как дядя Степа любил слушать его игру на скрипке. Я отошла от двери и уселась против печки, около которой были положены крупные березовые дрова; от них пахло свежим, влажным деревом. Белая береста, покрытая, как рисунком, зеленым красивым лишайником, местами завертывалась трубочкой. Было очень интересно отдирать ее и рассматривать. Я этим и занялась.
Вдруг в дверь кухни сильно застучали, игра на скрипке сразу оборвалась. Отец вышел из спальни, прикрыв за собой дверь, но уже навстречу ему из кухни быстро входил какой-то важный полицейский; его бледное одутловатое лицо выражало самоуверенность и недовольство. За ним почти вбежал юркий человек с черной бородкой. Мама, сдерживая волнение, остановилась сзади них на пороге.
— Что вам угодно? — спросил отец.
— Нам? — переспросил полицейский, подходя к столу и прямо глядя на отца, в то время как чернобородый обводил взглядом комнату. — Видите ли, у полиции есть сведения, что бывший рабочий фабрики Никитина, по фамилии Кондратьев, выступавший в рядах бунтовщиков во время беспорядков на Пресне, будучи ранен двадцатого декабря, был привезен сюда, на фабрику, и тут спрятан.
Полицейский говорил внушительно, раздельно произнося слова густым, негромким голосом; при этом он не отрывал глаз от нахмуренного лба моего отца, точно стараясь прочитать что-то в его лице.
— Что вам известно по этому поводу?
Я даже вздрогнула, так повысил он голос при этих словах.
— По этому поводу мне совершенно ничего не известно, — спокойно ответил отец.
— Ну, как же так — не известно? — Полицейский развел ладони в стороны, показывая как бы крайнюю степень удивления. — Вы должны бы знать, что Кондратьев скрывается именно здесь! В то время, когда он работал на этой фабрике, вы, по нашим сведениям, весьма хорошо к нему относились.
— Да, он был прекрасный ткач и считался у нас человеком с большими способностями.
— Нам его способности тоже давно известны, — усмехнулся полицейский. — Не туда только они направлены.
— Я думаю, разговор наш ни к чему не приведет! — сказал отец с явной неприязнью. — Я ничем не могу быть вам полезен.
Чернобородый в это время продолжал осматривать комнату, глаза его так и перебегали с одного предмета на другой. Услышав слова отца, он быстро повернулся к нему с вопросом:
— И даже если мы сами укажем вам, где скрывается Кондратьев? — Он подскочил к двери в спальню: — А тут у вас кто живет? — и быстро открыл дверь.
— Ай! — крикнула я и рванулась с места: мне представилось, что эти люди сейчас схватят Кондратьева. С плачем я кинулась к маме. Она притянула меня к себе.
— Как вы смеете врываться в чужой дом? — крикнула она гневно.
— Груня, не мешай! — остановил ее отец. — Лучше уведи Сашу: видишь — она испугалась.
И тут произошло такое удивительное, чего я даже не поняла сразу. Вслед за чернобородым в спальню вбежал полицейский, но отец не пошел за ними, он продолжал стоять у стола. И сразу же за дверью двинули стулом, послышались ругательства, что-то упало. Мне представилось, что они тащат дядю Степу к двери, толкают... Я крепко уцепилась за мамину руку. Дверь распахнулась сильным толчком...
Полицейский в сопровождении чернобородого быстро прошел мимо нас обратно в кухню. Я слышала, как они говорили что-то отцу, шедшему вслед за ними, но все это не доходило до моего сознания. Хлопнула наружная дверь. Они ушли.
Вместе с мамой мы вошли в спальню: Кондратьева в ней не было. На столе стоял раскрытый футляр и рядом лежала скрипка. На пюпитре были развернуты ноты. Опрокинутый стул валялся у двери.
— Опоздали! — сказал отец. Только теперь стало видно, как сильно он возбужден. — Как удачно все вышло! Вовремя товарищи перевезли Степана Саввича... Понимаешь, девочка, зачем приходили эти люди?
Он говорил это так, будто я все знаю про Кондратьева, и, слыша его по-особенному обращенные ко мне слова, ничего, в сущности, не зная, кто и когда перевез Кондратьева, я действительно поняла в этот день многое такое, что не сумела бы объяснить словами.
Вот сейчас отец, которому я всегда верила, при мне сказал неправду этим чужим людям, хотя учил меня всегда быть правдивой. Но эта неправда была совсем другая, чем обычная ложь человека, желающего выгородить себя.
В это время на тихой улице послышался топот: как будто мчалось множество коней. Отец подошел к окну, но стекла его сплошь замерзли. Он хотел открыть форточку — и остановился: какие-то гулкие звуки хлестнули вдоль улицы.
— Что это? — спросила мама с тревогой. — Около нас стреляют! Что же это делается?..
И опять, как это не раз бывало, по тону и настроению взрослых я безошибочно угадала, что для рабочих все оборачивается плохо и что дяде Степе именно теперь было бы опасно оставаться у нас.
Когда на улице затихло, отец вышел на крыльцо. Я выскочила за ним.
— Кто это проскакал? — спросил он дворника.
— Казаков пригнали! — ответил Данила. — Дело-то, видать, идет к концу.
— Не стой раздетая, иди домой! — приказал отец.
Уже из комнаты я услышала снова такой же топот по улице и выстрелы.
...Большая и трудная борьба рабочих на этот раз терпела поражение: вооруженные восстания в Москве и во многих городах — повсюду жестоко подавлялись царским правительством. На Пресне догорали здания, зажженные царской артиллерией. Полиция разбирала и жгла баррикады, жандармы ходили по домам с обысками, бросали в тюрьмы сотни рабочих, расстреливали руководителей боев... Но волна революции опустилась лишь на время, с тем чтобы породить новую, более мощную волну — так в то время писали большевики в листовках для рабочих.
И вот снова на фабричном дворе собираются рабочие, снова приезжает хозяин и проходит в контору. Туда одного за другим вызывают ткачей, красильщиков, слесарей — фабрика начинает работать.
Из конторы выходит управляющий и, заложив руки за спину и насмешливо покачиваясь, говорит:
— Ну что, надоело прогулы устраивать? Бастовать, видно, хватит? — Указывая на стоящих во дворе ткачей, он спрашивает у мастера: — Что-то вон тот мне знаком... Не из коноводов ли? — и, не дожидаясь ответа, возвращается в контору.
Ткачи неторопливо идут к дверям фабричного корпуса, прислушиваясь к голосу в конторе.
— Ругается! — говорит кто-то уверенно. — Ишь кричит: «Молчать!» Придет время, мы не так еще тебе крикнем!
И скрываются в дверях ткацкой.
У дедушки на Пресне
Давно затихла стрельба на Пресне, все лавки открылись, и в комнатах снова зажигают большую лампу. Но ни в доме, ни во дворе нет веселья: все молчаливы и неспокойны.
Однажды вечером управляющий вызвал отца в контору. Отец вернулся необычно задумчивый, и у них с мамой был долгий разговор.
Потом отец потрепал меня по плечу и спросил веселым голосом:
— Ну, а ты, глазастый, хотела бы поехать в другой город?
— Хотела бы, — ответила я. — Мы съездим и вернемся обратно.
Поехать куда-нибудь мне очень хочется, но как же я расстанусь со всеми? Вот я месяц не видела Дуняшу и соскучилась.
Мама все собирается пойти на Пресню навестить дедушку Никиту Васильевича: дядя Петр говорил, что надо кому-нибудь туда пойти. Но мама собирается уже давно и все откладывает.
Наконец однажды после обеда она ставит в корзиночку банку с вареньем, велит мне одеться потеплее и завязать голову платком.
В этот раз мы почему-то очень долго добирались до Пресни, хотя часть пути проехали на конке. Я все время говорила маме, что с Митей мы ходили по другой, хорошей улице, а теперь мы зашли в незнакомое место.
— Мы идем правильно, не приставай! — коротко ответила мама, и что-то в выражении ее лица остановило мои расспросы.
Я стала внимательно смотреть кругом.
Не удивительно, что палисадники, летом весело и живо обрамлявшие дома, мимо которых мы тогда проходили с Митей, были пусты: сейчас была зима, и в палисадниках лежали целые подушки снега. Во многих местах заборы были поломаны, ворота сорваны, и даже столбы их кто-то спилил, как, впрочем, и все почти телеграфные столбы вдоль улицы.
Во многих домах были разбиты стекла. Какая-то страшная сила обрушила кое-где стены и обнажила внутри оклеенные пестренькими обоями комнаты с кафельными печами, теперь совершенно негодные для жилья. Вершины у многих деревьев были обломаны, у других были расщеплены стволы, и они лишь потому казались целыми, что их плотно залепил снег.
Чем дальше мы шли, тем тусклее и безотраднее становилась улица. Мы подошли к черным бревенчатым остовам больших, двухэтажных домов: их как будто лизал огонь, так они были обуглены. Но дома почему-то не сгорели дотла и стояли страшным памятником происходивших здесь боев. И только тумбы по краям тротуара, чуть склонясь каменным туловищем, стояли друг за другом, словно очерчивая границу, где бушевало пламя. Дальше вместо домов были видны черные плешины на снегу. Наконец мы увидели угловой двухэтажный дом с выбитыми окнами. Он что-то напоминал мне, но что именно, я не могла вспомнить.
— Где же их дом? — спросила мама, останавливаясь перед двориком без ограды и ворот.
В глубине двора виднелись остатки разобранного сарая. Два дерева с поломанными ветвями стояли около уцелевшего дома с облупившейся кое-где штукатуркой.
Из дома неожиданно вышла Варя, дочь дедушки Никиты Васильевича.
— Что же вы стоите? — закричала она. — Не узнали место? Да и не удивительно: такой был дворик чудесный. Ну, не беда: руки есть — поправим!.. Тятя, встречайте гостей.
В доме внутри все было по-старому, разве стало немного теснее. Все так же лежала Мелания Михайловна, все так же дедушка «заложил» в нос свой табачок и чихнул. Но мне показалось, что дедушка бодрится — он очень постарел за это время.
— Я вам, дядя Никита, варенья принесла. — Мама достала из корзиночки и поставила на стол банку малинового варенья. — Знаю — вы любите. И Саня велел спросить, не надо ли вам чем помочь.
— Ну, у меня руки крепкие, — сказала тетя Варя, — я и еще двух таких, как мои старики, прокормлю!
— Руки — руками, — вздохнул дедушка, — а на завод обратно не берут. Видно, ты показала себя.
— А как же иначе, — сказала тетя Варя. — И я не хуже людей.
И, задорно блестя глазами, стала рассказывать, как около них, за углом, где была пивная лавка, строили баррикаду и она не раз дежурила вместе с защитниками, а когда убили одного их товарища, стреляла из его винтовки по солдатам.
— Что же мне не стрелять? — сказала она. — Мы таких женщин-героев повидали, которые ничего не боятся. В тот день, когда началась всеобщая забастовка, мы с нашими заводскими шли от Трехгорного вала с демонстрацией. Стали подходить к Зоологическому саду, а навстречу — казаки с шашками! И тут две работницы «Трехгорной мануфактуры» бросились вперед с красным знаменем перед казаками и крикнули: «Не стреляйте, мы ваши матери!» — и остановили казаков. А ведь им бы тут скорая смерть, и всё. Вот каких мы женщин повидали!.. А как вспомнишь Степана Саввича, вот кого я уважаю! То есть такой человек светлый, душевный... — прибавила тетя Варя.
Уже наступали сумерки. Со двора неожиданно для меня вбежала Катюшка, сильно выросшая, похудевшая, и бросилась ко мне.
— А где Дуняша? — обрадовалась я.
— Наверно, дома, где ж ей быть? — сказала бабушка.
Дома? Но во дворе я не заметила флигелька, в котором жили Кондратьевы.
— Во флигеле? — спросила я.
— Нет, флигель сгорел в самую стрельбу. Хозяева со страха перебрались к дочери в Сокольники — там тихо было, — а Ксении велели их добро караулить. Вот они и живут здесь, на половине хозяев.
— Мама, можно, я к Дуняше пойду?
И лишь только мама кивнула головой, я схватила шубейку и выскочила во двор. Обежав вокруг дома, я заметила в крайнем окне свет и постучала. Ксения в белой кофточке, которая была ей к лицу, открыла мне дверь. За ней я увидела бледное лицо моей подружки.
— Дуняша, — сказала я, когда мы, держась за руки, уже сидели рядом в большом хозяйском кресле, — я думала, что вы с Ксенией уехали куда-нибудь.
Дуня быстро взглянула на меня и покраснела.
— Нет, мы никуда не уезжали, — ответила она. — Нам никак нельзя было уезжать.
Значит, и Ксения и Дуняша были в Москве, когда дядя Степан лежал у нас! Почему же они все-таки не приходили?
Я уже совсем хотела спросить, как вдруг с величайшей ясностью поняла, что им нельзя было приходить: жандармы, знавшие, где живут Кондратьевы, наверно, следили за Ксенией, как Тишкин, который «продает». И хотя Ксения и Дуняша только и думали о дяде Степане, все же они не могли идти к нему, хотя он был так близко от них. Как же легко было бы им, близким людям, побежать к нему и как трудно было удержаться и не пойти!
Горячо забилось сердце любовью к милым мне Дуняше и Ксении...
— А вот куда отвезли дядю Степу от нас, я не знаю... — задумавшись, нечаянно сказала я.
И тут Ксения, которая все время что-то шила, сидя у стола под большой висячей лампой, встала и подошла к нам.
— Тебе, Сашенька, об этом говорить нигде не надо! — тихонько сказала она, как бы проникая мне в сердце доверчивым и ясным взглядом. — Ведь Степан Саввич — политический, за ним жандармы во все глаза смотрят, ищут его. Скажешь где-нибудь так-то, не подумавши, глядишь — папане твоему беды не избыть.
И снова я хотела сказать, что к нам уже приходили, искали Кондратьева, но, подумав, я сообразила, что, если Ксения узнает, что Степана Саввича искали у нас, она будет беспокоиться о моих отце и матери, укрывавших его. И я ничего не сказала.
Но — удивительное дело! — оказалось, что не обязательно надо говорить словами. Ксения поняла меня и без слов.
— Я уж и так об папане твоем думаю, не было бы неприятностей ему, — сказала она. — А если бы Степана Саввича тогда не спрятать надежно, была бы ему верная смерть... Ну, девочки, посидите, я схожу на ту половину.
Но мы побежали вместе с Ксенией. Мама уже собиралась домой, и я стала просить ее оставить меня ночевать у Дуняши. Ведь оставалась же Дуняша у нас, когда приходила к нам.
— Вот что, — сказал дедушка Никита Васильевич, — пускай она, Грунечка, ночует у нас: поиграет с Дуней — и к нам придет.
— А как она домой попадет?
— Я сам ее завтра приведу. Ну, девочки, бегите играйте — мама позволила!
Какой замечательный был этот вечер! Сначала мы все втроем — я, Дуняша и Катюшка — играли с дедушкой в лото. Потом побежали на улицу. Но фонари по всей улице были разбиты, было темно и жутко, и только далеко виднелись редкие, тусклые огоньки.
— Вон там, за углом, была баррикада, — сказала Дуняша. — Ужас как стреляли! Когда из ружей — не очень страшно, а вот как стали из пушек бить по баррикаде, я уж так испугалась...
— И дядя Степа тут был?
— Нет, он на Пресненской был, на самой большой... Мамка к нему раз туда побежала, спрашивает: «Чего вам надо?» А папка сказал: «Победы нам надо, и мы ее добудем!» А потом его ранили...
Мы говорили шепотом, как будто на темной улице с неясными очертаниями обгоревших зданий и редкими огоньками кто-то мог нас подслушать. Казалось, что за углом дома притаился враг и вот-вот выскочит на нас и страшно крикнет... Мы вбежали в дом. Ксения все так же сидела за столом, склонив светловолосую голову, и шила.
В большой квартире было много огромных сундуков, шкафов, каких-то ящиков, и мы стали играть в прятки. Вдруг в самый разгар игры в дверь тихо и как-то особенно постучали три раза. Ксения вскочила, прижала руки к груди и замерла.
Стук повторился. Она кинулась к двери, открыла... На пороге стоял Кондратьев.
— Ой, Степа!.. — сказала она, не бросаясь к нему, а, наоборот, отступая. — Да как же ты? Ведь мало ли что...
Она говорила, боясь за него, а бледное лицо ее розовело и молодело от радости.
— Не бойся, мне дадут знать, если что... Я не один. — Кондратьев обнял ее за плечи и прижал к себе, потом наклонился и обхватил сразу Дуняшу с Катюшкой левой рукой: правая была подвязана на косынке. — А, и Саша здесь? — Он улыбнулся мне. Потом сел к столу, посадив Катюшку на колени, и осмотрелся. — Ну, все, видать, живы-здоровы, — с облегчением сказал он. — Пока в этой хоромине неплохо, да ведь хозяева скоро вернутся. Тогда, Ксения, пойдешь... я тебе адрес скажу, запомни.
— Чего ж ты, Степа, о нас думаешь в такое время? Ты о себе думай. Мы как-нибудь проживем.
— Время нынче хоть и трудное, — серьезно сказал дядя Степан, — но именно теперь и надо думать обо всех и обо всем. Ведь надо не просто прожить, а так, чтобы дело делать. Вешать голову нам незачем. Царь думает, что он задавил революцию, ан нет! Мы снова соберем свои силы. В чем ошиблись, то поправим. Будем готовиться к новой борьбе.
— А здоровье, Степа?
— Здоровье мое крепкое...
Тут только я увидела, как сильно впали щеки у дяди Степана и как он тяжело опирается на стол.
— Папка... — Дуняша, все время стоявшая около Кондратьева, не отрывая глаз от его лица, провела рукой по его плечу. — У тебя все еще болит?
— Ну что ты, дочка! Все уже прошло.
— А рука?
— Рукой, правда, еще плохо владею. Но ничего, заживет! Беда не велика... Вот что, ребятки, мне надо матери кое-что сказать...
Мы вышли в кухню, но неожиданный приход дяди Степана взволновал нас, никому не хотелось говорить. Дуняша прижала руки к разгоревшимся щекам, глаза ее так и светились. Наверное, она думала, что пусть ненадолго пришел отец и скоро уйдет, но хоть посмотрела на него: жив-здоров, какая радость!
В дверь снова постучали три раза.
Дуняша открыла, и черноглазый парень лет шестнадцати вошел в кухню.
— Мне надо Степана Саввича, — сказал он.
Кондратьев вышел из комнаты. Он держал шапку в левой руке, Ксения застегивала на нем ватную куртку.
— Пора, товарищ Кондратьев! Конный патруль остановился у Горбатого моста, и полиция появилась.
— Ну, пора так пора! — Кондратьев обнял всех своих, поцеловался с Ксенией, сказал мне: — Кланяйся отцу и мамане.
Потом отворил дверь и, шагнув через порог, еще раз обернулся. На темном фоне сеней выделялась его высокая, освещенная лампой из комнаты фигура, худое лицо с шапкой черных волос над большим лбом и умные, смелые глаза, в которых сейчас не было памятного мне мучительно-настойчивого выражения: они смотрели с твердой и веселой уверенностью.
Так же уверенно он сказал:
— Ну, до радостной встречи всем нам!
Мне было ясно в эту минуту, что они непременно встретятся, и так захотелось быть с ними при этой встрече...
Мы долго сидели в кухне, к чему-то прислушиваясь. На улице все было тихо. Ксения сначала возбужденно повертывала голову на самый легкий стук, но постепенно успокоилась. Лицо ее снова побледнело, только на губах оставалась еще легкая, мимолетная улыбка.
— Ну, девочки, пора спать, — сказала она. — А я еще посижу.
И долго сидела у стола, наверно вспоминая каждое слово дяди Степана.
Утром Ксения вышла проводить нас с дедушкой и все показывала, как было во время боев, откуда стреляла артиллерия, откуда подходили солдаты, как падали убитые на баррикаде. Видно было, что впечатления тех боевых дней врезались ей в память.
— Ой, Сашенька, — вдруг воскликнула Дуняша, — я же совсем забыла... Погоди! — и взбежала на крылечко.
Через минуту она вышла и протянула мне красивую голубую ленточку с вытканными по ней цветочками, самую лучшую свою ленточку.
— Это тебе на память, — сказала она.
Когда я уходила с дедушкой Никитой Васильевичем по опустевшему переулку и оглянулась на дом, где оставались милые мне люди, что-то стеснилось у меня в груди так, что мне стало больно. «Вдруг мы уедем из Москвы, — подумала я, — и долго не увидимся с Дуняшей? С кем же я буду играть так хорошо?» Но рядом с мелькнувшим горестным чувством расставанья с моей подружкой я уносила в памяти что-то очень хорошее: как будто в короткой встрече Кондратьева с семьей я угадала то крепкое и верное, что в ней было. Теперь я знала, какие все они мужественные и смелые люди.
Этот день открыл мне и еще новое из того, что случается в жизни. Кажется, уж полагается, если расстаешься с людьми, побыть с ними подольше на прощанье, но, значит, бывает и так, что ничего такого не происходит. То, что в жизни даже у взрослых людей не все случается так, как задумано и как хочешь, помню, тогда очень не понравилось мне.
Мы тихо шли по Пресне, каждый думая о своем, и оттого, что какие-то свои мысли появились в моей голове, я чувствовала, что за этот день как будто подросла.
В школу!
Отца продолжали подозревать в том, что он скрывал у себя в квартире раненого Кондратьева. К этому присоединилось то, что он ходил вместе с рабочими на похороны Баумана и участвовал в демонстрации рабочих. Зимой его уволили с фабрики.
Отцу надо было искать место, но в Москве сразу после увольнения это было трудно. Я слышала, как управляющий сказал про него: «Неблагонадежный!» Это слово относилось к моему отцу и как бы отрицало все то благое и надежное, что было в нем и так сильно чувствовалось людьми.
Мы переехали из Москвы в Воронеж, и я опоздала поступить в приготовительный класс.
Чтобы не пропускать год, меня стали готовить к экзамену в первый класс. Еще в Москве, зимой, мама учила меня писать. А за два месяца до экзаменов, уже весной, со мной стала заниматься учительница, Александра Дормидонтовна.
Александра Дормидонтовна жила в нашем дворе, в маленьком флигеле. Я видела, как она проверяет тетрадки, сидя у своего окна. Русые волосы у нее зачесаны гладко назад, как у мамы, а взгляд спокойный и печальный. На черном платье всегда пришиты белые воротничок и нарукавнички.
Когда она пришла к нам в первый раз, мама сказала:
— Вы с ней построже. Если будет баловаться, скажите мне.
— Нет, зачем же! Мы сами справимся, — ответила учительница и, когда мама ушла, сказала: — Прочитай мне любимые твои стихи.
Я стала читать: «По синим волнам океана...»
Она дослушала до конца.
— Я их тоже люблю. Только спешишь, спешишь... Прочти еще раз.
И стала останавливать меня на каждой фразе и объяснять, почему я читаю неверно. От этого мне стало сразу скучно. За окном видны были зеленеющие ветки деревьев. Я попробовала покачаться на стуле.
— Не качайся на стуле, — остановила меня Александра Дормидонтовна, — не будь рассеянной! Возьми тетрадку, мы напишем диктант. — И стала диктовать: — «Люблю грозу в начале мая...» Написала?
Слово «гроза» она произнесла так, что было непонятно, какая буква — «о» или «а» — стоит в середине. Но я помнила, как это слово пишется в книгах.
Так Александра Дормидонтовна продиктовала мне четыре фразы. Потом взяла у меня тетрадку и стала читать, медленно произнося слова.
— Почему ты написала «гроза» через «о», а не через «а»?
— Так красивее, — ответила я.
— Написала ты правильно, но правильно писать надо не потому, что это кажется тебе красивым. Вот ты написала «в начале» двумя словами. Как ты думаешь, почему?
— Не знаю, — ответила я. Думать мне не хотелось: все равно ведь я и без раздумья напишу правильно!
— А ты видела, читая книжки, что иногда «вначале» пишется вместе, одним словом?
— Видела.
— Так вот, ты написала правильно просто потому, что видела и запомнила. Теперь я знаю, что память у тебя есть. Но нельзя надеяться только на память, а надо знать, почему слова пишутся именно так.
Когда вошла мама, учительница сказала:
— Замечательная зрительная память, пишет совсем без ошибок. Но нет привычки думать. Рассеивается, смотрит по сторонам. И грамматики не знает.
Когда Александра Дормидонтовна ушла, мама спросила:
— Ну, как вы занимались?
— Немножко скучно было, — сказала я.
После урока я пошла гулять во двор. Мальчики и девочки играли в лапту и позвали меня. Сынишка дворника, Вася, спросил:
— Ну, много ты там научила?
— Я пишу, как большая, без ошибок, — важно сказала я. — У меня замечательная зрительная память. Сама учительница сказала.
— А еще чего она сказала?
Но о том, что еще сказала учительница, я умолчала.
Вася засмеялся и закричал так, чтобы Александра Дормидонтовна услышала в своей комнате через открытое окно:
— Она всему уже выучилась. Она больше учительницы знает!
И все ребята засмеялись. Я обиделась на них, ушла домой.
В следующий раз я спросила Александру Дормидонтовну:
— А зачем надо учить грамматику?
— Чтобы писать правильно.
— Я и так пишу правильно.
— Ты думаешь, что грамматика тебе не нужна? Ты и так все знаешь?
Я кивнула головой.
— Ну нет! — ответила она. — Твое знание еще самое-самое маленькое знание. Грамматику надо знать, чтобы быть грамотным человеком. И главное — надо думать над каждым словом, почему оно пишется так, а не по-другому. Тогда не ошибешься.
— Я и так не ошибусь!
— Посмотрим! — улыбнулась учительница.
Но я и на самом деле ошибалась редко. В то время, когда я училась, у нас в азбуке, кроме буквы «е», была еще буква «ять». Они произносились одинаково — «е», но одни слова писались через «е», а другие — через «ять». Запомнить это было не так просто. Мне помогала в этом хорошая память. Когда я читала сама, я легко запоминала, как пишется каждое слово. Если книгу кто-нибудь читал вслух, мне надо было несколько раз услышать, чтобы запомнить рассказ или стихотворение. Но, увидев стихи своими глазами, прочитав их раз или два, я запоминала их наизусть, и всегда потом помнила, как они расположены на странице, помнила самую форму строк и картинку, если она была нарисована. Когда мне случалось делать ошибку, я говорила Александре Дормидонтовне:
— Я знаю, как писать, только на минутку забыла. Ошибка вышла нечаянно.
— Ты не думаешь, — отвечала она, — ты рассеянная. Ты хочешь поскорей убежать играть.
— Но правда же, я нечаянно...
— Ошибок никто не делает нарочно. Все ошибки делаются нечаянно. Думай, когда пишешь. А ты разойдешься — и летишь без оглядки, не думая. — Она говорила серьезно, но глаза ее смеялись.
До экзамена оставался месяц. Каждый вечер мама спрашивала, выучила ли я заданные мне уроки. Она боялась: вдруг я не выдержу экзамены в первый класс и надо будет учиться лишний год. Тогда еще в школу за ученье надо было платить, а отец мой только недавно поступил в магазин конторщиком и зарабатывал немного.
Но я уже полюбила наши занятия с Александрой Дормидонтовной и старалась учиться. Я так спешила на уроки, что приходила раньше времени. После уроков я бежала во двор и рассказывала девочкам:
— Меня сегодня Александра Дормидонтовна похвалила! Не веришь — спроси у мамы. Вот сколько я выучила! — и читала наизусть «Песнь о вещем Олеге».
Наконец меня повели в прогимназию держать экзамен в первый класс. На дорогу Александра Дормидонтовна сказала мне: «Не будь рассеянной. Думай».
В большом белом зале висела в углу тяжелая икона в золоченой ризе. Паркетный пол блестел квадратиками. Из зала в коридор мимо портрета царя навстречу мне шла прямая женщина в синем платье с высоким воротником.
Я пробежала мимо нее и поскользнулась на блестяще натертом полу. Быстрым и жестким движением она схватила меня за руку.
— Девочка, — сказала она строго, — ты не дома и не на улице! — Она смотрела холодно и недружелюбно.
Сердце у меня сжалось. «Неужели она будет учить нас?» — подумала я со страхом. Мне вспомнилась строгая и добрая Александра Дормидонтовна. Да, видно, в школе не все будет радостно и легко.
Держать экзамены в школу собралось много девочек такого же возраста, как и я. Все они были чистенькие, с аккуратными косичками, и я потрогала свою короткую, крепко заплетенную мамой косу и посмотрела на тщательно вымытые руки.
Первый экзамен по русскому устному языку я выдержала отлично. Даже с грамматикой обошлось хорошо. Рассказала, в каких словах пишется «ять», прочитала стихи Пушкина «У лукоморья дуб зеленый...».
Потом нас посадили в большом зале за парты. Перед нами положили листочки линованной в косую полоску бумаги. Учитель вышел к столу перед партами и начал диктовать сухим, скрипучим голосом:
— «Липа — прекрасное дерево нашей средней полосы... Ли-па пре-крас-ное де-ре-во»... Написали?
Слова были такие легкие, они так хорошо писались на бумаге, словно сами собой. Как говорила Александра Дормидонтовна, я «разошлась» и не думала, как и что пишу.
Учитель диктовал дальше:
— «Из ли-пы де-ла-ют-ся раз-ные кра-си-вые по-дел-ки»... Написали?
Когда диктант кончился, у нас отобрали тетрадки и отпустили домой. Девочки боялись, что наделали ошибок, и наперебой спрашивали друг друга:
— Как ты написала «делаются» — через «е» или через «ять»?
Слова «делаются» писали в то время так: «дѣлаются». Я шла, подпрыгивая, домой, потому что ни в одном таком слове я не написала «е» вместо «ять».
Во дворе меня встретила Александра Дормидонтовна.
— Ну как? — спросила она.
— Все написала верно! — ответила я весело. — И «ять» везде верно поставила и мягкий знак... А по устному я читала рассказ Толстого «Булька». А наизусть говорила...
— Погоди, погоди, — остановила меня учительница, — скажи мне диктант по словам.
— «Ли-па пре-крас-ное де-ре-во...» — начала я. — «Прекрасное» написала через «е»...
— Почему?
— Так! — Я спешила уверить Александру Дормидонтовну, что не сделала никакой ошибки.
— «Из липы делаются разные красивые подделки...» «Делаются» писала через «ять», «подделки»...
— Постой-ка, ты говоришь «подделки»?
Я кивнула.
— Но ведь совсем не «подделки», а «поделки». Ничего из липы не подделывают, а поделок из нее действительно много. Не надо было писать два «д». Вот ты и сделала ошибку.
Соседние девочки и мальчики стояли вокруг и слушали.
— Эх, ты, а еще хвасталась! — крикнул Вася и передразнил: — «Замечательная память»!
— Ну, память памятью, а думать надо было. Сама виновата! — сказала учительница.
В первый класс меня все-таки приняли. Когда я прибежала домой с радостной вестью, мама повела меня к Александре Дормидонтовне. В комнате у нее было много цветов и книг.
— Большое вам спасибо за дочку, — сказала мама.
— Ну что вы! — улыбнулась учительница. — А все- таки ошибку она сделала.
— Только одну ведь, — сказала я.
— И одной ошибкой можно испортить весь диктант, — ответила Александра Дормидонтовна. — Иногда одна ошибка меняет всю жизнь. Но это тебе еще не страшно. Беги играй!
Сюрприз
Однажды, после того как я выдержала экзамены в первый класс, мама сказала мне, что скоро мы поедем в одно очень хорошее место. А куда — сюрприз!
— Мы поедем к Клавдичке? — закричала я.
— Почему непременно к Клавдичке? — сказала мама. — Может быть, совсем и не к ней.
Мне очень хотелось сесть в поезд, долго-долго ехать куда-нибудь и смотреть в окно. Поэтому я очень обрадовалась поездке. Когда мы в конце зимы переезжали из Москвы в большой город Воронеж, мы сели в поезд вечером и ехали всю ночь, так что в окна ничего нельзя было рассмотреть. А утром я увидела голые ветви деревьев и мокрые крыши какой-то станции, а за ней — холодные, нежилые поля, поля и застывшие на морозце грязные колеи куда-то ведущих дорог. Потом разогнавшийся было поезд стал убавлять ход, он шел все тише, тише, совсем тихо... И вот стена большого вокзала надвинулась и загородила поля и дороги и серое, покрытое неровными облаками небо. Мимо окон вагона побежали и громко заговорили какие-то незнакомые люди. Дали звонок — наш поезд прибыл.
«Куда он прибыл? Какой это город?» — думала я тогда. Что в нем хорошего для меня, раз в нем не будет ни Дуняши с Катюшей, ни Кондратьева с дядей Петром, ни дедушки Никиты Васильевича, ни «учительницы» Марии Степановны, ни многих из любимых мною людей? С площадки вагона я смотрела, как носильщик в белом фартуке, похожий и фартуком, и бородой, и внимательным взглядом на Данилу-дворника, поднимает и взваливает на плечо чей-то тяжелый чемодан, хватает рукой большую корзинку и, быстро шагая, несет вещи к широкой двери, над которой написано слово «Воронеж». Мне стало жалко себя и всех, кого я больше не увижу, и, помню, у меня слезы навернулись на глаза.
Когда мы, пройдя через вокзал, вышли на небольшую площадь чужого мне города и я угрюмо смотрела на круглый садик, около которого стояли извозчичьи пролетки, мама сказала мне: «Не думай, что тут нет никого из родных людей, тут близко живет Клавдичка...»
И как же встрепенулось сердце, как сразу все осветилось кругом, и мокрые булыжники мостовой так весело заблестели в косом и бледном солнечном луче! «Близко» — значит, мы увидимся с Клавдичкой!
Но мы долго с ней не виделись, так долго, что я перестала мечтать о том, когда она приедет к нам. Сначала нам надо было найти квартиру, где жить, потом отец устраивался на работу, потом подошло время мне готовиться к экзаменам в школу. Я стала заниматься с Александрой Дормидонтовной и уже меньше думала о том, когда же приедет Клавдичка.
И вот теперь, когда мы едем в «одно очень хорошее место», я думаю, что мы все-таки едем к Клавдичке и с нами там случится что-то очень хорошее...
Удивительное чувство испытываешь, стоя у окна вагона. В открытое окно легонько задувает ветерок, обвевая горячие щеки, а перед глазами все время поворачивается земля и показывается мне со всех сторон. Вот мы проехали мимо красного кирпичного здания станции, и высокая водокачка, как говорит мама, начала обходить вокруг этого здания: она двигается очень ясно в правую сторону, описывает четверть круга и вдруг скрывается за зеленым бугром.
Все вокруг меня движется, стучат под вагоном колеса, из окна я вижу, как отбегает назад пыльная дорога; лошадь, запряженная в телегу, долго бежит в одну сторону рядом с поездом, но она все-таки вместе с телегой отстает, отстает и уходит назад... На черных полосах земли там и тут видны люди: вот крестьянин шагает за плугом, держась за него обеими руками, и кажется, что это не лошадь тащит за собой плуг, а человек двигает перед собой взблескивающую белым светом сталь, лошадь же просто идет себе да идет. Вот бегут два мальчика и за ними торопится кудлатая собака. Не успеваешь вглядеться, а уже открывается новая картина: к поезду выбегает роща, насквозь светлая, прозрачная, и тонкая березка на ветру вся стремится навстречу нам, и каждый листочек ее — блестяще-новый, словно только что родился.
Земля все развертывается и развертывается... Невозможно отвести глаз от зеленых откосов, по которым высыпали яркие, свежие цветы, от маленьких серебряных речек, от переездов, где стоит, ожидая, пока мы проедем, сторож с зеленым свернутым флажком.
Он держит флажок перед собой, как свечку в церкви, а сам смотрит на пробегающие вагоны, и мне кажется, этот дядя с прямыми седыми усами, наверно, замечает, что мы с мамой сидим у окна вагона и едем. Как же иначе? Это же все устроено так замечательно для того, чтобы перевезти нас на какую-то неизвестную мне станцию Анну, о которой мама говорит с ласковым блеском глаз; когда она спокойно отвечает мне на мои вопросы: «Приедешь — увидишь!» — губы ее складываются в улыбку. Мне так радостно смотреть в окошко и ждать «станцию Анну». И хотя в поезде едет много разных людей, я все-таки уверена, что сторож именно для нас держит свой зеленый флажок.
Мне кажется, что всем очень хорошо и приятно жить здесь, работать на этих широких полях, гулять в светлых рощах, под светло-голубым весенним небом. Хочется остаться в любом месте из тех, мимо которых мы проезжаем; можно жить в этой железнодорожной будке, ходить гулять в маленький лесок за ней, играть с девочкой, которая стоит, держась за юбку своей матери, и машет мне рукой. Но будка остается позади, впереди — станция. Мама начинает собирать вещи, и я помогаю маме.
Поезд наш убавляет ход, но впереди я не вижу никакого вокзала. С левой стороны пути среди полей виднеется два ряда хат, крытых соломой, ребятишки бегут по улице, как будто собираются догнать поезд. И в самом деле, паровоз наш, словно поджидая их, начинает сбавлять ход, он дает свисток, вагоны двигаются медленно и останавливаются.
Голубоглазая девочка в сборчатой, длинной, как у взрослых, юбке подбегает к вагону; волосы ее неровно острижены, и на голове видны болячки.
— Дай хлебца! — протягивает она ко мне руку.
Я взглядываю на маму, и она кладет в грязную ручку девочки копейку. Но почему эта девочка в таком прекрасном месте — и просит милостыню?
Перед нами узенькая лента перрона небольшой станции; на здании вокзала я читаю крупную надпись «Анна».
Мы с мамой выходим на площадку вагона и останавливаемся на верхней ступеньке. Станция кажется пустынной; наверно, только с приходом поезда здесь появились приехавшие пассажиры. Перед станционным зданием, там, где висит колокол, стоит человек в красной фуражке — начальник станции.
Поодаль от него высокий человек, глядя куда-то над моей головой, снимает кепку; у него темная небольшая бородка, из-под темных бровей смотрят ласковые голубые глаза.
В это время кто-то берет мою руку, я поворачиваю голову и немного внизу перед собой вижу милое лицо Клавдички! Клавдичка загорела, волосы ее блестят на солнце из-под легкого газового шарфика. Я совсем забываю, что мама стоит на площадке со всеми вещами, кричу восторженно, прыгаю со ступеньки вагона к Клавдичке и повисаю на ее шее; я не пускаю ее ни вперед, ни назад. Мимо нас проходит тот высокий человек с темной бородкой. Он поднимается на ступеньки и берет из рук мамы небольшую нашу корзинку, чемодан и чайник с привязанной к нему крышечкой и целуется с мамой. Когда он спрыгивает на платформу, крышечка звонит по чайнику, он смеется, говорит Клавдичке: «Покажи-ка мне Сашу!» — и, поставив чемодан на землю, серьезно протягивает мне большую свою руку. Это, конечно, и есть дядя Ваня!
— Федот! — кричит он белобрысому парню лет двадцати. — Возьми-ка вещи.
Федот с готовностью хватает вещи у него из рук и несет их за станцию.
И вот мы сидим в плетеной тележке на пышно положенном в нее сене: Клавдичка рядом с мамой, я — напротив, а дядя Ваня садится на козлы и берет вожжи. Федот, устроив чемодан сзади и привязав его веревкой, вспрыгивает к нему, лошади трогаются, и первое в жизни неизъяснимо чудесное ощущение движения колес по мягкой земле охватывает меня радостью.
— Как у вас хорошо! — говорю я.
В деревне
Самым замечательным в этой новой жизни было просыпаться ранним утром, быстро одеваться и совсем одной выходить за ворота нашего обнесенного плетнем двора. Как ни удивительно, а солнце уже успело подняться довольно высоко и стоит над ветвями высокого дуба. Вся трава на выгоне, куда я выхожу, необыкновенно свежа и ярко зелена. Воздух чист. Вчера еще пыльная, дорога лежит спокойная, приветливая и мягко подается под моими босыми ногами.
Рядом с дорогой тянется заросшая травой канава; на южном ее склоне поспевает земляника. И стоит лишь перепрыгнуть туда, как очарование ясного летнего утра овладевает мной во всей полноте, и я, сорвав несколько ягод, сажусь около куста шиповника, усеянного бледно-розовыми душистыми цветами. По розовому лепестку ползет узенький бронзовый жучок; надо мной гудит шмель, спускается все ниже, цепляется за лиловатый цветок мышиного горошка и, раскачиваясь вместе с цветком, вдруг с громким жужжаньем опрокидывается и всей тяжестью повисает вниз спинкой. Теперь я могу рассмотреть его цепкие лапки, его мохнатое тельце, вижу, как он старается залезть головой в цветок. До чего же все превосходно здесь, у Клавдички и дяди Вани! Как все интересно!
Я подбегаю к крылечку, где мы обычно пьем чай, и вижу легкую фигуру Клавдички. Она стоит на ступеньках, ожидая меня, и говорит, что вот опять я опоздала.
— Дядя Ваня уже ушел?
— Нет еще, — отвечает Клавдичка.
Ну, тогда всё ничего! Мне всегда делается скучно, когда дядя Ваня уходит без меня. Мы с ним подружились с первых дней, когда я побежала провожать его до больницы. Идти надо было по опушке леса, и дядя Ваня показывал мне и учил различать шероховатые, красиво вырезанные листья березы, просвечивающие на солнце листья кленов, гладкую коричневую кору молодой липы и бородавчатые стволики бересклета.
— Леля, наверно, все это знает! — воскликнула я в полном восхищении от того, какой интересный мир открывается передо мной. Конечно, дядя Ваня всему научил свою дочку.
— Леля? — спросил он вдруг, остановился и повернулся ко мне с заметным удивлением: — Ах, да! Ты, правда, могла видеть Лелю...
— Мы с ней подружились, — ответила я.
— Вот как? И она понравилась тебе?
— Очень! Она такая веселая и так хорошо играет на рояле! Ее все любят.
— И она понемножку забывает тех, кто ее любит? Верно? — серьезно сказал дядя Ваня, и я поняла, что он говорит о себе.
— Ах, нет, совсем нет! — Чтобы было убедительнее, я схватила обеими руками большую руку дяди Вани. — Леля рассказывала мне, как хорошо ей жилось в деревне...
— Там, где она живет сейчас, ей все же лучше, чем в деревне, — усмехнулся дядя Ваня. — И ей там нравится.
— А она сказала: «Все равно мне не хочется тут жить, я хочу к своему папе. Я потому здесь живу, что папа хотел, чтобы я училась». И заплакала, и все повторяла: «Папочка мой, папочка!»
Как удивительно может меняться лицо человека! Глаза у дяди Вани стали такие добрые, ясные. Он сжал мою голову ладонями и посмотрел на меня.
— Ты меня обрадовала, Саша, — сказал он. — Очень обрадовала. Ну, пошли!
И весело зашагал по дороге.
Теперь по утрам, когда он идет в больницу, он всегда берет меня с собой.
Высокий, немножко сутулый, в чесучовом пиджаке, выстиранном и выглаженном Клавдичкой, он идет быстро, иногда останавливается и поглядывает на деревья, на небо, на цветы у дороги, а я шагаю рядом с ним. Иногда он взглядывает на меня серьезно, как бы испытующе, и спрашивает, где я была утром. И я с удовольствием рассказываю.
Перед одноэтажным кирпичным зданием земской больницы всегда видны люди. Они сидят на длинной скамье в легкой тени небольших еще деревьев: старики, женщины с детьми. Несмотря на солнечный день, женщины закутаны в темные платки.
Завидев доктора, многие встают.
— Сидите! — сурово говорит дядя Ваня. — Опять ты пришла, когда надо лежать...
— Где уж там лежать, — отвечает худенькая чернобровая женщина с пятнами румянца на щеках, — чуть не убил меня вчера...
— Значит, работала?
— Работала, — тихо говорит женщина. — Надсадилась, выпрямиться не могу.
— Ну что я с тобой буду делать? — сердито говорит дядя Ваня. — Пойдем, посмотрю...
Я уже знаю, что он сердится на то, что у него нет лекарств, негде положить больных, а у самих больных «ужасные условия жизни» от постоянных недостатков и деревенской темноты. Об этом дядя Ваня всегда говорит с Клавдичкой. Эти ужасные условия я увидела, когда дядя однажды взял меня с собой в соседнюю деревню.
— Ты не беспокойся, Грунечка, — сказал он маме, — я же не поведу ее к заразному больному.
В темной избе с тяжелым, кислым запахом лежал мальчик возраста вроде Митюшкиного, накрытый старым полушубком. С бледного его лба на цветастую подушку свалилась мокрая тряпка. Глиняный кувшин с водой стоял около него на табуретке.
Дядя Ваня сел около больного, отодвинул полушубок и положил руку на худую, тяжело дышавшую грудь. Потом наклонился и прилег к груди ухом. Мальчик открыл глаза и тихо сказал:
— В боку колет, дышать нельзя...
— Крупозное воспаление... — будто себе самому сказал дядя. — А мамка где?
В это время отворилась дверь, и вошла молодая женщина с крынкой в руках.
— Квасу я принесла, сыночек, — сказала она и поклонилась доктору.
— Квасу! — сказал дядя Ваня. — Ты бы лучше молока ему принесла: ребра-то все пересчитать можно.
— Где у нас молоко? — ответила женщина.
— Ну, вот что: мы поставим немедленно компресс — надо парня спасать, у него тяжелая болезнь. — Дядя открыл чемоданчик, бывший с ним, достал тряпку, клеенку, бинт. — Вот что будем делать, смотри-ка, мать.
Он поставил меня посредине избы и стал на мне показывать женщине, как надо положить компресс при воспалении легких. Когда он, обернув меня сложенной вдвое полотняной тряпкой, потом желтой прозрачной клеенкой и слоем ваты, стал бинтовать, мне стало очень жарко, но я терпела: мне было интересно, что я участвую в таком важном деле и помогаю дяде Ване «лечить».
Напряженное внимание матери вдруг чем-то озаботило дядю, он задумался и, сказав: «Не так!», быстро разбинтовал мне грудь. Потом он достал ножницы и, расстелив на столе тряпку, скроил из нее, из клеенки и ваты три безрукавки, сам их сшил в плечах и стал надевать на меня по очереди: сначала полотняную, потом, побольше, — клеенчатую, потом — ватную, которая была больше клеенчатой, показывая женщине, что каждая следующая должна прикрывать предыдущую. У женщины просветлело лицо: она поняла, в чем дело.
— Ну, теперь я положу компресс. Помогай-ка, — обратился он ко мне.
Помню, каким необыкновенно ответственным делом казалось мне прикладывать намоченную тряпку к груди мальчика, поддерживать его горячую, пахнущую потом руку. Дядя забинтовал ему грудь и сказал женщине:
— Завтра приду. Сама ко мне не бегай. Никогда не забывал еще... Будет хуже — возьму в больницу. Пол и окна вымой.
Когда мы вышли и я глубоко вздохнула чистый воздух, он сказал ворчливо:
— К празднику полы, лавки, окошки моют, а больной может лежать в грязи — это их не беспокоит! Темнота!.. Ты не боялась больного? — И, увидев, что я отрицательно мотаю головой, прибавил: — Делать-то, друг мой, что-нибудь всегда интересно.
Дядя Ваня еще не знает, что я решила, когда вырасту большой, так же, как он, лечить людей. Как Лелина мама, я не буду бояться никаких страшных болезней и даже, может быть, умру в «эпидемию», как умерла она. Он не знает, что я иногда беру со стола альбом и смотрю на нежный рот и смелые глаза Лелиной мамы; лицо ее сливается с лицом Лели и кажется мне живым...
В другой, еще более грязной избе дядя Ваня дал мне держать руку женщины со страшным нарывом на ладони. Две маленькие девочки в линялых сарафанчиках сидели на лавке, со страхом глядя на блестящий нож в руке дяди Вани, и пронзительно вскрикнули, когда он разрезал нарыв. В люльке сидел годовалый ребенок и сосал горелую корку черного хлеба. Личико у него было совсем прозрачное, голубые глаза смотрели беспомощно и робко.
— Почему он такой худенький? — спросила я у женщины.
— Бедствуем хлебом, недоимки замучали, — ответила она не очень понятно для меня.
Когда мы шли домой, я спросила:
— Дядя Ваня, а почему они бедствуют? Клавдичка говорит, что земля здесь хорошая, урожайная.
— А земля-то у крестьян где? У них, ты видела, какие полоски. С таких полос никогда хлеба на зиму не хватает.
— А недоимки — что это?
— Недоимки — это долги: помещикам за землю платить надо, подати платить тоже надо...
Дядя Ваня увидел по моему лицу, что мне это непонятно.
— Ну, тогда я скажу тебе понятнее. Вот, смотри, налево от дороги — прекрасная пшеница на широком поле. Это — земля помещика, принадлежит одному человеку. А направо — крестьянские полоски, разделенные межами, и с каждой такой жалкой полоски кормится целая семья. Улавливаешь разницу? Понимаешь, каким количеством земли владеет один человек и как ее мало у других! Крестьяне арендуют землю у помещика, а тот пользуется безвыходным положением человека и берет с него непомерно высокую плату. Крестьянин не может расплатиться с казной и помещиком, за ним всегда остаются долги. А чиновники, для которых помещик всегда прав, а крестьянин виноват, жестоко собирают эти недоимки. Бывает, что у крестьянина всё продадут, оставят его нищим. Понимаешь теперь?
— Понимаю, — ответила я.
Мне кажется, что дядя Ваня с удовольствием берет меня с собой. Объясняя непонятное мне, он иногда останавливается, взглядывает на меня и усмехается.
— Слушаешь? — спрашивает он. — Конечно, ты еще мала, не все тебе понятно, но надо видеть, что тебя окружает.
Как-то к вечеру дяде Ване понадобилось навестить заболевшего помещика; к нему надо было ехать на лошади, и он взял меня с собой.
— Тебе, конечно, хочется прокатиться, — сказал он. — А может быть, мы и увидим что-нибудь интересное.
Сначала мы ехали лугами, переезжали по каким-то тряским мостикам через маленькие, уютные речки, потом дорога пошла по лесу. И как же замечательно вилась она среди высоких деревьев, разделяясь и обходя то прекрасную, матерински склоненную над молодой порослью липу, то группу веселых, молодых кленов!
Наконец мы подъехали к усадьбе с белыми каменными воротами и прекрасной березовой аллеей. Но эти ворота оказались забитыми, так что нам пришлось объезжать через широкий двор, покрытый зеленой травкой. Мы остановились у заднего крыльца большого дома; на террасе ветер надувал парусами суровые полотняные занавески.
Дядя Ваня велел мне подождать, пока он посмотрит больного, и ушел в дом. Федот немного отъехал, отпряг лошадь, поставил ее к тележке, и лошадь стала выхватывать из-под меня сено. Я слезла с тележки и пошла по двору. Странно, что в таком большом доме жило мало людей и никто не попался мне навстречу. Потом я рассмотрела, что окна огромного дома все были как-то пусто темны и только в двух горел свет. Я заглянула в окно — и остановилась: такого я еще никогда не видела...
В комнате, около стола, сидел дядя Ваня напротив пожилого, очень полного человека в пестром халате. Комната вся была заставлена мебелью: в ней стоял рояль, шкафы, а по стенам на высоте человеческого роста... висел ряд стульев. Неужели, подумала я, когда к хозяину собирается много гостей, он рассаживает их так высоко на стульях? Долго я рассматривала необычайное убранство комнаты и отошла, только когда дядя стал прощаться.
Хозяин вышел провожать дядю на крыльцо. Когда мы отъезжали, я слышала, как он визгливо кричал кому-то: «Я тебе что сказал? А? Что я тебе сказал?»
Помню, как поздно ночью после сильного, но короткого дождя едем мы с дядей и Федотом в тележке — возвращаемся домой. Черный лес окружает нас, и, покачиваясь на постеленном в тележке сене, я вижу, как движутся над нами, появляясь и уплывая назад, ветки деревьев, и за ними глубоко и далеко горят звезды, течет Млечный Путь, и где-то в лесу — непонятно, откуда она попала в этот большой, густой лес, — лает собака...
— Дядя Ваня, — спрашиваю я, — откуда же ночью в лесу собака?
— Та это помещик Чернышов, а не собака! — с усмешкой отвечает сидящий на козлах Федот. — Такой скупой — нехай бы он сдох! — сторожа нанять скупится, собаку тоже кормить надо. Вот он сам и ходит по ночам по лесу и лает собакой — пугает воров.
Я этому беспрекословно верю, потому что Федот, по моим наблюдениям, человек знающий: он всегда все может объяснить, совершенно не задумываясь над тем, о чем его спрашивают. Но, главное, сейчас я сама видела в окне помещика нечто необыкновенное и всему могу поверить.
Дядя Ваня смеется над словами Федота, а я — чего, видно, не бывает! — представляю себе большого человека с темной бородой, как он осторожно ходит по лесу, стараясь не хрустнуть веткой, вглядываясь блестящим звериным глазом в темноту деревьев, и... лает. Человеку, должно быть, страшно ходить так одному, хотя он и скупой и плохой. Я придвигаюсь поближе к высокому сутулому человеку, сидящему рядом со мной, который здесь, в лесу, чувствует себя как дома: он все знает и может объяснить, о чем его ни спросишь.
— Дядя Ваня, он страшный, этот Чернышов?
— Нет, он не страшный, девочка. Он действительно очень скупой человек, вот про него и рассказывают разные неправдоподобные истории.
— А этот, у кого стулья висят на стене, тоже скупой?
— Этот? Нет, Киреев не скупой, наоборот: он все прожил, прокутил и продал свой дом богатому тамбовскому помещику, договорился только — оставил себе две комнаты. Собрал туда всю мебель, так и живет. Бесполезный человек.
— Вот и верно, Иван Николаевич, — говорит Федот, — человек он бесполезный. Никому доброго слова не скажет. А новый хозяин не въезжает: боится — крестьяне сожгут.
— Зачем его сожгут? — не понимаю я.
— А как же? — говорит Федот. — Помещики не работают, а крестьяне гнут спину с утра до вечера. Нынче терпенье крестьян кончилось, они и жгут.
Вот какое дело: оказывается, и здесь, где все так красиво и прекрасно, одни люди работают, другие — нет.
— А у нас на фабрике, — говорю я, — хозяин тоже никому доброго слова не скажет...
— Чего же «им» говорить, когда «они» рабочих за людей не считают! — Федот хлещет кнутом по спине лошади, и она прибавляет шаг. — А рабочие им показали...
— Ох, Федот, хватит, пожалуй, разговоров, — говорит дядя Ваня.
— Да я только при вас, Иван Николаевич.
— Знаю я прекрасно. Смотри лучше — в овраг не завези.
Овраг, по краю которого мы едем, похож на глубокий, длинный ров и называется «Окопы Кудеяра».
— А почему он так называется?
— Ну, Федот, объясни ей, поговори... — устало говорит дядя Ваня.
— А это по имени разбойника Кудеяра, — охотно объясняет Федот. — Его сильно помещик один обидел. Кудеяр девушку полюбил, красавицу собой и умницу, а помещик ее увез да и поселил у себя, посадил ее на хлеб, на воду. Она, видишь, хотела убежать от него, она Кудеяра любила. Помещик ее и убил. А Кудеяр сжег его дворец, самого бросил в реку с обрыва и сделался разбойником. Стал подкарауливать купцов и помещиков, отнимал у них деньги и раздавал бездомным людям. Так что и не разбойник вовсе он был, а хороший человек.
— Ты, кажется, по-другому рассказывал раньше, — говорит дядя Ваня, — раньше у тебя Кудеяр не жег помещика.
— Жег, — уверенно отвечает Федот, — я же знаю, что жег.
Лето было жаркое, солнечное, и нам с мамой было так хорошо в деревне! Мы ходили купаться на реку Битюг, ходили на «порубку» собирать землянику и далеко в лес за малиной.
Но главное очарование этого лета было в постоянном удивлении окружающему. После жизни в городе я попала в такой огромный мир деревенской природы, полный движения и перемен, где каждое мгновение происходило что-то новое для меня. Так, за плетнем, окружавшем сад, начинался лес, и можно было просидеть на его опушке, в развилине большого дерева, несколько часов, рассматривая мягкие листья липы, блестящие — клена, вырезные — дуба, прислушиваясь и приглядываясь к жизни разных мелких лесных обитателей. На молодых дубовых листьях снизу сидели белые шарики, которые назывались «чернильные орешки»: интересно было, откуда они берутся. Интересно было и прислушиваться к голосу кукушки, много раз, наверно специально для меня, начинавшей счет нового большого числа лет жизни, и подсказывать ей, чтобы она накуковала побольше, побольше...
В этом лесу со мной происходило что-то непонятное, чего раньше не бывало. Сидишь так в толстой развилине дерева, упершись пальцами босых ног, смотришь и думаешь о чем-то, и слова сами складываются особенно, похоже на стихи:
...И дальше в лес пройти,
Там, где кусты малины
И ежевикою, и хмелем обвились...
А иногда получаются совсем настоящие стихи, и это очень меня занимает.
Пожары
В этот день было душно, и думали, что к ночи соберется гроза. Но хотя гром и ворчал где-то за лесом и над хорошо видным из дома Заречьем даже «заходила» туча, вечером открылось такое ясное, чистое небо, что все долго сидели на крылечке и меня не посылали спать.
Стало совсем темно, и сильно запахло скошенной травой.
— Посмотрите-ка, — сказал дядя Ваня, — а ведь это пожар!
В той стороне, куда он показывал, был спуск к реке: днем там виднелись кудрявые ивняки на ее берегах, и на солнце взблескивала вода в Битюге на Большом плесе. За полосой ивняка расстилались широкие луга. По лугу бежала дорога и уходила в какую-то очень широкую и безлесную даль. Днем там — казалось, очень далеко — были видны деревни. Сейчас впереди все ровно темнело под вечерним небом с тусклым сегодня светом звезд.
Клавдичка и мама вгляделись, и мама вскрикнула:
— Горит!
В этой широкой безлесной дали, как будто за горизонтом, горел большой костер, и нам было видно розовое его сияние.
— Это большой пожар. Горит деревня Садова́я, — сказал дядя Ваня. — Небо дымом занесло — значит, большой!
И стал объяснять маме, что у них горят деревни очень часто. Избы крыты соломой. Если заронят огонь в одной — ветром перекинет на всю деревню. Нынче, может быть, и молнией зажгло, так как тучи ходили в той стороне, а может, и еще от чего... И счастье, что к ночи ветер стал стихать, а то бы пожар был огромный.
Когда зарево пожара уже побледнело и опало, все так и оставались сидеть, тихо разговаривая, и мама сказала мне, что и я могу посидеть.
Вдруг откуда-то издали послышался шум колес по дороге: кто-то подъезжал к дому.
— Ну, катит к нам! — с неудовольствием сказал дядя Ваня и поднялся встречать.
Так появился в первый раз при мне человек, которого встретили внешне как бы и хорошо, но со скрытым недовольством. Это, как я потом узнала, был становой пристав Авдеев и с ним урядник, немолодой уже человек, которому Авдеев постоянно приказывал и посылал его всюду, как подчиненного ему человека.
Войдя и поздоровавшись, Авдеев сразу же спросил, усаживаясь, как у себя дома:
— Видели пожар? Говорят, грозой зажгло. Сейчас едем туда, воочию убедимся.
Мама сейчас же послала меня спать, и я плохо рассмотрела гостя в этот вечер. Но потом я видела его несколько раз, и всегда с появлением его у меня связывалось впечатление темноты, пожара и какой-то необходимости для дяди Вани и Клавдички принимать этого человека. Как будто они оба вовсе не хотели, чтобы он приезжал к ним, но становой этого не замечал и ездил, хотя ему и не были рады.
Он был высокий, плечистый человек, одетый в форменный мундир, в котором ему, наверно, всегда было жарко. Лицо его с черными усами было гладкое, розовое, щеки румяные, шея толстая. Он всегда ходил, выпятив живот, — казалось, он и представить себе не может, чтобы кто-нибудь не посторонился, не уступил ему дорогу.
— Ну, как тут у вас? — спрашивал он. — Много больных?
— Больных достаточно, — отвечал дядя Ваня. — Места для больных недостаточно.
— Превосходно! — говорил становой, видимо совершенно не вникая в смысл ответа. — Где же Клавдия Николаевна?
Но Клавдичка уже входила в комнату, и гость шел к ней, здоровался и говорил всегда одно и то же:
— Вы на меня, Клавдия Николаевна, произвели неизгладимое впечатление!
Я очень ясно понимала, что Клавдичке он неприятен, а говорит то, чего он вовсе и не думает.
— Он тебе неправду говорит, Клавдичка, — однажды сказала я.
— Я знаю, друг мой. Мне это неприятно, но, к сожалению, запретить ему говорить это я не могу. И этот, — Клавдичка брезгливо вздрогнула, — и еще «некоторые люди» ездят к нам не потому, что «они» любят нас и интересуются тем, как мы живем, а потому, что их служба заключается в том, чтобы следить за тем, что мы делаем.
— Он кто? — спросила я.
— Он полицейский начальник. Тебе понятно?
Это мне было понятно. Я вспомнила важного полицейского, который искал у нас Кондратьева, и кивнула головой.
— А так как «им» очень интересно знать, кто у нас бывает, «они» портят нам и те редкие хорошие вечера, когда собираются наши друзья.
И на самом деле, становой часто приезжал, когда к дяде Ване собирались гости: студенты, проводившие лето в деревне, фельдшер Василий Митрофанович, уже немолодой человек, который, как только входил на крыльцо, поднимал обе руки и, плавно разводя ими, начинал басом:
— Ве-чер-ний звон, ве-чер-ний звон...
Он знал, что непременно будут петь хором: и дядя Ваня и Клавдичка очень любили петь. Мама тоже радостно присоединялась к ним.
Но больше всех мне нравилась артистка Наталья Матвеевна, веселая, живая, с чудесным голосом. Откинув назад белокурую свою головку, она чуть свысока смотрит на людей, но ей это идет, и поэтому Наталья Матвеевна всем нравится. Она гостила у своего родственника, священника ближайшего села, по вечерам часто приезжала к нам и бывала, по словам Клавдички, «громоотводом» в те дни, когда появлялся Авдеев. Отец Натальи Матвеевны был губернатором на Дальнем Востоке, и по одному этому становой считал ее вполне надежным человеком. Его не смущало даже, что с ней постоянно случались какие-нибудь происшествия.
Но она-то и умела высмеять его. Однажды Авдеев приехал, когда все сидели на ступеньках крыльца, а фельдшер управлял хором. Только что кончили петь про казака и дивчину и начали любимую мою:
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик — дар Валдая —
Звенит уныло под дугой...
— Лучше спойте «Генерал-майор Бакланов»! — перебивая хор, предложил становой, усаживаясь на скамейке в саду.
Песня про этого неизвестного мне генерала состояла всего из трех слов, которые пелись на один и тот же мотив, но с различным выражением. Начинали быстро:
Ге-не-рал-майор Бакланов!
Ге-не-рал-майор Бакланов! —
и, замедляя:
Ба-а-кланов гене-рал,
Ба-а-кланов генерал.
Вот и все! Но все дело было в выражении лица и всей фигуры капельмейстера: он мог неожиданно переменить темп, сделать паузу, и песня — всего из трех слов — могла выразить любое чувство и всегда доставляла необычайное удовольствие исполнителям. Можно было спеть так, что ясно чувствовалось: кого-то из присутствующих высмеивают. Но это я поняла лишь тогда, когда Наталья Матвеевна вызвалась дирижировать хором. Она сказала, улыбаясь, что ди-ри-жи-ровать она очень хорошо умеет.
Наталья Матвеевна стала спиной к Авдееву — фельдшер уступил ей свое капельмейстерское место — и подняла обе руки. Вероятно, хором она управляла действительно умело. Она и запевала сама. Но самое замечательное заключалось в другом: лицо ее с первых тактов выразило столько самодовольной тупости, что нельзя было удержаться от смеха — все поняли, о ком пойдет песня.
— «Ге-не-рал-май-ор...» — запевает Наталья Матвеевна, и вдруг голос ее срывается, и, задыхаясь, как бы в страхе, она шепчет: «Бакланов!» — и все видят его подчиненных, которые боятся и трепещут перед ним...
Половина следующего куплета поется уже совсем в медленном темпе, широко разливаясь, очень важно: и лицо Натальи Матвеевны, и важность ее жестов показывают, о каком важном и достойном человеке рассказывается в песне. Старательно гудит басом Василий Митрофанович, и сам дядя Ваня с увлечением изображает голосом человека уважаемого...
И вдруг Наталья Матвеевна звонко, озорным голосом выкрикивает: «Бакланов генерал!» — и как это выходит, я не знаю, но все мы понимаем, что кто-то поймал, уличил этого важного на вид человека, обнаружив мелкую, подленькую его сущность.
Вечереет... Все тесно сидят на крыльце и, глядя в лукавые, выразительные глаза, едва удерживаясь от смеха, поют, рассказывая песней про тупого и злого, но властного человека, а совершенно лишенный музыкального слуха становой слушает с огромным удовольствием.
— Вот, — говорит он, надувая толстые щеки, — это славная песня! А то заведете про разных казаков и дивчин. Пусть те песни хохлы немазаные поют... Зам-мечательно разносторонние таланты у вас, Наталья Матвеевна, — добавляет он, когда песня закончена. — Позвольте в благодарность ручку поцеловать!
И берет протянутую ему со смехом маленькую ручку.
— А что это за история в церкви, которая случилась с вами? Я не слыхал еще, но разговоров — уйма!
— Да, это вышло очень здорово! — смеется Наталья Матвеевна. — В прошлом году я была в Новом Афоне, там на каждом шагу монахи. Предлагают посетителям осмотреть их хозяйство и самый храм. И попался мне монашек-проводник на загляденье красивый. Ходили мы с ним, ходили по жаре — я, конечно, под зонтиком — и вышли на аллею, к церкви. Я говорю ему: «Что же вы, такой молодой и здоровый человек, пошли в монахи? Вам, говорю, работать и трудиться надо!» Он посматривает на меня, отвечает. Вижу — ни о чем он не думал в жизни. «Я, говорит, богу молюсь». Эка работа, думаю... И так, заговорившись, идем да идем. Поднялись на ступеньки, вошли в церковь. Народу было немного, и вижу — все на меня оглядываются. А он показывает мне роспись на стенах... Вдруг какой-то священник от алтаря подает мне знаки. Осмотрелась я — и ахнула: стою в церкви под зонтиком! — И она засмеялась.
— Ну, это еще ничего! — сказал становой. — Вам-то, дорогая, все можно: папаша — господин губернатор! Кто же вам может запретить что-нибудь?
Однажды днем мы услышали бубенчики авдеевской тройки. Приближаясь к нам, они заливались таким ретивым, тревожным звоном, что Клавдичка сказала:
— Скачет вовсю: что-нибудь случилось.
Становой шел по ступенькам лестницы и так тяжело ступал ногами, как будто хотел втоптать все эти ступеньки в землю. Лицо его, красное от солнца — день стоял жаркий, — буквально обливалось потом, толстые щеки прыгали, когда он почти крикнул:
— Подожгли, мерзавцы! Где Иван Николаевич?
С мамой он даже не поздоровался. Я сидела рядом с ней и смотрела, как она вышивает.
— Уехал по деревням, — ответила Клавдичка.
— Именно в это время? — крикнул становой.
— Постоянно уезжает, в любое время...
— Ах, постоянно? Мы эти прогулки прекратим!
— Об этом уж вы говорите с Иваном Николаевичем, — сдержанно ответила Клавдичка.
— Да уж побеседуем!
Становой сел к столу и забарабанил пальцами. Сегодня он не говорил о том, что Клавдичка произвела на него «неизгладимое впечатление».
— В какую деревню он поехал и когда?
— В Курлак. Закончил прием в больнице и поехал.
— Курлак в другой стороне...
— От чего в другой стороне?
— От имения Чернышова, конечно! — крикнул становой.
— Значит, что же? Сожгли дом у Чернышова?
— Да что вы, не слыхали, что ли? И дом и все постройки, — ответил становой. — Скот выгнали и подожгли сараи.
— Как же вы так кинулись к нам, — укоризненно качая головой, сказала Клавдичка, — будто думали, что Иван Николаевич поехал поджигать вместе с крестьянами? Как вы могли только подумать такое, Прокопий Михайлович?
— Ну, в этом вы меня не учите, уважаемая! — грубо вспылил становой. — Человек, способный оказаться под надзором полиции, способен и крестьян мутить. Тем более в такое время, когда рабочие беспорядки, которые мы прекратили в городе, продолжаются в деревне...
— Ах, так! — сказала Клавдичка, широко открыв свои чудесные глаза и сделавшись похожей на милую, скромную девочку. — А я, представьте, думала, что революция совсем закончилась... — Но глаза ее, сейчас лукавые, как у Натальи Матвеевны, когда она управляла хором, так и блеснули в нашу сторону.
— Те-те-те! — погрозил ей пальцем становой, как будто развеселясь немного. — Хотя некоторая доля хитрости женщину только украшает, но здесь вы меня не проведете. Вы, как и ваш братец, прекрасно знаете, что, когда в лесном пожаре потушили главный огонь, надо смотреть, чтобы огонь не переполз по тлеющей траве и чтобы не вспыхнул другой такой же очаг пожара.
— Так как же, — участливо спросила Клавдичка — было понятно, что она переводит разговор на другое, — Чернышов много потерял из-за пожара?..
— Да уж отстраиваться придется заново, — ответил Авдеев, поддаваясь на сочувственный тон Клавдички. — По-человечески жалко: ведь дом был полная чаша, чего-чего не было у него! Одних вин и наливок как-кие запасы были!
— Но, кажется, он был очень скуп?
— Что вы! Угостить не жалел... Меня, к слову сказать, всегда угощал на славу! Именно по-человечески его и жаль.
— Но вот... был недавно другой пожар, — поднимая голову над шитьем, взволнованно сказала мама. — Горела деревня Садова́я, нам было видно отсюда... Сколько же людей осталось без крова, без пожитков!
— Всех не пережалеете! — небрежно махнул рукой Авдеев. — А этих и вовсе нечего жалеть. Там дело в высшей степени сомнительное: пожар начался с лавки купца Бородулина и потом уж на избы перекинулся. Так что, вернее всего, там надо карать, а не жалеть...
...Еще были солнечные дни и теплые августовские вечера, но мы должны были ехать в город. Начиналась новая для меня полоса жизни: ученье в школе. Мы простились с Клавдичкой и дядей Ваней, но ненадолго: теперь мы близко живем друг от друга. На прощанье дядя Ваня похлопал меня по плечу и сказал:
— Ну что же, Клавдичка, как будто Саша молодцом! Приезжай к нам гостить на будущий год. Может быть, и Леля приедет...
В Воронеже нас радостно встретил отец. И на другой же день мы пошли вместе с ним в книжный магазин Агафонова.
Небо было туманное, «городское», сеял мелкий дождь...
В магазине отец подвел меня к прилавку и стал называть продавцу учебники, которые мне нужны были для первого класса. Продавец оборачивался к полкам, доставал новую книжку и клал на прилавок. Книжки были все чистые, в разных переплетах. Потом продавец сложил их все вместе, посчитал на счетах, сколько за них надо платить, и связал книги бечевкой. Отец взял их с прилавка и передал мне со словами:
— Держи-ка, Саша, книги. Ученье — это то, что я могу тебе дать.
Он давал мне гораздо больше, чем книги и ученье.
Я обхватила книги двумя руками, нюхая, как хорошо пахнет от них новой бумагой и клеем. И, поклонившись продавцу, мы с отцом вышли на улицу.
Москва 1949—1954 гг.
рекомендуем читать:
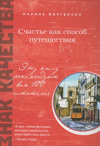
рекомендуем читать:
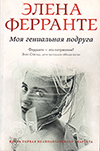
рекомендуем читать:
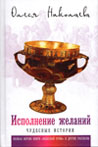
рекомендуем читать:
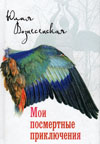
рекомендуем читать:
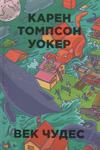
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
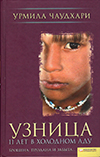
рекомендуем читать:
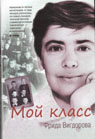
рекомендуем читать: