ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
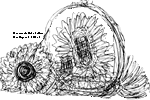


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Запольская Габриэля 1893
I
Пани Дульская приготовила для всего дома чистое белье.
Сделала она это, против всех правил, во вторник. Обычно в доме Дульских белье меняли по воскресеньям и четвергам, наволочки и простыни — каждые пятнадцать дней.
Пани Дульская говорила об этом с нескрываемой гордостью:
— Есть хозяйки, что раз в месяц переменят постель, и им кажется, будто у них порядок... А я лучше сэкономлю на еде, но мыла не пожалею. Такой уж у меня характер! Ничего не поделаешь!
Говоря это, она бросала вокруг грозные взгляды. Ее крутые бедра выпирали из-под широких складок синего в крупную горошину бумазейного капота. На макушке торчал выразительный узелок. Сытое, откормленное тело ее дышало гневом. Руки у нее всегда были грязные, не хватало времени отмыть их дочиста. То она выгребала золу из печи, то насыпала сахар, то гребни чистила, рубила мясо, учила кухарку потрошить зайца, взбивала белки, готовила Меле порошки и помаду для волос, приминала соль в солонках, пробовала сметану, пересчитывала грязное белье, — словом, ее пальцы всегда к чему-нибудь липли, собирая дань, подобно трудолюбивым пчелам, порхающим среди цветов.
— Ничего не поделаешь! — повторила пани Дульская, ожидая, что ей возразят.
Но никто не отозвался. Збышко улепетнул, Меля и Геся сидели у себя в комнате. Фелициан курил сигару в передней, там ему было удобней.
Пани Дульская говорила в пустоту.
Она открыла шкаф и принялась «выгружать» белье для всего семейства. Особенно старательно она отбирала мужнино и свое белье.
— Ведь нам завтра в суд — надо, чтобы все было как положено!
При одной мысли о суде Дульская залилась краской.
— В суд!.. До чего дошло! — сокрушалась она.
А кто во всем виноват — кто? Конечно, Збышко.
Не будь его, кокотка со второго этажа никогда бы так не обнаглела. Когда она въезжала, ее предупредили, что квартира сдастся с одним условием, чтобы все было шито-крыто, тихо, пристойно, как бог велит. Она согласилась, получила ключ и обязалась платить Дульской четыре гульдена на дворника и проводить своих гостей через черный ход и на цыпочках. Дульская радовалась выгодной сделке, она могла теперь не платить дворнику жалованье. Итак, все как будто было в порядке. Кокотка целый день спала, служанки у нее не было, а следовательно, не было и сплетен. Прислуживал ей старый еврей, по утрам он, словно тень, мелькал на балконе, неся двойную порцию шоколада из соседней кондитерской. Ее окна, на улицу и на балкон, были плотно затянуты розовым и желтым шелком и занавешены тюлевыми шторами. Лишь изредка старый еврей в серой куртке, тихонько мурлыча, вывешивал на перила балкона, выходившего во двор, чудесные, словно из пуха сотканные, халаты с длинными, отороченными кружевом рукавами, развевавшимися, точно голубые стяги. Иногда там сверкало золотистое атласное одеяло в роскошном, отделанном валансьеном пододеяльнике или красовалась подушечка, этакая игрушка, вся в бантиках, опутанных рыжими волосами кокотки.
При виде этих чудес из кухни Дульской выбегала Геся и, широко раскрыв глаза, так и впивалась в эту роскошь; ведь до сих пор она знала только женское дессу из добротного полотна, обшитое фестонами или нитяным кружевом. Лицо девушки покрывалось красными пятнами. Не сводя глаз с балкона, она судорожно ловила ноздрями смешанный запах духов, которыми кокотка сама была пропитана насквозь и пропитывала все, что соприкасалось с ее телом.
Завороженная этим зрелищем, дочь Дульской с безмолвным любопытством жадно наслаждалась дешевой роскошью обители порока.
Старик обходился с этим великолепием деликатно и благоговейно, казалось, он священнодействует, так осторожно он сдувал пылинки, расправлял оборки, с восхищением разглядывая каждую мелочь. Но, поймав взгляд Геси, он тотчас напускал на себя равнодушный вид, а рыбьи глаза его словно заволакивало непроницаемым бельмом. Быстро собрав халаты и постель, он исчезал в глубине покоев.
Один только раз Гесе посчастливилось увидеть выбежавшую из раскрытых кухонных дверей кокотку, в роскошной светло-зеленой, с кружевными оборками нижней юбке, в небрежно наброшенном вязаном платке и с копной распущенных волос. Мелькнули соблазнительные плечи и лицо «играющего ангела» из собора св. Петра. Она схватила халат и скрылась.
В эту ночь Геся долго не спала.
Но Дульская не знала об этом.
И не подозревала.
* * *
Пани Дульская была очень довольна — она удачно сдала второй этаж.
Молодая пара, — этим ничего на свете не надо, к тому же они всегда в хорошем, добродушном настроении, — и пани Матильда Штрумпф, лицо свободной профессии.
Кому какое дело?
Человек свободной профессии.
И все.
Она женщина тихая, деликатная, белье отдает в стирку, на чердаке и в подвале ничего не держит (чердак Дульская сдала прачке, а подвал — лавочнику), никаких скандалов из-за игры на рояле не устраивает, квартальную плату вносит вперед. Это Дульская сразу оговорила. Другие жильцы платят каждый месяц, а Матильда Штрумпф поквартально. Мамаша Дульская женщина хитрая, и хотя сама она... ни-ни... но прекрасно разбирается в коммерческих делах таких особ. Сегодня у нее все хорошо — коляски, боа, обстановка, а завтра счастье изменило и — получай пустой номер. Поэтому мамаша Дульская хочет обеспечить себя на три месяца вперед. А за три месяца такая Матильда всегда выкрутится — и снова будут боа, автомобиль, коляски, ну и деньги для мамаши Дульской.
И Дульская в какой-то мере считалась с Матильдой Штрумпф. Однажды Дульской пришла в голову мысль... освятить дом. Она купила этот дом у еврея, который его построил. Дом был не освящен, и прислуга со всей улицы постоянно об этом судачила. Дворничиха и подвальные жильцы говорили даже, будто на чердаке водится нечистая сила. Дульская хотя и относилась к этим россказням с презрением — она была esprit fort[1] и в глубине души большой скептик, — все же соблюдала предписанные традицией религиозные формальности. А уж репутация дома должна была быть безупречна! Она велела заново покрасить фасад, балконы, рамы, вставить цветные стекла в окна лестничной клетки и договорилась об освящении. Ксендз должен был обойти весь дом, окропить все углы и прочесть молитвы.
Збышко пришел в восторг от этого проекта.
— Вот это да! — смеялся он, сидя у печки. — Превосходно! Только нужно бы начать с главной жилички.
— Что?..
— Ну... с Матильды Штрумпф. Вот уж где не мешает покропить!
Дульская оторопела. Она мгновенно представила себе ситуацию и признала в душе, что сын ее прав. Однако ей удалось весьма искусно выпутаться из щекотливого положения. Матильда Штрумпф притаилась в самом укромном уголке своих апартаментов, а Дульская сказала ксендзу, что ее жиличка уехала к родителям и взяла с собой ключ.
— Мне так жаль... так жаль, — сетовала пани Дульская, идя за ксендзом по пятам, — и она будет жалеть, очень благородная дама, очень милая...
— Я никогда бы не допустила профанации, — успокаивала свою совесть Дульская, так как что-то засвербило у нее внутри, когда ксендз в свежевыстиранном, украшенном кружевом стихаре добросовестно и с чувством молился, обходя все уголки ее дома.
* * *
И жили себе так Матильда Штрумпф и пани Дульская под одной крышей тихо, мирно, к обоюдному удовольствию.
Правда, портниха и жена кондуктора из флигеля затаили что-то против особы «свободной профессии», но пани Дульская своим авторитетом прекратила пересуды и даже перетянула Одерванкову на сторону кокотки. Польщенная вниманием хозяйки, жена кондуктора стала видеть в Матильде Штрумпф милую, изящную даму, живущую своим капиталом.
— Да, в конце концов, кто знает, как это на самом деле.
— Конечно, а к тому же не судите...
— Да, да!
Так они судачили, скрестив руки на животе, со снисходительностью «безупречных» женщин по отношению к тем, кто не очень-то дорожит своим добрым именем.
— Еще неизвестно, сударыня, что с нами бы стало, если бы мы росли без матери, как она, наверное... — робко прошептала прямодушная жена кондуктора.
Дульская надулась.
— Ну уж нет, дорогая. Да родись я без матери, все равно была бы такая, как есть.
Одерванкова спохватилась, что далеко зашла.
— Да, конечно, это я так...
Как раз в этот момент в воротах показалась Матильда Штрумпф. На ней был элегантный, прекрасно сшитый белый с синим кантом костюм и такой же жахает из плотного сукна, сильно открытый спереди, а на голове красовалась вызывающе шикарная шляпа с пером, похожим на генеральский султан.
— Ах, как прекрасно она одевается, — умилилась бледная Одерванкова, которая всегда ходила в одном и том же желто-зеленом платье и застиранном линялом пальтишке.
— Да, превосходно, — согласилась Дульская. — Известное дело, живет на проценты — может себе позволить и то и се...
— Это правда. А с каким вкусом.
— Так ведь она женщина особенная. Кажется, даже замужем за графом была. Несколько лет как он умер. Оставил ей ребеночка.
— Подумать только, какая судьба...
Жена кондуктора расчувствовалась. У нее у самой был семилетний золотушный парнишка. В ней билось материнское сердце.
— Ребеночка! А где же он?
— Он воспитывается у родственников мужа в графской семье.
— А почему не у матери?
Дульская нахмурила брови.
— Моя дорогая, бывают дети, особенно в богатых семьях, которым вреден городской воздух. Ребенок в деревне.
— А... ну... да!..
Одерванкова вздохнула.
— Эх, Оляфека бы моего в деревню!.. Да где уж нам, денег и так не хватает... харчи, квартира...
Дульская подхватила подол своего капота и скрылась в воротах.
Жена кондуктора пожелала ей в душе: «Чтоб тебе шею свернуть», — но очень робко, чтобы, не дай бог, кто-нибудь этого не услышал. И не мудрено, ведь Дульская в любую минуту может повысить квартирную плату, вот и приходится воздерживаться от реплик и жить в мире с хозяйкой.
А Дульская, поднимаясь по лестнице, все еще пропитанной запахом духов кокотки, обмозговывает, как бы вытянуть побольше денег с квартирантов, живущих во флигеле. Недавно она прочла в газетах о состоявшемся на железной дороге процессе, на котором были раскрыты баснословные кражи багажа и посылок, и у нее перед глазами замаячили сказочные богатства. Она подумала, что, несомненно, и кондуктор тоже куш хватил.
«Если другие, — размышляла она, — то почему бы и не Одерванек? Возможно, что и он... а раз он живет в приличном доме, так пусть за это платит!»
Ей в голову не пришло выгнать преступника из дома — нет... но пусть платит! Ведь платят же за укрывательство, в самом деле!
* * *
Однажды Збышко, который после скандала с Ганкой пустился в разгул, столкнулся под утро на лестнице с Матильдой Штрумпф. Двое прогнивших от распутства гуляк, от которых разило винным перегаром и тухлыми устрицами, встретились взорами.
В один миг они столковались. Она никак не могла дозвониться, старый еврей, очевидно, дремал в отдаленной комнате. А ключ она забыла взять.
Збышко шел не спеша и остановился.
Ее дорогое пушистое белое боа волочилось по ступенькам лестницы.
Он наступил на него башмаком.
— Ах, пардон.
Кокотка прыснула со смеху.
Пустяки!
— Может... еще разок?
— Ну что ж...
Они противно, деланно засмеялись.
За дверью послышалось шлепанье туфель.
— Ну вот, плетется наконец старая скотина, — изящно заметила Матильда Штрумпф.
Двери отворились.
Збышко протиснулся в них, предлагая свои услуги:
— Может, и молодая скотина на что-нибудь пригодится.
* * *
Первого числа Матильда Штрумпф пе заплатила за квартиру. Более того, посланный с запиской дворник доложил хозяйке, что «пани» уже уладила дело с молодым хозяином.
Дульская снова послала дворника.
Кокотка, которая в это время сооружала на голове настоящую пирамиду из локонов, хотя своих у нее было три волоска, ответила коротко, на родном немецком языке.
— А ну проваливай отсюда!
Дульская остолбенела.
Она ничего не понимала. Фелициан пожимал плечами. У пани Юльясевич был грипп, и Дульская боялась туда зайти. Взбешенная, она напала на Збышка, но тот лишь разразился непристойным смехом и не пожелал ничего объяснять. Вдобавок ко всем неприятностям пришел приказ из городской управы заменить испокон веков стоявшие в доме мусорные корзины, из которых ветру так легко выдувать и разносить по городу сор и бациллы, — деревянными ящиками с крышками.
— Может, оковать их серебром? — орала Дульская. — Бациллы... ну и что? Должны же люди от чего-нибудь умирать!
Но тут как раз столяр принес четырнадцать новых «мусорниц» и расставил их, словно войско, посреди двора.
— Уж позвольте, ваша милость! — покорно просил изуродованный ревматизмом дворник, выдыхая всеми своими порами подвальную сырость, в которой его денно и нощно вымачивала милостивая хозяйка.
Как ураган, как вихрь, слетела с лестницы пани Дульская. Она остановилась на минутку, спохватившись, что забыла надеть подвязки, и, величественным жестом вынув из волос шпильку, пришпилила чулки к бумазейным панталонам. После этого она горячо, но не теряя достоинства, накинулась на столяра и его мусорницы.
И хотя в этот момент казалось, что она призывает на помощь всю изворотливость ума лишь для того, чтобы сбить цену на мусорницы, на самом деле ей по-прежнему не давала покоя история с Матильдой Штрумпф. Увидев возвращавшуюся из города Одерванкову, где означенная дама в течение получаса совала пальцы в горшки со сметаной и маслом, она бросилась к ней, забыв о мусорницах, городской управе и столяре.
— Моя дорогая, если бы вы знали... эта, эта...
Последовал поток ругательств.
Одерванкова остановилась посреди двора и терпеливо слушала недовольное кудахтанье хозяйки.
Наконец она сказала:
— Этого надо было ожидать. Коль скоро пан Збышко от нее не выходит...
— Как? Когда?
— Этого уж я не знаю. Я только знаю, что он частенько там засиживается, а утром они иногда вместе подкатывают на извозчике. Мой муж как-то возвращался из поездки и встретил их у ворот.
— Иисус-Мария!
Пани Дульская схватилась за голову, отшвырнула мусорницы и помчалась наверх.
Что там творилось — о том известно лишь в святой святых семейства Дульских.
Благословенный раздор — ангел-хранитель этого семейного очага, сотворенного по образу и подобию божьему и человеческому, в тот день достиг небывалых размеров.
До глубокой ночи два образцовых супружеских ложа, примерно разделенные изящным сооружением, в просторечии именуемым тумбочкой, слышали трубный голос чертыхающейся Дульской и покрякивание Фелициана. Впрочем, это было не ново. Уже давно этот идеальный супружеский агрегат, свидетельствующий об уважении к традициям и святости таинства, как раз и служил ареной неистовых словесных сражений, удивительных тем, что они были односторонними. Свою ярость Дульская изливала в монологах, которые она прекращала лишь в те моменты, когда, как говорится, душа сообща с духом трудятся над укреплением основ святилища, в коем они пребывают.
А может, это и служило цементом, скрепляющим кирпичики священного здания.
Так или иначе, но Фелициан с напускным равнодушием, тайно злорадствуя, помалкивал, утопая в ватных одеялах, а Дульская попирала его честь и достоинство на расстоянии ночной тумбочки.
В этот памятный вечер ее нападки достигли кульминации.
Так, по крайней мере, утверждала Геся, которая спряталась за дверью и, затаив дыхание, слушала излияния своей родительницы.
С этих пор началась открытая борьба между пани Дульской и Матильдой Штрумпф.
Кокотка получила судебное уведомление по поводу неуплаты за квартиру. Дульская сначала хотела вытурить ее за безнравственное поведение, но вовремя одумалась, — ведь кокотка могла доказать, что хозяйка прекрасно знала, кому сдает квартиру, и два года спокойнейшим образом терпела ее в своем доме.
Матильда Штрумпф сразу заплатила причитавшиеся за три месяца деньги и имела право прожить этот срок, а уж потом съехать с квартиры.
Теперь, когда у нее не было больше причин щадить владелицу, она развернула свою деятельность со всей безудержностью освобожденного от предрассудков духа.
Гости получили разрешение являться в любую пору дня и ночи парадной лестницей — парадной (слава и гордость Дульской)!
Здесь, у порога, коротал последние свои дни дворник; ступеньки были устланы пушистым ковром и сверху покрыты полотняной дорожкой, придерживавшие ее прутья блестели издали, как начищенные самовары, а на окно, сквозь которое просачивался желтоватый свет, мамаша Дульская собственноручно поставила искусственную пальму, привязав к ней для красоты две совсем «как живые» тряпичные камелии.
По этой лестнице, которая предназначалась для порядочных, благочестивых ног, теперь молча шмыгали, подняв воротники, сомнительного вида люди. Пани Дульская мучительно воспринимала подобные визиты. Тихие шаги и вкрадчивый шепот терзали ее сердце. Ей казалось, что она и есть тот пушистый ковер, который безжалостно топчут гости Матильды Штрумпф.
Особенно напряженно нервы и слух Дульской работали ночью.
А мысль о том, что среди этих проходимцев был ее родной сын Збышко, доводила ее до безумия.
Сначала она пыталась сопротивляться, но ее попытка вызвала неприятные последствия. Кокотка из глубины своих покоев запустила длинную очередь прямо в небо.
Старый еврей, развешивавший в это время на балконе кружева и шелка, усмехнулся и поглядел на Дульскую уже не печальными, но гневными глазами. Широко открытые окна спальни кокотки выходили прямо на балкон. В этот день, против обыкновения, желтые шелковые занавеси были подняты, и можно было разглядеть красные обои на степах, синие плюшевые портьеры, желтую обивку мебели, зеленый лакированный венский шкаф, розовое одеяло и чудесный голубой с золотыми звездами абажур под потолком. Среди всей этой роскоши вертелась Матильда Штрумпф, лениво предаваясь сложной процедуре своего туалета в весьма несложной форме одежды.
Дульскую бросило в жар. Никогда еще стены ее дома не видели при свете дня «столько тела». Эти солнечные ванны взывали к небу об отмщении. Ну хоть бы загорала, а то моется! Это еще к чему? Сегодня ведь среда, а не суббота. В субботу, всем известно, порядочные люди моют шею, уши, ну и «до пояса».
Тяжело вздохнув, Дульская поспешила на кухню, где пересчитала изюминки, приготовленные для теста, и пошла в комнату записать их количество. Когда за столом подадут пудинг, Фелициан и дети должны будут сказать, сколько кому изюминок досталось. Дульская сложит все вместе и сравнит с тем, что она записала. Таким образом она проверит, честная ли у нее служанка.
Что до кокотки, то к ней можно было применить поговорку: «Дай воли на палец...»
Матильда Штрумпф не хотела замечать такта и деликатного поведения пани Дульской. Напротив. Она словно бы старалась втянуть Дульскую в какую-нибудь скандальную историю. Она совсем распоясалась, из ее окон все чаще и громче доносилась брань.
В своем туалете «свободная дама» отказалась от всяких тайн. Солнечные ванны она теперь принимала не в цветастых своих комнатах, а на балконе. Пеньюары с рукавами, которыми хоть пол подметай, ранее прикрывавшие ее формы, были сочтены за излишество. Матильда Штрумпф, сидя у перил балкона, подставляла солнечным лучам свои белые, оголенные плечи. Дульская страдала от этого зрелища и еще выше, под самую шею, натягивала свою бумазею и вельвет да с удвоенной энергией рубила мясо и шинковала овощи для фальшивого зайца к воскресному обеду.
Но удары тяпки не утихомирили, а скорее раззадорили Матильду Штрумпф. Все смелее спадали с нее кружева, а яркая, из оранжевой тафты нижняя юбка чудом держалась на чуть прикрытых батистовой рубашкой бедрах. Кокотка ела чернослив и мило выплевывала косточки в сторону хозяйских покоев. Гортанным голосом, хорошо прочищенным коньяком, она напевала меланхолическую песенку о маленьком идиоте и, словно копытами, била большими ногами по доскам балкона.
Заняв позицию между небом и землей, она выставляла напоказ тайны своего ремесла, сея вокруг возмущение и тревогу, и навсегда погубила добрую репутацию дома Дульских. Но это еще не все.
С некоторых пор Матильда Штрумпф была не в ладах со старым евреем, который, надо заметить, служил ей не за страх, а за совесть.
Из ее квартиры то и дело раздавались нечеловеческие вопли, изощренные венско-черновицко-галицийские ругательства, на балкон и на двор из окон и дверей летели туфли, тазы, мужские башмаки, стаканы, рамки от фотографий, трости и всякая всячина. Возмущенные, напуганные жильцы в ужасе выскакивали на балконы. Однажды, июльским утром, Матильда Штрумпф, «лицо свободной профессии», вышибла за двери своего фигаро, который пулей вылетел на балкон и тут неожиданно разверз бездну своего красноречия. Казалось, будто два дьявола, заключенные в клетку, отправляют неведомое богослужение. Кокотка выбежала вслед за стариком на балкон и набросилась на него с кулаками. В поднебесье полетели на самом высоком диапазоне, на какой только способен женский голос, словечки из богатого лексикона дам из «Американки».
Испуганные жильцы дома Дульских и соседних домов, растерянные, бледные, стояли, онемев, у своих окон и на балконах. Почтение к исступленно сражавшимся не на жизнь, а на смерть, словно приковало всех к месту. Только некая старая дева послала служанку к Дульской с требованием немедленно прекратить это безобразие. Дульская, в свою очередь, откомандировала дворника, и он робко потребовал, чтобы Матильда Штрумпф проследовала для дальнейшего урегулирования спорных вопросов в глубь апартаментов.
— Вот еще! — закричала кокотка.
— Извините, пожалуйста, пани хозяйка просила передать вам, что стыдно так обращаться со старым человеком, ведь люди...
Он не смог докончить, Матильда Штрумпф подскочила к нему с кулаками.
— А чего это твоя хозяйка суется? — кричала она. — Пусть себе за своим сынком альфонсом присматривает да пузо жирное свое отращивает, а я с этим человеком буду обращаться, как мне захочется. Это мой отец!!!
После сего торжественного признания бледная физиономия Дульской скрылась за гардинами, висевшими над кухонными дверьми. Как сумасшедшая понеслась Дульская по квартире, а наткнувшись на развалившегося на кушетке Збышка, прокляла его до восьмого колена.
Но это ничуть не помогло. Збышко как лежал, задрав ноги, так и остался лежать, а кокотка по-прежнему разгуливала по балкону, на свой лад исполняя четвертую заповедь.
* * *
Однако все это были мелочи в сравнении с тем, что наступило потом.
Кокотка привезла к себе ребенка.
Того самого ребеночка, что жил до этого в деревне.
Это был маленький мальчик, лет четырех, худой и жалкий, одетый, несмотря на жару, в бархатный костюмчик.
Но когда этот ребенок в первый раз показался на балконе, весь дом и все окрестные дома Лычаковского квартала загудели, как улей.
Ребенок был черный.
Вот так. Личико, ручки, голые худые ноги в красных носках — все было черное. Это не была великолепная чернота, какой отличаются истинные негры, однако темно-кофейный цвет убедительно свидетельствовал об экзотическом происхождении отца. Огромные глаза мальчика издали сверкали белками. Было в нем что-то от обезьянки, что-то от человека, когда он покорно и тихо стоял, ухватившись за железные прутья балкона.
Пронзительная тоска, текущая из глаз маленькой обезьянки, подыхающей в позолоченной клетке.
И трепещущий под темной оболочкой загадочный, кроткий, попранный дух.
* * *
Все это неожиданно тучей нависло над домом Дульской.
Когда слуги доложили о случившемся хозяйке, ее словно громом небесным ударило. Все, что кокотка вытворяла до сих пор, казалось ерундой в сравнении с последней выходкой.
Негритянский ребенок!..
Ужас!
Черное, несмываемое пятно на безупречно чистом доме.
Дульская перестала есть, прибирать, ссориться, ругаться. Она слонялась по дому, что-то обдумывая и прикидывая. Она чувствовала, что ее засмеют из-за этого маленького негритенка. От нее не скрылось, что любопытные со всего квартала, проходя по их улице, останавливаются, в надежде хотя бы через окно увидеть «черномазого». И день, когда на центральном балконе ее дома появился маленький негритенок, прижимавшийся к вычурной балюстраде, был для Дульской днем страшной печали и отчаяния. Такая вывеска была для дома во сто крат хуже, чем все коляски и автомобили, которые теперь постоянно без всякого стеснения подкатывали к воротам.
Это было всем зрелищам зрелище, невиданное, цирковое и чудовищное.
Дульская совсем повесила нос. Слава о негритянском уродце росла с каждым днем. Збышко как-то в приступе хорошего настроения предсказал, что, весьма вероятно, в местном «Нуво сьекль» очень скоро появится рисунок «на злобу дня», на котором будет изображен дом Дульских с негритенком на центральном балконе. Дульская поверила и впала в еще большее отчаяние.
* * *
История черного ребенка Матильды Штрумпф была печальная и короткая. Он был плодом ее увлечения кекуоком и, подобно кекуоку вертляв и уродлив. Все вечера мальчик проводил в одиночестве, заключенный, как в темнице, в комнате Матильды, которая с наступлением сумерек исчезала, шурша шелками. Старый еврей гасил свет и, заперев двери на ключ, уходил до поздней ночи. Напуганный, несчастный негритенок оставался в квартире один. Однажды ночью, когда он спал, лежа на ковре в гостиной, что-то разбудило его. Может, это был луч месяца, или сердечный спазм, или голод, а может, тоска по широким полям, где шумит сахарный тростник и блестят согнутые черные, лоснящиеся спины.
Что-то разбудило маленькое черное созданьице.
Он встал на коленки.
Засверкали белки.
Негритенок завыл.
Ох, как жалобно!
Так воет бездомный пес, так первобытный человек, наверно, взывал о помощи. Но никто этого не слышал — гостиная Матильды Штрумпф граничила с ванной и кухней молодоженов.
Никто не слышал, кроме одного существа. Это была кухарка молодоженов, святоша, которая уже много лет на прикарманенные «сэкономленные» деньги выкупала маленьких китайчат, негритят и прочих экзотических чучелок, сотворенных из плоти и души.
Сын Матильды Штрумпф не давал покоя Магдалене Оныжек. Она тяжело вздыхала, глядя на его некрещеную головку. И, когда среди ночи она услышала сквозь тонкую перегородку, как скулит ребенок, она сразу сообразила, в чем дело, вскочила с кровати и, одевшись, выбежала на балкон.
Действовала она энергично: выбила стекло в спальне Матильды Штрумпф, отворила окно и без церемоний вторглась внутрь. Быстро обнаружив ребенка, она схватила его на руки и притащила к себе на кухню.
Тут она зажгла лампу, напоила мальчика молоком и, повздыхав и посокрушавшись над ним, стала устраивать ему постель.
— Черный, но все-таки человек, божья тварь!
Однако возня Магдалены Оныжек достигла слуха ее хозяйки. Поддавшись любопытству, она встала с кровати и пошла потихоньку на кухню.
Войдя туда, она, совсем того не ожидая, увидела посреди кухни черного голого чертенка. Спросонья она не могла попять, откуда это чудище появилось в доме, и, вскрикнув, упала без сознания.
Дело осложнялось тем, что молодая была в интересном положении.
Наступила пора мучительной неизвестности — какого цвета будет ожидаемый инфант.
Ведь, говорят, — оттого, что заглядишься...
В доме поднялся ужасный шум. Все с негодованием ополчились на Дульскую, которая, допуская подобные безобразия, готовит катастрофу.
Дульская поняла, что надо сказать решительное слово. И она его сказала. Она настигла кокотку, когда та проветривала на балконе свои кружева и нежила пышные телеса. Величественно и с достоинством, озаренная блеском яркого июльского солнца, Дульская потребовала от Матильды Штрумпф немедленно удалить маленького негритенка из дому. И отступила в ожидании ответа на порог своей кухни.
Двери и окна всюду были закрыты, настороженные слушатели припали к щелям. Только жена кондуктора отважилась выйти во двор да в воротах стоял, философски опершись о метлу, дворник и рядом с ним — прачка Марианна Зыгмусь.
Пани Дульская приготовилась к страшному бою.
Но, как ни странно, Матильда Штрумпф была в этот день милостиво настроена. Она взмахнула кружевами, сверкнула плечами, встряхнула гривой, оскалила зубы и небрежно бросила:
— Что?
Пани Дульская повторила свое требование.
— Что-о?
Пани Дульская побагровела.
Кокотка покатилась со смеху. Этого Дульская никак не ожидала. Она подошла поближе и, хотя слова застревали у нее в горле, снова заговорила:
— Я не хочу, чтобы вы держали у себя этого ребенка.
Кокотка пожала плечами.
— А я не хочу, чтобы вы держали у себя своего сынка.
Дульская поперхнулась.
— Как вы смеете равнять моего сына со своим чудовищем. Мой сын порядочный, в законном браке рожденный, не то что...
Кокотка была великолепна в своей невозмутимости.
— Ну, это все равно. Мой сын, хоть он и черный, никогда не будет лоботрясом и альфонсом, вроде вашего...
Тут жена кондуктора сочла уместным прийти на помощь своей хозяйке.
— Это настоящий скандал! — кричала Одерванкова визгливым голосом. — Мало того что позор на всю улицу, так она еще смеет оскорблять благородную женщину...
Теперь возмутилась Матильда Штрумпф. Перевесившись через балкон, она глянула на двор и виртуозно сплюнула.
Вслед за этим она извергла целый поток немецких слов, из которых ни Дульская, ни жена кондуктора, ни прачка не поняли ни одного, однако тон кокотки и ее возбуждение не оставляли сомнений в том, что выражения это были крепкие и оскорбительные.
После этого Дульская подала жалобу в суд — жалобу на свою жиличку Матильду Штрумпф, лицо свободной профессии, с просьбой привлечь в качестве свидетелей: мужа — Фелициана, жиличку Зофью Одерванкову, прачку Марианну Зыгмусь и дворника Якуба Чарнорыйского.
* * *
Вот почему пани Дульская среди недели (вопреки традиции) готовит себе и мужу чистое белье, тяжко при этом вздыхая.
II
Небольшие, грязные и мрачные сени. Передняя, ведущая в зал, где судят склочников.
Это своего рода химическая чистка, где отстирывают нечто белоснежное, как шкурка горностая, что каждый человек, хочет он того или нет, носит в себе и что называется... честью.
Есть только два средства смыть с нее пятна: кровь или судебный приговор.
Дульская выбрала второе.
И вот она сидит, вырядившись, будто на праздник, но, на ее взгляд, вполне прилично и солидно. Шелковое платье фиолетового цвета, поверх него пышная пелерина, а на голове нарядная шляпа с темным пером. Под шеей приколота стеклянная брошка со всякими сувенирами: листочками, волосами и прочим. В руках у нее зонтик, сумка, платок и лорнет в роговой оправе. Этим последним она орудует неуверенно, так как приобрела его недавно и не знает, как им пользоваться.
Держится она серьезно, сосредоточенно, с достоинством. Рядом с ней Фелициан, в новом галстуке, еще более загадочный, нежели обычно. Он сидит с левой стороны, так как Дульская «на глазах» у людей строго блюдет достоинство законной жены, коей отведена правая сторона в супружеской чете. Справа от Дульской уместилась испуганная и робкая Зофья, в замужестве Одерванкова. Она в своем знаменитом желто-зеленом платье, неизменном сером пальтишке и шляпе с вылинялой лентой. От светлых перчаток дам сильно разит бензином.
Дульская и ее свидетельница преисполнены почтением к закону, — еще бы, они уверены в победе.
Пани Дульская настолько не сомневается в успехе, что распорядилась дома приготовить семейный кофе и испечь бабку с двойной порцией изюма. В комнатах было прибрано, все до пылинки выметено. Дульская задумала даже поход всем домом к исповеди и генеральную стирку, но отложила это на следующий день.
Она сидит теперь и милостиво улыбается своим свидетелям: Якубу Чарнорыйскому, дворнику, являющему собой прекрасный образец жертвы ревматизма, заботливо взращенного в подвалах домовладелицы, и Марианне Зыгмусь, прачке, которая чувствует себя в суде по-свойски, со всеми накоротке.
Матильды Штрумпф — и следа нет.
— А этой-то нету... — говорит Зофья Одерванкова.
Дульская иронически усмехается.
— Успеет еще стыда натерпеться!
— А может, она совсем не придет?
— Ну тогда ее засудят заочно, все равно.
— И к чему ей это?
— Ну она такая... привычная.
— А что ей будет?
Дульскую как будто взорвало.
— Как что? Посадят под арест. А если присудят штраф, я не соглашусь. Пусть посидит. Посмотрим, как ей понравятся арестантские харчи да нары. Подержу ее до осени.
— Ой-ей-ей...
Зашумело-загудело.
В зал вошла Матильда Штрумпф, одетая с необыкновенным шиком. На ней было белое батистовое платье, украшенное лентами, сверху накинуто легкое кимоно в мелкую клетку, огромная ярко-красная шляпа с громадной розой и высокой головкой в стиле ампир. Элегантный зонтик, элегантность в каждой мелочи, в каждом пустяке, а из-под шелковой нижней юбки изящно выглядывают прелестные ажурные чулочки.
Она вошла как май, как чудо, в грязь, духоту, уродство судебного зала, благоухая, словно духи в хрустальном флаконе.
За ней увивался молодой адвокатик, элегантно одетый, с портфелем под мышкой.
Все бездельники, заполнявшие скамьи, лихорадочно заерзали на своих местах и встали.
— Адвоката взяла! — прошипела на ухо Дульской Зофья Одерванкова.
— Это ей не поможет!
— Жаль, что и мы не взяли...
— Зачем? — пробурчала Дульская. — У меня язык лучше всякого адвоката, да и потом, господь бог с нами.
Кокотка уселась напротив Дульских и рассматривала их сквозь лорнет, оправленный в золото и рубины.
— Нахалка! — шикнула Дульская и принялась обмахиваться носовым платком.
* * *
Наконец приступили к слушанию дела Штрумпф — Дульская.
Обе стороны предстали перед судьей.
Судья был мужчина средних лет, хорош собой, жена его сейчас как раз отдыхала на курорте. Когда Матильда Штрумпф, шелестя юбками, подходила к столу, он окинул ее внимательным взглядом.
Дульская через весь стол протянула судье вонявшую бензином руку. Судья удивленно посмотрел на нее и предложил всем занять места.
— Садитесь, пожалуйста.
Дульская смешалась, но и виду не показала.
Кокотка села прямо напротив судьи, рядом со своим адвокатом, и стала весело с ним разговаривать. Она шуршала своими тафтовыми юбками, бренчала брелоками и бросала жгучие взгляды на судью.
Пани Дульская, усиленно выказывавшая свое почтение к поборникам справедливости, захотела скомпрометировать кокотку и расположить судью в свою пользу.
— Ах, моя дорогая, как она себя ведет! — громко сказала Дульская жене кондуктора. — Никакого почтения к трибуналу!..
В это время некий худой, тщедушный господин со скучным видом встал с места и монотонным голосом прочел обвинительный акт, пытаясь при этом заглушить жужжание мух, которые роями носились в воздухе, нарушая белизну стен и потолка.
Наконец началось следствие.
Оказалось, что кокотке, по ее словам, двадцать четыре года. Пани Дульская руками развела, услышав такое безбожное вранье, и обратилась к судье:
— А я скажу вам правду, вельможный судья. Мне не к чему скрывать свои годы. Мне сорок четыре. Как раз на святого Флориана стукнуло. Мне было ровно двадцать, когда родился мой первенец. Жизнь моя текла спокойно и добропорядочно, уважаемый судья!
Но судья, не повышая голоса, заметил:
— Это к делу не относится.
Дульская чуть не подпрыгнула на стуле.
— Извините, уважаемый судья, но мне хотелось, чтобы вы знали, кто перед вами, кто такая я и кто эта женщина...
Судья сухо прервал ее:
— Простите, пожалуйста, но вы должны отвечать только на мои вопросы.
— Но все же...
— Довольно!
Кокотка мило улыбнулась и стала коротко и внятно отвечать на вопросы, не навлекая на себя упреков судьи. Пани Дульская поняла это, несмотря на то что была в крайне раздраженном состоянии и почти не владела собой.
— Вы замужем, девица или вдова? — спросил судья кокотку.
— Я разведенная.
— А вы? — спросил он у Дульской.
— Я замужем! — победоносно зазвучал ответ.
— Дети есть?
— Сын и две дочери. Сын служит в прокуратуре казначейства. Его как раз посылают за границу! — поспешила сообщить она, не замечая, что все посмеиваются над ее ответами.
Дело шло быстро. Судья не выносил мух и жары. Он остановил бесконечный поток красноречия пани Дульской и вызвал свидетелей. Первой предстала желто-зеленая фигура Одерванковой. Увидав, что служитель зажигает огарки свечей у распятья, она не на шутку испугалась. Дульская успокаивала и подбодряла ее. Зофья Одерванкова присягнула еле слышным шепотом, сообщила, что ей тридцать семь лет, и начала показывать. Она долго и пространно говорила о наглости подсудимой и о том, как много натерпелись от нее панн Дульская и ее жильцы. Краснея и заикаясь, она упомянула о негритенке. Дульская все время подсказывала ей, несмотря на то что судья сдерживал ее и неоднократно призывал к порядку.
— У меня нет, уважаемый судья, рукавов — как флаги с кружевами. Я рукавами балкона не подметаю! — выпалила вдруг пани Дульская.
— Я прошу говорить по существу! — прикрикнул на нее судья. — Свидетельница, расскажите, как было нанесено оскорбление словом, свидетельницей чего и была свидетельница.
— Ах, в тот день происходило что-то ужасное. Эта женщина почти... я прошу прощения у уважаемого судьи, что такое скажу... раздетая бегала по балкону. А за день до этого ее ребенок, черный, уважаемый судья... черный...
— Ну и что?
Пани Дульская быстро вставила:
— Очевидно, муж этой дамы был негром. Мне кажется, уважаемый судья, одного этого достаточно!
Она сложила руки на животе и победоносно посмотрела на Матильду Штрумпф.
Та закачалась на стуле, поднялась, показала белые зубы и прыснула со смеху.
— Да, это правда! Негр! — ликующе подтвердила она, продолжая хохотать.
Возмущенная Дульская схватилась за голову.
Вслед за Матильдой рассмеялся ее адвокат, ему завторил писарь, потом еще какие-то типы, сидевшие в зале. Даже сам судья не смог сохранить важности. Все сотрясалось от смеха над этим союзом Матильды Штрумпф с неизвестным негром.
Лучи солнца играли на бумагах, заваливших стол, танцевали кекуок в бриллиантах кокотки. В угрюмой прачечной запятнанной чести стало светлей и радостной.
Лишь пани Дульская и Одерванкова, явно сбитые с толку, озабоченно смотрели друг на друга.
— Они смеются, — шепнула Одерванкова.
Дульская тоже выдавила улыбку.
— Моя дорогая, это такая низость, что только и можно смеяться либо плакать.
— Ну, все-таки...
— Тс-с!
Снова приступили к допросу Зофьи Одерванковой.
— Что именно произносила подсудимая, какие оскорбления?
Одерванкова немного растерялась.
— Эта особа говорила, верней, орала, по-немецки. Последними словами оскорбляла хозяйку, а потом меня и всех. Обзывала наших сыновей... моего Оляфека, которого я родила в таких муках...
Тут Одерванкова потихоньку заплакала.
Пани Дульская успокаивала и утешала ее.
— Успокойся, моя дорогая, вот вернется муж из поездки, уж он им покажет.
Судья смотрел на рыдающую даму стеклянными глазами.
— Итак, — начал он, — что же все-таки подсудимая говорила?
— Ну что такая может говорить, — вспылила Дульская. — Вещи, которые из уважения к суду невозможно повторить.
Тут вмешался адвокат Матильды Штрумпф:
— Простите, свидетельница понимает по-немецки?
Наступила минута молчания.
Зофья Одерванкова вспомнила про присягу, и ее охватил страх.
— Вы понимаете по-немецки? — повторил судья.
— Нет, уважаемый судья, — тихо и как бы стыдясь, призналась Одерванкова.
— Тогда ваши показания окончены.
Зофья Одерванкова вернулась на скамью около печки, сопровождаемая убийственным взглядом Дульской, которая, раскаявшись в нелишней щепетильности по отношению к своей жиличке, решила немедленно повысить ей квартирную плату.
Следующим свидетелем был Фелициан Дульский.
В сюртуке, в новом лиловом галстуке он выглядел вполне прилично. Было очевидно, что он решил ничего не говорить. Показания его ограничились присягой. Пани Дульская сообщила суду, что он присутствовал на кухне в критический момент, но когда она захотела и дальше показывать за свидетеля, судья велел ей замолчать.
— Итак, вы ничего не слышали?
Фелициан покачал головой.
— Спасибо!
Фелициан поклонился и пошел к выходу. Что-то вроде злорадной усмешки промелькнуло на его тонких губах, когда он столкнулся с яростным взглядом жены.
Следующая свидетельница, Марианна Зыгмусь, прачка по профессии, влетела, как бомба, в своем толстом платке и хорошо накрахмаленной юбке и с реверансами и поклонами подбежала к столу.
— Низко кланяюсь уважаемому судье, вельможной хозяйке и вельможным господам! — радостно прокричала она.
Ее лицо, усыпанное веснушками и похожее на индюшачье яйцо, сияло. Она улыбалась всем и вся, явно чувствуя себя в суде как дома. Причина этого обнаружилась тут же.
— Судились ли вы прежде? — спросил ее, между прочим, судья.
— А как же, — смеясь, ответила Марианна.
— Сколько раз?
— Много.
— За что?
— А бог его знает! За всякое. Вечно какие-нибудь склоки. Ведь у нас, простых людей, известное дело, как до драчки дойдет, так мы в суд...
И она весело улыбнулась пани Дульской и кокотке, не подозревая при этом, что вогнала Дульскую в краску.
— Так как же это было? — спросил судья.
Он лениво растянулся на стуле и впился глазами в Матильду Штрумпф, разрумянившуюся от жары и особенно соблазнительную и красивую.
— А что там, а я и не знаю! — выкрикивала Зыгмусь.
— Как так не знаете, — вспылила Дульская, — ведь вы же были на дворе.
— Была-то была, но вы уж меня извините, уважаемая хозяйка, да я только то и видела, как вы друг за другом по двору гонялись. А вот прачка мне говорила в лавке, что это все из-за жены кондуктора, — мол, когда кондуктор в отъезде, так она к себе через окно кого-то там пускает... Я-то не знаю...
Вот так история!
Судья стукнул по столу.
— Это к делу не относится! Речь идет об оскорблении!
— Э! Оскорблений я никаких не слыхала!
— Можете идти!..
Следующий свидетель, дворник Чарнорыйский, ревматик по профессии, показал в том же духе. Ничего не слышал, ничего не знает. И тут же выложил, что получает четыре гульдена в месяц, работает круглые сутки да еще из тех же денег покупает керосин для освещения всего дома, и вообще он всегда спит от усталости и поэтому никаких оскорблений слышать не мог.
Выложив все это, он вместе со своим ревматизмом, и подвальными запахами, коими был пропитан насквозь, направился к выходу.
На лице у пани Дульской выступили лиловые пятна, но она продолжала сидеть на месте, все еще уповая на божескую и людскую справедливость.
* * *
Но она обманулась в своих надеждах.
Совсем обманулась.
Адвокат отказался от слова, а судья встал и прочел приговор, по которому с Матильды Штрумпф снималось обвинение.
За отсутствием улик.
Дульская еще сильней побагровела, а потом побледнела. Кокотка смотрела на нее сквозь стекла своего лорнета. Дульской казалось, что в этой комнате свершилось страшное преступление — подкуп. Не в силах сдержать себя, она, собравшись уходить, прошипела:
— Не нам, бедным людям, судиться с теми, кто золотом бряцает.
Судья внимательно посмотрел на нее.
— Что вы сказали? — спросил он резко.
Но пани Дульская, — это всегда бывает с наглецами, — струхнула перед лицом власти.
— Ничего, уважаемый судья, — произнесла она, откланиваясь.
— Я советую вам следить за своими словами, — бросил ей на прощание судья, — а то ведь за них можно и к ответу привлечь.
Дульская вышла, расталкивая всех по пути. Она даже не взглянула на Одерванкову, убитую предчувствием ожидающего ее повышения квартирной платы. Фелициан давно исчез, не дожидаясь приговора.
Дворник и прачка низко поклонились вельможной хозяйке, но она не удостоила их своим вниманием. Дрожа от негодования, высоко задрав голову, она вышла на улицу.
«Вышвырну всех этих каналий, мерзких и подлых скотов, — решила она, — а судья наверняка любовник этой негодяйки...»
Она горько усмехнулась.
«Что ж! Не нам, порядочным женщинам, тягаться с такими! Но лучше проиграть, чем выиграть такими средствами. И я, если бы захотела, могла бы выиграть...»
* * *
Спустя полчаса в доме Дульских воцарилась гнетущая атмосфера.
Ничего похожего на семейный кофе и в помине не было. Вернувшись домой, пани Дульская отказала обеим служанкам и дворнику от места, а Одерванковой и прачке — от квартиры. Кофе она велела спрятать «на завтра» и, с яростью схватив бабку, заперла ее в буфет. Онанео дала Гесе денег на тетради, а Меля получила хину без облатки. Она повсюду искала Збышка, чтобы выместить на нем свой гнев, но его и след простыл, так же как и Фелициана. Тогда она скрылась в спальне и погрузилась в мрачное молчание.
На балконе полуголая кокотка, демонстративно держа на руках меланхолического негритянского ребеночка, пела сильным, надрывным голосом:
Man ist so alt, wie eine Kuh,
U nd lernt man immer was dazu[2].
Лидо, 1908
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





