ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
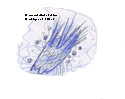


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Снегова Ирина 1978
Снег, крупный и быстрый, идет крест-накрест. Тает, не успевая лечь, и асфальт блестит как деготь. И от мелькания над чернотой делается еще неспокойней. Ясно понимая, что хуже дня не найти, что хозяин — собаку... я опять отправляюсь к Сереже.
А в зоопарке оказалась зима. Как за тридевять земель. Все бело. И с неба, утратив нервозность, степенно летят, стружкой, хлопья. По-давнишнему большие. Потому что уже у входа вступило это давнишнее, зоопарковое чувство, в котором живо все сразу — и звери, и пони по кругу, и вафли трубочкой с розовой пеной внутри. Было только непривычно пусто вокруг: в такую погоду — кому нужно? Мне было нужно.
На пруду голосили утки. Заметно отрывался чей-то высокий, похожий на волынку крик. Он поднимался, шел вспять, в глубь зоопарка, обращенный к нему и, наверно, слышимый в нем всеми.
С тех пор как Сережа здесь работает, чуть не каждый день узнаю я что-нибудь про это государство. И не только о копытных, которых он обихаживает. Новости обо всем и всякие. Бывают смешные, бывают печальные. Самая большая для меня новость — Сережа. Смотрю на него, теперешнего, и соглашаюсь, что маленький ребенок — это один человек. Побольше — совсем другой. Юноша — муж, старик — просто разные люди.
Конечно, Сережу, сына моих ближайших друзей, я вижу с рождения день за днем. И все-таки... Был тоненький и беленький, ему говорили: «Ну, все. Не будешь больше? И — ладно! Мы прогнали плохого мальчика, плохой мальчик ушел в лес — и теперь к нам пришел хороший...»
Не знаю, в какой лес ушел плохой мальчик, а потом скоро-скоро за ним и хороший, но Сережа теперь вдруг взрослый, красивый, с темной бородой. Он встает чуть свет, заглатывает завтрак и мчится сюда, к служебному входу. Ждут. И сколько их! Ртов и глаз. Он говорит: «Мне их глаза даже снятся». И уже не надо его заклинать вставать и разъяренно сдергивать одеяло. Наоборот, некогда, бегу. Ну, какое горло, и не так уж болит, и вообще не болело!.. Как-то даже ночевал здесь: у антилопы роды принимали, двойню. Все обошлось. И аитилопочки появились и — стоят. Природа. Ждать некогда.
А недавно слониха у Сережи полсапога съела. Резинового, казенного. Терлась, терлась, пока корм закладывали, и хоботом — раз. Ох, эта слониха! Чудо. Закладываешь килограммов сто, вывозишь — взвесить бы — пятьсот! И откуда берется? Может, от кормовых дрожжей? С ума с ней сойдешь.
Иногда говорит трогательное: привезли горилленка. Простудился. Так в изоляторе до того скучает, что человека не отпускает. Скулит и палец сосет. Ребенок. Ему и нужен детский врач, педиатр.
Редкий день не прибавляет Сереже синяков и ссадин. То лам перегоняли: обхватишь за шею, голову к себе прижмешь, чтобы не пугалась. То лань обездвиживали, копыта подрезали: они ведь как ногти растут. Вместе с Сережей вечером в дом входит дух зоопарка. Сначала ужасались: сил нет! Потом притерпелись. И к железной табличке на двери Сережиной комнаты: «Ввиду крайней опасности за барьер не заходить!»
Посетителей он не хвалил: надоедливые и все говорят одно и то же. Около зебр, например, обязательно: «смотри, матрац»; иногда — «тельняшка», реже — «пижама». Перед верблюдами — «сейчас плюнет»; у попугаев — «попка дурак».
Разговоры «в секции», новости «в науке». Кого куда переместили. И зверей, и людей. Недавно целый вечер удивлял: читали у них лекцию о филиппинских медиках, не медиках — исцелителях, как их там называют. Операция, представляешь? Ни ножа, ни наркоза. Только руки. Поглаживания, пассы. Брюшина под пальцами сама расступается. Все!.. Ну, боже мой, тетя Ира, ну почему невероятно? Просто, говорят, у этих филиппинцев в пальцах что-то вроде лазеров. И сосредоточенность. Полная. Да, вот еще что. Говорили, если во время операции исцелитель этот подумает о выгоде там, о славе — ничего не выйдет.
В антилопнике пахло конюшней. Стоял тот самый, давнишний, запах звериного жилья, который был и тогда, когда тебя подымали, чтоб дать разглядеть, а потом ты подымал, чтоб приблизить, чтоб увеличить блаженство. Наше, наших детей, а доживем — и внуков.
В антилопнике тоже никого нет. Только звери. И все жуют. Час кормления, видно. Жуют. Сначала будто сплошь одинаково, а потом различно. Громко, четко, как солдаты по шоссе шагают, жует зебра Дунай. Коренастая лошадка, самая беспокойная из всех. И отчего это? Соседи, такие же зебры, целый день смирно стоят, а Дунай отчаянно грызет кормушку, бьет копытами или, не останавливаясь, бегает по клетушке. По диагонали — взад-вперед, взад-вперед. Мечутся протестующие полоски. И входить нельзя. Опасно.
— Ничего особенного, — говорил в прошлый раз Сережа, — просто нервное животное.
В угловой клетке, как-то обиженно посверкивая темными глазами, паинькой сидит кенгуру. Маленькой лапой-ручкой берег из миски белый кусок сырой картошки, подносит ко рту и звонко и задумчиво грызет. Иногда этой же ручкой будто что смахивает с морды. И опять ест. А в сумке у нее, на животе, голова. Выглядывает. Черный нос и уши торчком.
Жуют. Всякий по-своему. Нехотя, как-то даже пренебрежительно, жует нильгау Декабрь — здоров ли? А Жемчужина, его мать, наоборот, перемалывает быстро-быстро. Торопится. И сыто уже, прикрыв глаза, дремлет старый замбар Вулкан. Накренились желтые рога. Один из них скоро ляжет на мой стол. Сережа принесет — на память. Читала в том детском письме? «Вы спрашиваете, как живет мой еж? Он живет плохо. Он умер...»
Хожу вдоль толстых решеток. Смотрю и словно здороваюсь. В общем, мы уже знакомы. В прошлый раз Сережа представлял и мне их, и меня. И все казалось, а вдруг они думают: а из кого это у нее шуба?.. Я знаю уже, кто каков, с кем в родстве. Знаю, что красавица Полина, с высокой шеей и шелковистыми круглыми ушами, жена Вулкана. Он спит. Она смотрит куда-то вверх коричневыми глазами; в окно, где идет снег. Глаза у них тут блестящие, тихие. Ведь это они и есть — волоокие?
Сережа подошел неслышно (или жуют громко?), чмокнул, наклонившись:
— Вот молодец, пришла! И вид сегодня другой. Просто отличный вид. Ну, побудь с ними, я сейчас...
С ведрами в руках он прошел куда-то насквозь. Клок красной ковбойки болтается на плече. Пустяки.
— Дунька хватила (нервное животное).
И опять было ясно: прошел другой человек, может, и не родственник тому, который столько раз входил в комнату, одной рукой сжимая горло, другую вдавливая в живот. И с непомерным страданием тогда еще в светло-карих глазах говорил, морщась и изгибаясь:
— Мам, болит... В школу... не могу. Ну, поверь, раз в жизни!
— Что болит-то? Реши сначала, — бесчувственно спрашивала мама.
А Сережа, перехватывая руки с живота на горло и наоборот, причитал:
— Просто все, поверь...
А чуть постарше оставлял записку:
«Мама! Я действительно серьезно болен. Не буди меня завтра.
Твой сын Сергей».
И добавлял внизу отчаянное: «Очень прошу!»
Грешница, потатчица, сколько я вступалась: пусть отдохнет, пусть — слабый ведь мальчик!.. А мать вздыхала. А иногда подымала такие же большие и карие, как у Сережи — да что у Сережи! — как у замбарши Полины, глаза и говорила:
— Был бы жив папа — было бы все другое. Был бы жив...
Папа Сережин умер десять лет назад. Он был детский писатель. Выпустил книжку рассказов. Во многих из них есть мальчик, который трудно сносит обиду, несправедливость — взрослых или судьбы.
И вдруг грохнуло. Гром. Трубный глас. Огромный гну Савва взревел и, сотрясая металл загородки, ударил в нее головой. Серая громада раскачивалась; выставились, будто выросли вдвое, рога. Савва гудел, как иерихонская труба и океанский лайнер, взятые вместе. Яростно и печально. И, сказать по правде, жутко. «Очень опасно» зря не напишут.
Из задней дверки торопливо вышла старая женщина в теплом платке (Сережина начальница?) и быстро — к Савве.
— Ну, Саввушка, ну что ты, милый? — заговорила она с ревущей махиной. Говорила и как с маленьким, и как с равным одновременно. И уже конечно как с понимающим каждое слово. — Ну, чего тебе, чего?.. Тоскует, — сказала она и себе, и мне.
А Савва стучал и кричал, как целый табун. В соседних загонах притихли и перестали жевать.
— Ну, будет, ну, полно, Саввушка! Скоро лето! Переведем. Веселей станет, — говорила женщина (кажется, тетя Зина). Твердила тихо, вразумляюще: скоро!
Савва ударился головой еще раз, взревел, но уже поглуше, потоптался и стих. Даже как-то смущенно. Может, понял: какой смысл? И — скоро лето... Кто знает, что он понял. Отношения между живущими на земле несовершенны.
Я подошла к нему. Он приподнял веки и уставился смирным, нестрашным, темным навыкате глазом. Чуть придвинулся. Я отстранилась, спряталась за столб клетки; Савва переместился и заглянул слева. Я опять отодвинулась, и он опять заглянул — с другой стороны. Выходило, мы играем в детские прятки. Ку-ку. И каждый раз все повторялось, и мне самонадеянно казалось, что каждый раз, когда Савва находил меня, во тьме его глаз просвечивало что-то очень похожее на радость.
— Переживаешь? — появился Сережа. — Но нам же говорили на лекции: у животных нет понятия воли. И если они бегут, то бегут по инстинкту бегства, а не воли. Не — к, а — от! Им нужно укрытие и корм. Они здесь и проживут дольше. Лоренц, правда, пишет, что, хоть на час, клетки открывать нужно, «чтоб не было психической травмы». Они вернутся. Привыкли. Но хоть бы на час в день.
Я слушала и жалела, что в антилопнике нет людей и никто не видит, как я разговариваю с таким выдающимся человеком. Никто, кроме четвероногих, а они и сами знают.
Вот в прошлый раз всласть погордилась: у клетки тигрицы Иманки. Снег, солнце, толпа. А Иманка — полосатая, совсем огненная: от снега и солнца. Дремлет. Подошли. Сережа присел у клетки. Иманка глянула и — бог мой! — к ликованию всех, вскочила, заиграла.
— У, веселая! Гляди, гляди! Знает! — задвигалась публика, деля восторг между тигрицей и Сережей. А Иманка играла. Присядет, подбежит, изготовится и — отпрянет. И, наконец, в предельном кошачьем кокетстве повалилась навзничь, совсем около нас. Вот был успех!..
Хлопнула дверь, и вошли посетители. Первые сегодня?
«Эк его расписало! Пижама, и только!» — с ходу вступил мужской голос. «Болгарская!» — старательно подхватил женский. Я оглянулась. Где-то я их... Его — безусловно. Нет, и ее. А, да какая разница! Пускай. Не с моей памятью!.. По мне вечно все на всех похожи. Нет, все-таки они. А парень — сын, значит.
— Пап, чего он бегает, полосатый?
— От дурости. Потому.
— А кенгуру плачет?
— Плачет! Выдумай! С чего ей? Глаза трет, делать нечего. Потому. Их бы запрячь — не плакали бы!..
Он, видно. И что это, кого хочешь встретить — не встретишь; хочешь не забыть — забудешь, а ерунда всякая...
Тогда, давно, проходила я где-то по Садовой, у Бронной. Обернулась на разговор. Между прочим, шел тоже снег. И сырой. И был, помню, мой невеселый день. Сзади шагали двое — они. Он (он же!) поменьше, щуплый, она — выше. Идут быстро. Обгоняют. Он ее под руку держит, помню, локоть в локоть, цепко.
— Что! Красавицу на три дня я себе всегда найду. А мне вроде тебя нужно. Потому — муж главарь семьи. Понимаешь? Вот мать моя в войну ничего не ела, мне все отдавала. И правильно. Потому — мать. Должна. Так и жена. А красавицу на три дня...
Оттого я их, наверно, и запомнила тогда, что едва удержалась, чтоб не крикнуть: «Не выходите за него, ни за что!» Вышла, значит.
Может, в самом деле, и в другой раз — тоже он был? Я все смотрела тогда. Теперь видно, что он... Недавно. Такой вот уже, как теперь. Главарь. В соседней палате старуха лежала. Одинокая. Жалели, делились кто чем. Не ела уже. Однажды пришел он (он, он!). Оказалось, есть сын. В Москве. Я видела, как заведующая отделением только что не кричала:
— Как вы говорите, как? «Цитнот» — некогда? Бога побойтесь! По-бой-тесь, «цит-нот»!
Но он не боялся, конечно. Он ходил перед клетками, справный, в теплом пальто и завидной пушистой ушанке, ходил и талдычил:
— А все ты — пошли, пошли. Выдумала. Пешком! Дышать!.. Некогда мне — пешком. Навозом дышать.
О, тогда, может, и тот, шваркнувший перед моим носом дверью кабинета: «Некогда мне! Цитнот!» Но ведь не похож. Похож...
Цит-нот, цит-нот, — странно цокало в ушах. Это снова звонко грызла свою картошку кенгуру. Смешно, а и мне было почудилось, что она плачет. Я только постеснялась подумать.
После антилопника на воздухе было свежо. Не хотелось видеть этих, встреченных, не думать о тех днях, когда прежде видала. Вот ведь кого нужно — не встретишь... Снег мелькал все так же. И, не останавливаясь, ходили волки. Сережа остался переодеваться, и я ждала его здесь, поблизости, у волков. Волки, похожие на немецких овчарок, похожих на волков, смотрели зорко. Словно сторожили. Словно в клетке была я. И опять полезло, раскручиваясь, виденное давно.
Овчарок не люблю, виновата. Да и я ли одна... Каждый век выбирает собаку по себе. Ну там средневековые доги в замках. XVIII век — болоночий, XIX — гончий. XX возлюбил овчарку. Увел ее от овец, к людям. Вкусы наши не совпали. Понятно, и веку, и собаке это все равно...
А вспомнилось, как (смешно сказать!) лет двадцать назад поехала я в Сибирь. Писать очерк о молодом, примерном юристе. Май стоял тропический. В Новосибирске, передавали, жара. И я отправилась в летнем. В райцентре, большом селе, только что повышенном в город, было холодно и до колен вязко. И ветер. Крыши рвал. Я перепрыгивала в своих лодочках и светлых чулках с кирпича на дощечку. Юрист, красивый и толковый, сначала разахался, обещал тут же принести женины резиновые сапоги (не утоните в них!), но назавтра извинился: ревнивая она у меня, не дает!.. А всего больше сидела я в доме для приезжих и грелась, пила чай с единственной, вечной дежурной, очень пожилой, как мне представлялось, женщиной (лет 35). И мы разговаривали. Это она называла «насчет жизни».
— У тебя все обойдется, устроится, ты молодая, — говорила она (кажется, тетя Маша). — Это вот мне уже — чего ждать! — А я ей свое, что ждать надо.
Накануне отъезда, уже все про юриста выяснив, решила я: схожу, посмотрю. Нелепо, 3 000 километров проехать, возле тайги быть — и ничего не увидеть. Пойду. Кто-то сказал: шагайте до водокачки, за ней и есть тайга. Ветер стих, и я, запахнув свое шевиотовое, лицованное из маминого на третью сторону — первая уже отдохнула! — пальтишко, пошла...
Кое-где мостками, где с камня на камень. Долго шла. Вдоль крепких заборов, больших и малых сибирских срубов. Встретила старика, сказал: вон озеро, видишь? Там и водокачка... А потом разом дома кончились. Был пруд. За ним на холме елки. Тайги не было.
Небо, низко-серое, набухшее, провисло. И людей — никого. Пора! Так, ни с чем, повернула я на соседнюю улицу, обратно. И тут они взвыли. За одним забором, за другим, за всеми сразу. Хрипло, с визгом, громче, оглушительно. Я шла вдоль заборов, с камня на камень, медленно. То ли от холода, то ли от рева ноги мои застыли совсем. А они — надрывались. И вдруг лай стих. Сразу, совсем. Они пошли. Отовсюду пошли собаки, как по команде. Из всех калиток, щелей. Огромные, лохматые, волчьи морды. Серые, черные, рыжие. Широкоскулые, востроносые, всякие. Выходили и молча шли. Ко мне, на меня. Шли, не спуская глаз. С детства учена: не двигаться. И стала, коченея. А они окружали, вплотную. Сколько их было? Сколько их могло быть — двадцать — сорок? Мне помстилось — тысяча. Во всяком случае, со всех сторон — морем — собаки. Беззвучно и беспросветно. Может, кто-нибудь и осудит: всего-то собаки, но я догадывалась тогда, как это — волосы дыбом.
Сколько это длилось, стояние мое, — лет сто? Но внезапно, как рухнул, повалил снег. Огромными хлопьями, быстро, крест-накрест. И, еще несколько постояв, одна за другой собаки тронулись. В разные стороны. Неслышно. Помахивая хвостами. Еле тащась, двинулась и я, из лужи в лужу.
Навалив на меня все одеяла, сколько их было, долго сидела со мной моя дежурная. Отпаивала чаем. И причитала: куда пошла? Одна, разутая, на ночь. Какой тебе тайги надо? И как не порвали? Редкость. Окраина. Собаки тут особенные. Чужого не пропустят: ученые, овчары... И долго оттуда, из-под горы одеял, слушала я сквозь сон тихий ее, вразумляющий голос «насчет жизни». И что все будет хорошо. И что лето скоро...
— Не замерзла? В секции задержали.
В курточке, без шапки, Сережа тер залепленное снегом лицо.
— Куда хочешь? А где — веселей? У нас тут везде веселье. Пошли в птичник, но дороге повидаем разного.
— Ну-с, дамы и господа, перед вами олень Давида. Не — какого Давида? — а так называется. Прозван Красулей. Кра-а-суля! — Сережа снял железный засов. Обнял Красулю за шею, снизу. — Пойдем, с тетей поздороваемся!..
Олень был хорош. Высокие ветви закинутых рогов над светло-коричневым телом. Вблизи видно, что рога — шерстяные. Это потому, что молодые, неободранные. Скоро Сережа с зоотехником будут их пилить. Как — зачем? Чтоб самок не обижал. Им же драться тут не с кем, вот и приходится. Они ведь на воле как дерутся... Сцепятся — и кто кого сломит. Потом побежденный от стыда в чащу бежит. И все. Ритуал. Доказать превосходство, самку завоевать... Говорят, насмерть себе подобных бьют только люди и... голуби.
— А вот эта, с порванным ухом, — Леночка. Леночка, Леночка! — Тоненькая олешка обернулась. — На маму мою похожа, правда? Лицом, конечно. А так — потоньше будет... — Сережа засмеялся. — Впрочем, мы всех наших красоток тут Леночками зовем. — Сережа запер ворота, закурил. — Я за маму рад. Хороший он мужик. А тебе нравится?
Мы шли мимо яков, бизонов — к птицам. Под замедляющимся и редеющим снегом. Сережа окликал то одного, то другого знакомца. Рыжего, серого, черного. Они большей частью поворачивали головы и, как мне казалось, узнавали его. И еще мне казалось — может, только казалось, — что смотрели с симпатией, что ли. И что часть ее случайно доставалась мне.
— И как ты их не боишься?! Огромные.
— Почему не боюсь. Как кого. Привык.
Как кого — но любого, я знала, меньше любого из своих заочных профессоров. Не в обиду профессорам.
— Нет, почему! Я ездил сдавать, все знал. И в аудиторию вошел. Но у него было такое лицо, что я решил пойти к доценту. А доцент уже ушел... Я ему все ответил. Понимаешь, все. Но, оказалось, он глухой. А у меня голос тихий... Я поехал, со всеми работами. Честно. Но она вдруг заболела...
Мы шли вдоль оград. Любовались приближающимися мордами, рогами, горбами. Хвостов не поминали.
— Ну, как тебе дышится? У нас лучше? С животными никогда не скучно... Стой! Наклонись, присядь! Скорее!
Верблюжонок бежал за нами вдоль изгороди.
— Мирок, не смей, не смей! — закричал Сережа. — Пошли от него.
Но Мирок вскочил на задние ноги, подтянулся, стал торчком. Толстые губы ухмыляются. Взгляд хитрый. Мы поспешили. Он на задних, боком, скачками — за нами. Потешаясь, примерился и... не плюнул. Напугал!
— Молодой, — сказала я. — Шалит.
— Молодой? Что ты? Этот гуанако старый. Скоро выбраковывать будут.
— Как — выбраковывать? Зачем, за что?
— Ну, не приставай. Пошли. Надо, говорят. Только не начинай: а если бы нас так... «Вы спрашиваете, как живет мой еж?» Полюбуйся лучше на Майю. Поди, Маечка, поди к нам!.. Ты ведь знаешь ее — кинозвезда. Во многих фильмах красуется. Она и Средняя Азия, и пустыня Сахара.
Ровно покачиваясь, отделилась от других верблюдов, поплыла огромная темная Майя. Надменный рот, взгляд сверху и в упор. С царственным расположением она смотрела на Сережу, и опять показалось, что часть приязни — мне.
— Не возгордилась, Майка? Умница, красавица!..
Майя подошла вплотную к прутьям, словно для того, чтобы он ее, невозгордившуюся, погладить мог.
— Любишь меня, лю-бишь?
Майя наклонила голову набок, а может, и кивнула.
Маленький здоровячок, копетдагский баран Яша, стоит стоймя и двупалым копытцем стучит о сетку. Сетка звенит, Яшин милый взгляд снизу — особенно ребяческий после Маиного взгляда сверху. Издалека, через весь зоопарк донеслась волынка — высокий крик утки на первом пруду. Яша повернул голову, прислушался. И опять глянул снизу вверх, сразу как бы спрашивая и отвечая: скоро лето?!
— Хороший Яшка, хорроший! Некогда с тобой! — Сережа постучал по сетке, и она зазвенела громко и тонко.
Потом мы шли мимо кондоров, неподвижно, как скифские бабы, сидевших на пеньках в открытом вольере: крылья подрезаны. Дремлют, как и десять и двадцать лет назад. Цейтнот — нехватка времени? Как раз его сколько угодно. Однако нет уже так поражавшей меня всегда надписи: «Кондор Кузя живет в Московском зоопарке с 1892 г.»
«Смотри, смотри, какая птица! Взмахнула дочка рукавицей. И в этот миг мне показалось, что это мне под триста лет...» Жалела я его тогда. Теперь Кузя на воле. На вечной. «Вы спрашиваете, как живет...»
— Ну, вот и доползли. Ох, с тобой и ходить! Ты, как собачка, у всякого столба останавливаешься. Из вежливости. И дались тебе эти кондоры.
В попугайнике был сумасшедший дом. Кто во что горазд. Дым коромыслом. Всяк про свое.
Хоть куда! Хоть куда! Это горлица, говорит Сережа. А что «хоть куда» — пойми. Жизнь — хоть куда или сбежать — хоть куда?
У волнистых квартирки под номерами. И все свои знают. Не путают. Шастают взад-вперед. В дом, из дому. Носятся, шумят. Птичник! А кто-то выводит трель, на три ноты, значит, поет. Пестрота.
— Помнишь моих первых неразлучников? Давно. Мы ездили за ними еще с папой, на Птичий рынок. — Сережа задумывается. — И куда они потом делись? Растворились. Так никто не признался, что окно открывал. Замерзли, конечно. А бабушка — тогда и бабушка была — испугалась: примета. С птицами у вас все приметы. Улетели — плохо, прилетели (голубь влетел, помнишь?) — к беде. Не из-за них же все случилось.
«Хоть куда, хоть куда, хоть куда! Фюить, фюить, фюю-фюить», — звенело, гремело, металось вокруг.
— Сюда иди, иди сюда! — мне показалось, Сережа позвал меня тем же тоном, что и барана Яшку, и кинодиву Майю, и оленя Красулю. — Иди сюда! Вот к кому я тебя вел.
«Ара гиацинтовый. Семейство гладкоязычных. Бразилия». Лиловато-сизый, короткий, с большой головой, ара сидел, нахохлившись, на верхней жерди. Сережа прижался к сетке щекой и позвал тихо:
— Милый Арочка!
Попугай оглянулся, пристально и удивленно посмотрел вниз: попка дурак? И тут же, цепляясь темным с желтой обводкой клювом, повисая на нем, стал спускаться.
— Внимательная птица. Тихая, — сказал Сережа. — Что-то совсем он замолчал. Уж мы пытались...
Вперевалку Ара подковылял к решетке и прижался к ней головой, тоже щекой. Вглядывался в Сережу. Припоминал?
— Милый Арочка! Милый Арочка! — сказал Сережа, и птица подвинулась еще вперед, чтоб к нам поближе.
— Милый Арочка! — сказала я. А он посмотрел и прислушался. Бразилия... Далеко.
Мы ходили вдоль клетки, и Арочка, переваливаясь, ходил за нами и неотрывно глядел круглыми, не по нему большими глазами. О чем-то же он думал, гладкоязычный, молчащий. В дальнем углу вздыхал, верещал, вопил дурным голосом, подражая сразу всем, скандальный жако.
Мы обошли птичник и перед уходом опять вернулись к аре гиацинтовому. Он все стоял внизу, прижавшись к сетке. Ждал?.. И вдруг, словно ощутив родство, словно поняв, что вот сейчас мы уйдем, совсем уйдем, зашептал торопливо, запричитал: «Милый Арочка, милый Арочка, милый Арочка...» Будто Арочка — это Сережа, или я, или мы вместе.
— Слышишь?! Быть не может... Ты слышала? Как это? С чего? — Сережа стоял, лбом в сетку, и они оба наперебой твердили друг другу: — Милый Арочка... милый... Арочка... — без конца.
Мы все-таки ушли. А вдогонку еще бормотало, цеплялось это гортанное — навстречу лету? — воскресшее: «Милый Арочка...»
Впереди подымались голоса уток и похожий на волынку крик. И с разных концов выкликало и откликалось: скоро лето!
Снег не падал. Блестел. И угадывалось близкое солнце. Дул ветер, откуда-то издалека. А со стороны входа валил народ — дети, папы, бабушки. И, может быть, в толпе именно тот, кто давно не встречался. А если: «О! Ты? Откуда?» — «А ты — кого ищешь?» — «Тебя».
Мы шли, и зоопарк смотрел вслед. И «насчет жизни» все обстояло не так уж скверно. И долго еще провожало то особое, счастливое и вечное, детское чувство.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





