ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Миронихина Любовь 1987
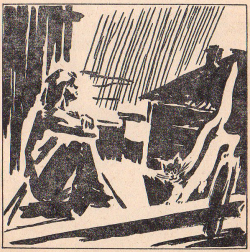
В полночь маленькая веранда, похожая на теремок, и глухой зеленый дворик за домом становятся нашими с котом владениями. Тихо открываю дверь, и мы окунаемся в такую жуткую черноту, что дыхание, запнувшись, надолго замирает. Не дыша, я жду, пока темнота растворится и поредеет, а когда выплывают очертания сарая и погреба, мы пускаемся в путь по узкой тропинке в зарослях лопухов и крапивы. Два окна с тихим унынием глядят во дворик. Не сравнить их с красавцами, что выходят на улицу, — высокими, надменными, с кружевными белыми наличниками. Но эти провинциалы, всю свою жизнь ничего не видевшие, кроме двора и соседского сада, такие безобидные на вид, сейчас опасны: мать, когда ей не спится, бродит в темноте по дому и, облокотившись на подоконник, подолгу смотрит в темноту.
Я крадусь бесшумно, а кот, как всегда, легкомысленно наступает на какую-то доску. Доска гремит.
— Ах ты, корова! — шепотом ругаю я кота.
Я усаживаюсь на порожке сарая, согнувшись в три погибели, чтобы стать незаметней, чиркаю спичкой, спрятанной в ладони, обжигаюсь и прикуриваю. Кот в это время устраивается у моих ног. Он было уселся поуютней в перевернутом ящике, но тут же вскочил и, вытянув шею, смотрит на меня тревожно и выжидающе. Это его взбудоражила ночь — черная, теплая, ароматная, хотя только что он дремал на стуле, уткнув нос в лапы и дожидался, когда я отложу книгу.
За спиной у меня вопросительно хрюкнул поросенок, подождал немного и снова хрюкнул: это значило на поросячьем языке: кто это? А потом: а! Это вы пришли. Кот ушел проведать своего приятеля, а когда вернулся, бок и спина у него были влажными. Я это узнала, потому что он, в порыве чувств, из которых лишь краешек меня задел и был понят, вдруг боднул лбом мою ногу, а потом проскользнул по ней всем своим нежным меховым боком. Тут же развернувшись, он хотел снова боднуть, но я легонько его оттолкнула. Кот понял, сел поодаль и с любовью мерцал на меня желтыми глазищами. Ай, котище, я понимаю твое состояние, я тоже когда-то чувствовала подобное, но давно разучилась.
— До чего же все-таки все живые существа похожи, — говорю я коту.
Не вслух, конечно, это совсем ни к чему. Из травы несется тихое щелканье неведомых существ. Всякие другие звуки, особенно человеческие голоса, сломали бы тишину этой летней ночи и наше с котом молчаливое общение.
— Некоторые состояния у вас даже намного острее выражены. Это чисто кошачьи или собачьи состояния души, например, то, что сейчас у тебя. Это похоже у людей на опьянение другим человеком, совсем не обязательно любовное. Так важно найти «человека для себя». Мало кому везет в этом. Вот представь себе: рушатся, надолго ли, на коротко, все стенки, которыми мы друг от друга отгорожены, хочется рассказать ему или ей все-все о себе, чего никому не рассказывал раньше, хочется сделать ему что-нибудь такое, чтоб его осчастливить. И сам ходишь счастливый, прямо умереть ради него хочется. У меня в детстве такое бывало часто.
Я подумала не без горечи, что сейчас такого не бывает никогда. Желание откровенничать приходит редко, а если и найдет, то потом бывает совестно и жалеешь об этой слабости, и не любишь человека, ради которого эту слабость проявил. Нет, и сейчас, конечно, я очаровываюсь иногда, но по сравнению с тем душевным пылом, с каким я увлекалась людьми раньше и тянулась к ним, это всего лишь чуть тепленькое питье.
— Молод ты еще, братец мой, — сказала я коту с высокомерной иронией и дохнула дымом прямо в его умиленную усатую морду.
Ему всего год, он еще дите, котенок, я старше его во много-много раз. Но втайне я перед ним робею. Он живет в том мире, куда мне нет ходу с моими считанными-пересчитанными, заученными в школе органами чувств.
Сначала кот посмотрел на небо, потом я. Для этого ему не надо так задирать голову, как мне, потому что у него глаза прямо на затылке, словно специально для того, чтобы смотреть вверх.
Еще вчера после дождя по небу плыли сизые мрачные облака, и только несколько самых нахальных звездочек пробивались сквозь них. Сегодня они все дружно высыпали из своих небесных обиталищ. Эти существа, состоящие из одного яркого светящегося глаза, все разные. Одни тусклые и равнодушные, словно повернулись к нам спиной. Другие озорные и любопытные, кажется, что такая сидячая жизнь им в тягость, но они ведут ее покорно, потому что чувствуют свою ответственность. Одни собираются стайками, другие любят одиночество. Люди, по своей склонности все объединять и упорядочивать, а также для удобства своего ординарного мышления, дали прозвища и имена звездам и группам-соседкам, иные не без фантазии и воображения, другие с обреченностью на быт. Сами объекты изучения об этом, наверное, и не подозревают, но если бы и узнали, то ничего б не поняли, потому что ковшей, медведей и скорпионов в их жизни нет, но, думаю, есть у них какие-то коллективы, общественные организации, может быть, даже семья и...
— У звезд коллективы?! Удивляюсь я, сколько мусору у тебя в голове! — осудил меня кот, и я узнала родные интонации и хорошо поставленный голос моего деда, педагога в отставке, все силы бросившего на мое воспитание. За много лет я так изучила его методику, стиль и язык поучений, что стоит мне шаг ступить, я уже знаю, как оценит его дед:
— Ты уже не маленькая. Сколько тебе лет? (Дед задумывается, но вспомнить не может). У тебя высшее образование! Ты жена и мать. А иной раз рассуждаешь, как безграмотная деревенская девчонка...
С тех пор как дед стал совсем старым, а я полюбила его еще нежней и бережней, чем прежде, я слушаю его молча, не огрызаясь, любуясь строгой музыкой его голоса, не понимая слов, и мурлычу мелодию ему в тон.
Луна сегодня похожа на располневшую величавую матрону. Она куда-то спешит, но спешит медленно, чтобы не уронить своего достоинства. Время от времени жалкие дымные клочки, остатки туч, пробегают у ее ног. С утра день был осенним. Тучи заняли круговую оборону и стояли насмерть. Но к полудню солнце с ожесточением пробилось и стало неистово печь, превратив день в жаркий, по-настоящему летний. Неизвестно, чем закончилась бы эта война, если бы не ветер. Это он трудился изо всех сил, разгоняя, разнося в клочья промокшую багровую перину облаков. Там, наверху, весь день шло сражение, наконец к ночи противники, умаявшись, угомонились. Луна тихо обходит поле битвы, словно собирая трофеи. Звезды равнодушно тлеют в этом пожарище, им все равно — они никогда не принимали участия ни в какой деятельности на небесах и не примут. Я смотрю на них с восхищенным уважением, хотя и преклоняюсь перед деятелями. Неподвижность и покой у них непробудные, накопленные тысячелетиями. Поделились бы с нами хоть немножко, бесчувственные вы светила!
— А вот как ты думаешь, — поспешила я поделиться с котом новой находкой, пока не забылась. Эта мысль блеснула и осчастливила меня. — Через тысячу лет люди станут закаленнее, спокойней и неуязвимей? Они не будут мучиться от одиночества, несчастной любви, непонимания и прочих напастей. Сейчас такие люди еще не выведены, поэтому это представить трудно.
— Легче, чем ты думаешь — хмыкнул кот. — Успокоение душ, которого ты так страждешь, зашло так далеко сейчас, что, если оно будет продолжаться, через тысячу лет вы или вымрете, или превратитесь в инфузорий. Так уж ли они симпатичны, спокойные?
— Нет, они вовсе не будут роботами ходячими! А гармоническими, цельными, одухотворенными человеческими особями. Вот представь себе, просыпается он утром в своем просторном жилище где-нибудь на другом измерении, а не на девяти метрах жилплощади. Занимается он только любимым делом, живет под одной крышей с родными близкими людьми. Поэтому можешь представить, каково у него на душе рано утром...
— Ну ты размечталась! — рассеянно зевнул кот. Он уже не глядел на меня с обожанием, в его желтых глазищах появился ровный стальной блеск, и изредка пробегали в них иронические искорки. — Ну что тут скажешь? — небрежно отвечал мне кот. — Даже в наше время идеальные души все-таки встречаются. И тебе ли этого не знать из той литературы всех времен и народов, которую ты с жадностью пожираешь с утра до ночи. Так что, друг мой, если нет искры божьей, создай ты ей хоть какие условия, все равно будет не душа, а душонка. Это знает и понимает любой средний кот, исключая тех опустившихся созданий, что живут на помойках или в городских квартирах. В нас, котах, очень много глубины...
— Да? А мне казалось, что ты живешь, как самый обычный кот, по ночам тебя нет, на помойке тебя, кстати, часто вижу, а читающим никогда.
— На помойке я бываю периодически и изучаю жизнь сословия, к коему с рождения принадлежу, — сухо объяснил кот. — В каком бы обличье мы ни родились на свет — комаром ли, слоном или человеком, надо не просто просуществовать свой век, а жить осмысленно, глубоко изучая свое состояние. — И вдруг кот быстро забубнил: — Так как упомянутая помойка занимает по площади значительную часть нашей улицы, то, естественно, является местом или постоянного обитания, или местом часто посещаемым, своеобразным кошачьим клубом, где завязываются знакомства, разрешаются конфликты и т. д. По некоторым типологическим признакам — месту жительства, типу окраски и качеству шерсти, психологии и прочим, коты делятся на несколько социальных групп...
Тут оратор вкусно зевнул, широко распахнув свою малиновую пасть.
— Батюшки! — испугалась я. — Где это ты такому языку научился? Уж не читаешь ли ты научных журналов?
— Читаю и даже обдумываю свою статью «К вопросу о типологических особенностях, среде обитания и внутрицеховых отношениях кошачьего контингента маленького провинциального городка в конце XX столетия. Значение данного разыскания для классической и современной науки».
— Ой! — стонала я, как от зубной боли. — А нельзя ли назвать ее просто «О котах» и сделать статью легкой, изящной, доступной, но содержательной. Если уж не можешь не писать, пиши проще. И потом, учти, став ученым котом, ты не только писать, говорить нормальным языком разучишься.
— Как ты можешь судить о науке, о настоящих ученых, — вдруг рявкнул кот голосом моего супруга, человека очень ученого. — Ты! Деревня. Твоя мамаша плюс высшее образование.
У меня в сердце кольнуло от этого дурного видения, целую неделю не тревожившего меня даже смутным воспоминанием. Я возмущенно замахала на него руками:
— Только такие дураки со степенями и титулами, как ты, могут судить о науке, потому что примазались к ней и бессовестно ее обворовывают. Пошел прочь, не могу тебя видеть!
Супруг исчез, растворился, а кот по-прежнему сидел у моих ног и ехидно улыбался. В его желтых колдовских глазах покоились два аккуратных, вытянутых в длину и заостренных на концах зрачка, но один почему-то стоял торчком, указуя на небо и землю, а другой лежал спокойно, ни на что не указуя.
— Оборотень, чистый оборотень! — в сердцах ругала я кота. — Ты, пожалуйста, превращайся в кого хочешь, но избавь меня от отрицательных эмоций. Я в отпуске, хочу отдохнуть и не видеть хотя бы месяц, чего не хочется видеть. Понял?
— Ну что ты, что ты? Развоевалась! — обиженно бубнил кот, уходя от моего гнева в перевернутый ящик. — Ты ж знаешь, я его сам не люблю. Твой муженек, — заговорил кот, высовываясь хитро из ящика, — признает только красивых и престижных животных, а меня пинает — «Брысь, шелудивый!». — Кот не по-кошачьи поморщился.
— На него грех обижаться. — Я уже остыла и думаю о муже с юмором. — Он у меня из простейших. То, что он видит, слышит, ощущает, для него общечеловечно, мало того, это — предел, только немногим избранным доступный. Попробуй, убеди его в том, что существует ему непонятное, им невиданное, неслышанное, нечитанное в научных журналах, — тут я забыла про своего несчастного супруга, и мысли убежали в сторону. — Привидения есть или нет? — спрашиваю я кота.
— И да и нет! — дремотно отвечает кот из ящика. — Если ты их видишь и веришь, значит, есть. Если у тебя только два глаза и больше нет глаз, значит, нет.
— Точно! — обрадовалась я. — Ты, кот, на все мои мысли ставишь гербовую печать, а с такой печатью это уже не вздор и детский лепет, а философская система. Вот этот дом никогда пустым не бывает, даже когда я в нем одна-одинешенька.
Мы с котом долго смотрели на наш притихший пятистенок, как будто видели его впервые. Ночью он стал таким чужим и непонятным. Черные окна бездумно глядели на нас, полуночников, но в них самих не заглянуть.
— Дело даже не в том, что скрипят половицы и хлопает дверь в чулан, — рассказывала я коту. — Половицы скрипят сами по себе, а дверь можешь открыть ты или ветер. Я просто чувствую присутствие кого-то. В комнату отца достаточно распахнуть дверь, чтобы понять, что она не пуста. На лежанку, где часто сидела бабушка, я ложусь погреться с осторожностью, с боязнью кому-то помешать. Ничего страшного, мистического в этом нет, это здоровое, теплое, родственное чувство. Я разговариваю, хожу по дому, постоянно помня об их присутствии. Даже с чисто человеческим эгоизмом жду от них помощи в беде.
А знаешь, почему я сначала совсем не обратила на тебя внимания? В нашем доме до тебя целых двадцать лет жила белая кошка. Мы только полы настелили и въехали, когда ее принесли. Я играла на улице, вдруг идет к нам одна наша знакомая и подзывает меня. Распахнула полу пальто, а там, уцепившись за ее платье, сидит белый котенок. Весь вечер он плакал и тыкался по углам, искал мать, а я ползала за ним по полу и пыталась утешить и приласкать. Из котенка выросла красивая породистая кошка, аристократка не только по обличью, но и по характеру. Она ни в ком не нуждалась и жила своей непонятной жизнью, никогда ни к кому не ласкалась, не воровала со стола и из шкафов, не клянчила, просяще глядя в глаза, а просто сидела и смотрела на жующих хозяев строго и укоризненно. Если и была она к кому привязана в нашем доме, так это только к бабуле. Часто кошка сидела подле нее, когда та шила или медленно вслух читала на своей любимой лежанке. Заходили соседки, родственницы, знакомые. Не помню, чтоб бабушка кому-нибудь жаловалась, но она умела слушать. Ей почему-то все изливали душу. Кошка слушала с презрением, бабуля понимала и жалела.
Умерла бабуля и своим уходом страшно опустошила наши жизни. Она была из тех редких людей, которые нужны всем своим близким. Потом кошка тихо опочила на печке от старости, и в доме стало чего-то не хватать.
Прошлым лотом у нас в доме появился котенок обычной, черно-белой окраски. Он спал в уголке дивана, крутился волчком, ловя свой хвост, бегал по двору с поросенком. Просто забавный котенок. Я люблю этих прекрасных животных самих по себе, но вдобавок почитаю как символ домашнего очага и уюта. Что это за дом без кота, — решила мать, — и завела котенка. Но наш дом так опустел, что кот его едва ли мог спасти. Весной в свои короткие наезды я стала за ним с удивлением наблюдать. Он вырос и превратился в крупного красивого кота. Шерсть у него была густая, шелковистая, словно вымытая шампунем. И это был не обычный грубый, недалекий кот. Мать брала его на руки и разговаривала с ним. Раньше она не любила кошек и всю домашнюю животину оценивала с точки зрения пользы и бесполезности. «Это не кот, а что-то особенное, — хвалила она кота. — Он ест все, представляешь!» Не за это, конечно, она его так полюбила, но кот действительно ел борщ и гречневую кашу.
В начале июня наш кот попал в капкан. Сосед расставил по всему огороду капканы, чтоб кошки и собаки не топтали его гряды. Наверное, кот просидел в капкане с ночи, а хватились мы его не сразу. Утром, как только мать вставала и начинала бегать по хозяйству, он уже терся у ее ног, так что она иной раз спотыкалась об него и начинала ругаться. Потом он весь день спал на диване, то есть был на глазах. «Где ж это кот? Где он делся?» — битых два часа мыкалась мать по дому. Тогда мать стала искать в саду и услышала слабое мяуканье с соседского огорода. Мать вернулась с котом на руках, стеная и жалуясь. Он долго не мог ступать на лапу и только лежал, вялый и безучастный.
— Яшка! — кричала мать через забор. — Если мой кот умрет, я тебя, гада, застрелю.
— Да ну! Из-за кота?! — смеялся сосед.
Кот стал понемногу вставать и осторожно ходил, мягко ступая на лапу.
— Отклеял, — сообщала всем мать, и соседи ходили посмотреть и порадоваться на нашего кота.
Это было в июне, а сейчас август, и я живу дома уже давно. Две недели назад ранним утром я увидела кота во дворе. Открыла дверь, сонная и недовольная, но недовольство тут же слетело. Утро было нежное, розовое, как младенец, дышалось свежо и вкусно, слепило вовсю солнце, но еще не грело, и было тихо, как ночью. Вчерашний вечер был таким томным и теплым, земля долго отдыхала от длинного дня, отдавая накопленный жар, а утро проснулось бодрым и веселым, словно не знало, куда себя девать, пока не нагрянут дневные дела и заботы. Я попрыгала на крыльце от счастья, что у меня отпуск, и мы всей семьей едем в лес по грибы. Через час я уже пройду по проселочной дороге и буду лежать в траве, глядя в небо. Я шла к сараю вдоль длинного штабеля колотых дров, заботливо прикрытых узкой крышей. В ней было что-то японо-китайское. На ребре этой крыши, как на мягкой подушке, сидел кот, уютно свернувшись эллипсом, и глядел навстречу восходящему солнцу. В мудрой задумчивости полуприкрыв глаза, он улыбался в усы. Улыбка эта значила, что все идет своим чередом: ночь как всегда сменилась днем, и за этот порядок во вселенной он, кот, полностью ответствен. Я не могла не улыбаться, глядя на кота: «Точно Будда в ритуальной позе». Полюбовавшись вволю, пошла в сарай, а на обратном пути не могла оторвать глаз от этой величественной картины, позабыв об опасности споткнуться или обжечься крапивой. Кот так и застыл недвижим, словно сидел уже много часов и готов был сидеть целую вечность. Ну священнодействуй, котище, а мы окунаемся в новый день.
Мы ездили всегда в одни и те же места. Пырнув со скучно бесконечного шоссе в облака пыли, мы добирались глухим заросшим проселком, мимо опустевших захиревших деревень. Этот проселок когда-то тоже вел в деревню, которой уже нет на белом свете. Две машины осторожно ползут по буграм и ямам, а за ними смело трещит мотоцикл с коляской. Транспорт, битком набитый моей родней, с облегчением вытряхивает нас у леса. Лес только слева, редкий край его зарос черничником, еще никем не притоптанным и синим от тяжелых перезревших ягод. По правую руку огромное серебряное поле не ржи и не пшеницы, а неведомо чего. Дети бросаются в чернику, но мать грозно кричит им вслед: «Не топчите! Не столько ведь съедят, сколько потопчут. Кто ж так делает, поросята?»
Лес преображает звуки, он наполнился гулом женских разговоров, детских криков, невнятным бормотанием низких мужских голосов, как будто целое племя расположилось в нем на привале. И это еще не вся моя родня, это только небольшая часть, — думаю я с насмешливой гордостью. Родни у меня — тьма-тьмущая! Иногда это утомительно и суетно, но в последние годы меня сильно греет сознание, что я маленькая частичка огромной общины.
— Чего они все привалили? — испуганно спросил муж, когда я в первый раз привезла его домой.
— Как чего? Тебя смотреть. У нас всегда так. Новый родственник появился, да еще не какой-нибудь — столичный, ученый!
Прошло немало лет, а муж мой так и не полюбил мою родню. Он видел в них только неуемное любопытство, наивность, недалекость, то, что он называл «идиотизмом деревенской жизни».
— Да ты вглядись внимательней, — убеждала я его, все больше возмущаясь. — Ты же историк, этнограф. Моя мать, тетки, бабки — это же тот самый этнос, который ты так рьяно изучаешь и часто поминаешь в своих статьях. Это они всю жизнь работают по-настоящему и нас всех кормят, а не твоя мамаша. Свою жизнь она потратила на то, чтобы устроить потеплее и посытнее себя, тебя с сестрицей, а теперь целыми днями бегает по магазинам за тряпками и очень хочет казаться культурной.
Я все думала, почему нам труднее и труднее стало уживаться вместе. И решила, что сказывается со временем наше происхождение: он из городского мещанства, я — чистой воды деревенщина. Я моим происхождением гордилась, он свое отрицал. Знакомым он говорил туманными намеками, что его предки были, возможно, интеллигентами, возможно, мелкопоместными помещиками или земскими деятелями. Сейчас модно стало объявлять себя дворянскими потомками. То и дело встречаются отпрыски мелкопоместных, а то и графских, княжеских родов. Что-то не верится, на них глядя, но я недоверия своего не высказываю, чтобы не обидеть «потомков». Уж к этой-то слабости человеческой можно отнестись снисходительно. Но о супруге знаю точно: никаких интеллигентов, а тем паче помещиков, в его роду не было. Прадед его держал лавочку или магазин в уездном городке, но супруг этот факт умалчивает и морщится даже, когда его мать поминает деда.
Мой муж занимается этнонаукой. У них весь отдел такой — дипломированные ученые деятели, изучающие народ, все как один люди по рождению городские. Среди них мой муж через родство со мною считается ближе всех стоящим к предмету изучения, то есть к народу. Хождения в народ делает он совсем редко, раз в году. Два-три дня он терпеливо скучает, внушительно молчит, пока моя мать носится вокруг и не знает, чем ему угодить. Потом он приносит в свой отдел сало, домашнюю колбасу, рассказывает, как он резал свинью, врет, конечно, он только брезгливо наблюдает со стороны, как истинный теоретик. Его коллеги, поедая колбасу, смотрят на него с уважением. Впрочем, моему супругу достаточно было бы провести месяц на даче, чтобы увероваться, что жизнь народа он изучил сполна.
Теоретики у нас располагаются в бельэтаже, а мы, практики, — почти на чердаке, в неудобных низких комнатах. Мы собираем материал, теоретики его изучают. Я попала к практикам пять лет назад, а до этого училась в аспирантуре вместе с мужем, и шеф у нас был общий — теоретик. Это заблуждение тянулось долгие годы, и вдруг судьба вывела меня на мою дорогу. Вот как это случилось.
При распределении мужа запихнули к теоретикам, шеф его любил и прочил ему большое будущее. Меня же некуда было девать, и тут освободилось место у практиков. «Сходи на всякий случай, — сказал небрежно супруг. — Хотя знаешь, надежд никаких. Надо быть дураком, чтобы взять ученицу своего врага. Может, временно возьмут?»
Я долго стояла за дверью и слушала, как они смеются. Я чувствовала себя униженной и несчастной. Когда вошла и убито застыла у порога, они замолчали, а некоторые нехорошо покосились. Николай Павлович развернулся навстречу мне в своей директорской вертушке, посмотрел в лицо долго и внимательно. Я умерла. Он говорил со мной минут двадцать, все больше о семейном, личном, о пустяках, и вдруг заявил: «Я вас беру». Практики, те, которые меня знали и рекомендовали, одобрительно загалдели. Кое-кто посмурнел. Оказывается, на это место было много претендентов, в их числе, между прочим, племянница директора, за нее хлопотал и мой шеф-теоретик. «Мне племянницы не нужны, — заявил Николай Павлович. — Мне нужны работники. А потом, согласитесь, — нашим делом должны заниматься люди, выросшие в деревне». Он так торжественно это сказал, что все посерьезнели и закивали, хотя там сидели очень хорошие практики, по рождению — городские.
— Идите оформляйтесь, пока на полставки, — командовал Николай Павлович ласково-строго. — Между прочим, товарищи, обратите внимание на зарплату нашего нового сотрудника. А интересно, можно прожить на 45 рублей в месяц, чисто теоретически, — и он хитро сверкнул на меня глазами.
Практики взяли карандаши и высчитали, сколько я могу тратить в день, чтобы еще осталось на одежду и на черный день, и чем я могу питаться на эти деньги. Мне вручили расчеты и покончили с моим вопросом. Так и было записано в протоколе. Потом они перерешали еще множество вопросов и все быстро, весело и толково. Я не поверила, это у них шло заседание. Теоретики часами тянули жилы и с чугунными головами расходились, ничего не решив.
Что такое быть пьяной от счастья, я не знаю, потому что не пью, даже практики не сумели меня научить, но в тот день я была, кажется, в этом состоянии. Голова кружилась, ноги легко несли по коридорам, будто я после многих лет тоски и одиночества вернулась на родину из страны далекой. Мужу я издалека помахала бумагами. Он рванулся мне навстречу и побежал рядом, заглядывая в глаза с радостным неверием:
— Невероятно! Взял? Может быть, шеф подсуетился? Теперь у нас свой человек в мансарде...
— Свой человек! — ахнула я от возмущения. И довольно глупо ответила: — Что я тебе, Иуда Искариот? Лазутчиком вашим никогда не буду — это непорядочно.
Он опешил, а я гордо, не оглядываясь, удалилась. Это был мой первый самостоятельный шаг за три года замужества, до этого я жила только по его указке, за его спиной, и вдруг так круто свернула в сторону, к людям, которых долго ждала и думала, уже не дождусь. Еще в аспирантуре интуитивно потянулась я душой к Суворину и мансарде, но путь туда мне был закрыт, я и мечтать не могла о таком счастье — работать с ними. Они были во всем настоящие и никогда ни во что не играли — ни в науку, ни в человечность. Мое же прежнее окружение только старалось быть или казаться — учеными, интеллигентными людьми, но получалось плохо и не всегда убедительно, хотя актеры были со стажем.
Дома за весь вечер мы не сказали и двух слов. Он надулся и решил наказать меня, взбунтовавшуюся, молчанием. Но я не унывала: мыла посуду и во все горло распевала арию Далилы «От счастья замираю, от счастья замираю», пока он мрачно не попросил сменить пластинку. Я уступчиво сменила на русскую народную — «Что во наших-то полях урожай не пал», зная прекрасно, что муженек как оперную, так и народную музыку не выносит. На редкость немузыкальный субъект. Я слышала, как он у меня за спиной прихватил тарелку и ушел доедать в комнату, к телевизору. А я, прижав мокрую тарелку к груди, размечталась: увидела где-то в глубине себя, как на экране, мансарду и Суворина в вертушке. Но мечтала недолго и, чтобы супруг не вернулся, громко запела: «Лучше нету того цвету».
Как вразумить и предостеречь женщин, имеющих дурную склонность влюбляться ушами! С год, наверное, я ходила за ним, как восторженная рабыня, все глядела в глаза и ждала, что еще он скажет талантливого. В общем-то, это состояние для женщины вовсе не обидное, и воспоминание о нем не внушало бы такую ярость, будь он и вправду хоть немножко талантлив или просто хороший, добрый мужик. Но влюбиться в легко подвешенный язык — это трудно себе простить: ты все-таки мыслящее существо, а не инфузория.
Его я ни в чем не виню, сама, дурища, виновата, что притащилась за ним к теоретикам, три года в аспирантуре вымучивала структуралистскую диссертацию. «Структуральный анализ» — как вспомню, у меня зубы немеют от отвращения. Мне всегда хотелось просто ездить по деревням, забираться в самые глухие углы, жить среди людей, наблюдать и описывать их быт, даже самые простые, скромные предметы этого быта. Мне кажется, эту нашу работу через пятьдесят-сто лет оценят и поймут всю ее важность. А структуральным анализом и железобетонной теорией могут заниматься только гениальные единицы, а не целые отделы.
Утром я не выдержала, побежала на работу, хотя еще не была оформлена. Практики гурьбой повели меня в угол мансарды, где размещался мой сектор — стол и стул на львиных ногах и шкаф с пыльными папками еще довоенных отчетов. Про кресло рассказывали предания и легенды, будто бы в нем сиживал сам Шахматов, а в прошлом году с него упал директор, поэтому он так не любит мансарду и никогда сюда не ходит. Практики гордились креслом и мистически веровали, что оно знает, под кем рушиться. Я смело уселась в кресло, оно даже не скрипнуло. Из шкафа я вытряхнула столько пыли, что хватило бы на большую купеческую перину, а толстые отчеты днями читала, как романы, запоем. Люди, писавшие их, которых давно нет на белом свете, любили слово и умели им дорожить. Они унесли с собой это умение, а наш язык оскудел, зачах и очиновничился. Но пройдут годы, осыплется пыль смутных времен с этих слов и фраз, и они так же свежо, радостно зазвучат для уха и для глаз, как звучат сейчас для меня со страниц пыльных фолиантов. Я верю в это так же непобедимо, как в то, что через сто лет эти фолианты станут огромной ценностью. Практики скоро меня раскусили и прозвали «Через сто лет». Я умоляла Николая Павловича заказать несгораемый сейф и запереть туда рукописи.
— Ни в коем случае! — даже испугался Николай Павлович. — Это вызовет интерес к ним. Дирекция или сдаст их в архивы, где они сгинут без следа, или отдаст теоретикам, которые их разворуют, а потом польют грязью. Вам выпала историческая миссия — беречь их пуще своей жизни, но внушать всем посторонним, что это никому не нужные пыльные отчеты.
Подивившись стариковской мудрости и осторожности нашего шефа, я так и сделала. Самые цепные папки засунула в глубины шкафа, заставив их новыми, последних лет.
Надо признаться, что в своей квартире я по-прежнему жила, как в общежитии, на перекладных, а тихим домашним углом в этом буйном городе стала для меня старинная мансарда. Каждое утро я просыпалась с радостью на сердце, что сейчас пойду туда и увижу Николая Павловича. Каждое утро я тащила съестные припасы и что-нибудь нужное для благоустройства своего пристанища — чайник, кастрюли и посуду, салфетки и скатерти, занавески и щетки.
— Мебель, надеюсь, останется на месте или тоже на работу утащишь, — острил муж.
— Ну, ты хозяйственная баба, — дивились на меня сослуживцы, а Николай Павлович хвалил свой глаз-алмаз в выборе кадров.
О тех счастливых годах сейчас и больно, и сладко вспоминать. Николай Павлович умер через два года, вернее, ему помогли сойти в могилу собратья по науке. Мансарду отдали главному теоретику. Нас окрестили нелепым придатком солидного научного учреждения. Две папки я спрятала под стопками белья и платьев в моем шкафу дома, а остальные, по степени ценности, в самые недоступные углы мансарды. Пока я жива, я за них в ответе. Ночами я часто парю в сладостных мечтах: через сто лет, когда бесследно канем в Лету и мы, и злодеи-теоретики, Российское этнографическое общество издаст прекрасный многотомник, который пойдет нарасхват, люди будут жадно читать, как и чем жили их предки, а в предисловии будет просто сказано, что материалы собраны, обработаны и бережно хранились в лаборатории известного ученого, автора десятков трудов по культуре и этнографии, профессора Николая Павловича Суворина.
* * *
Родня моя рассыпалась по всему лесу. Братец то и дело прибегал с полным ведром, высыпал его в багажник и, как на пожар, убегал. У него давнее бешенство на почве грибов, как бывают бешеные рыболовы, болельщики и автолюбители. А мне сегодня грибы не желали показываться. Голова даже заболела от острого вглядывания в траву. Пока я сидела с детьми в черничнике, дед бродил вокруг машин с тросточкой и сам с собой разговаривал. Он всегда ездил с нами, но в лес уже не ходил.
Солнце набирало силу и пекло все сильнее. Дети разделись и зашлепали по дороге в теплой дымчатой пыли. Вдруг дорогу перебежала мышка и скрылась в куче хвороста. Все с воплями кинулись за нею. Я уже достала из машины одеяло и высмотрела место на краю поля улечься подальше от детей. Ветер, еще по-утреннему холодный, отгонял липкий зной от кожи, заставлял поежиться, забежав нечаянно за ворот халата. Вдруг такой странный звук ударил в лицо, до того нежданный здесь, что я отшатнулась. Словно звонили на погосте за несколько верст. Я раскрыла глаза и уши, притягивая ими все летящие звуки, но ничего не могла понять: ветер приносил этот звон обрывками и развеивал до былинки у самого уха.
Дед уже давно с подозрением наблюдал за мною.
— Что это, дед? Ты слышишь? — спрашивала я.
Дед прислушался, положив одно ухо на плечо, а другое настроив в пространство, и все понял. Он долго слушал со счастливой улыбкой в глазах и совершенно забыл обо мне. Прожив всю жизнь в деревне, он природу стал замечать только недавно. Однажды весной он все утро простоял в саду на тропинке вместе с бело-розовыми заневестившимися яблонями, глядел на них и тихо смеялся от переполнявшей его радости.
— Это овес шумит, — наконец вспомнил обо мне дед. — Как ветер подует, он так звонко шумит.
Мы с дедом долго смотрели, как ветер приглаживает серебристые овсовые вихры, а они тут же выпрямляются и упрямо торчат ежиком. Я положила стебелек на ладонь — крохотные колокольчики бежали по стеблю вверх. Прибежали дети и совали носы прямо в ладонь, желая все видеть и знать.
— Слушайте! — приказала я торжественно и подняла к небесам указательный палец.
Они раскрыли рты и слушали, но что можно услышать ртом?
— Шумит! — кричали они. — Шумит? — и вопросительно смотрели на меня.
— Звенит, а не шумит. Даже песня есть про овес, не наша, датская.
Про эту песню мне напомнили колокольчики. Давно когда-то, в ранней молодости, когда я совсем не знала, куда броситься и чем заняться, я учила невесть зачем датский язык, так мне хотелось всюду успеть и ничего не пропустить. Я спела им песню на датском языке, а потом рассказала по-русски:
Я — овес.
У меня на каждом стебельке
По десять маленьких колокольчиков.
Они тихо звонят на ветерке,
А этот глупый мужик, стоя на краю поля,
Считает, сколько он выручит денег,
Когда свезет меня на базар.
Детям уже надоел овес, и они побежали стеречь мышь. Пока я пела по-датски, дед стоял замерев и жадно ловил чужие слова. Он преклонялся перед образованностью, пусть и совсем бесполезной. Долго он не мог подавить на лице выражение распиравшей его гордости и удовольствия. Но подавить надо было, дед никогда меня не хвалил, такого приема не числилось в его педагогической методике. Чтоб я не подумала об себе невесть чего, он решил тут же прочесть запланированную с утра и продуманную в дороге проповедь:
— Погляжу я на тебя иногда... — с задумчивой грустью начал дед, прихромав поближе ко мне, он хромал с войны, и еще в детстве братцы, часто терпевшие от него побои и лишения, прозвали деда хромотроном. — Как ты разговариваешь со своим ребенком! Утром сегодня как ты его назвала? Злыдень! Ай-ай-ай! — сокрушался дед. — Чему ты можешь научить ребенка? А ты ведь мать. Мать! — И дед поднял к небу указательный палец.
— Мать, мать, конечно, мать, — напевала я, расстилая одеяло. — Чем же я плохая мать? — но вдруг вспомнила, за что я побила сына, и рассердилась. — Да его убить мало: пнул кота, мучает собаку. Откуда это, господи, как с этим бороться?
Дед еще долго стоял надо мной и бубнил, но я уже ничего не понимала, смотрела бесцельно вверх. Небо все бледнело и бледнело и к полудню стало выцветшим, как застиранный ситчик. Если долго смотреть на него вот так, лежа, вдруг начинает покачивать, как на волнах, и плывешь неизвестно куда. Если закрыть глаза, в уши врывается нешумный хаос звуков — шелестение травинок, жужжание и звон, и бормотание деда в придачу. Вдруг в оцепеневший жаркий воздух набегает ветерок, разносит звуки по клочкам и обрывкам, трогает мою щеку прохладной рукой.
На душе у меня все вымерло, там тихо и темно. Вот за что я люблю такие минуты, словно украденные тайком у суетного бытия. Лежать бы и лежать так до вечера, но надо очнуться — пора возвращаться в повседневность, из которой на часок выпала. И с дедом надо поговорить. Неосторожно открываю глаза, и солнце тут же выплеснуло в них такую щедрую горсть света, что ослепило на миг. Прозрев, я увидела ждущий взгляд деда, осколки крыш в зеленых дебрях — наше опустевшее родовое гнездо, и седую от пыли дорогу, которая, сколько я ее помню, все так же потерянно петляла между полем и лесом, не решаясь, куда лучше податься, вправо или влево. Так она и побежала куда глаза глядят, нырнула и скрылась в березнике. Такая симпатичная, безалаберная проселочная дорога. Сколько народу прошло по ней, а теперь когда-то ступит случайная нога. Как жалко эту без вины обиженную, опустевшую землю.
По этой дороге ходили на сенокос. Часто я бегала навстречу, но далеко забегать не разрешали, пугали волками. Выглянув мельком из березника, идут или нет, я задыхаясь бежала обратно, очень боялась волков. А бабушка ходила по дороге всю жизнь. Я почему-то увидела ее молодой, в наглухо завязанном платке, в домотканой рубашке и старенькой юбке, с граблями на плече. Вот она идет, слегка взметая теплую пыль. Часто, когда я думаю о ней, мне хочется хотя бы в мыслях пожить ее жизнью, пройти той же дорогой с сенокоса. Внешне я на нее очень похожа и очень этим горжусь. Это я спешу домой, покормить детей, подоить корову, посмотреть, не спалили еще хату мальчишки. Те, что постарше, уже помогают грести, а маленьких приходится оставлять одних без присмотра. Вот уже виднеются крыши, в деревне пусто, как в темную ночь. Все на сене. А дома — рои мух над столом, куски хлеба, крынки с молоком. Дверь нараспашку. Младшая, всеми брошенная, ползает по полу, собирает крошки, а няньки разбежались. Прибежала только собачонка с улицы, старательно облизала младенца. Эту картину я вижу, как живую, это мне бабушка часто рассказывала, и мы вместе с ней смеялись. Я кормлю детей, прибираю в хате и снова кидаюсь на сенокос. Я долго смакую эту картину в подробностях, а потом, положив на нее последний мазок, начинаю тихо смеяться от ее невозможности. Невозможность такая ясная, что грусть находит.
Дед подозрительно и с осуждением на меня смотрит. Сказать ему? Нет, не буду, наизусть знаю ответ. Сначала повеселится над моим превращением, посмотрит на меня с иронией, склонив голову на плечо: «Ты? С граблями? Да ты их держала ли когда в руках? Да ты знаешь, что в твои годы у твоей бабушки было уже пятеро детей, да двое умерло. Да ты знаешь, что в войну...»
Ой, дед невыносим. Знаю я, все знаю, но люблю это не в дедовых рассказах и не в его словах, а в словах бабушки, матери и теток. Бабушке было чуть побольше лет, чем мне сейчас, но это неважно, конечно, просто дед все помнит вприкидку, на глаз, а я уже давно измерила и запомнила все ее годы, наложила их сеткой на календарь лет и соотнесла все до месяцев и даже до дней. Знаю, что немцы, отступая, угнали с собой всю деревню, и бабушка с четырьмя детьми, младшая на руках, шла пешком до самой Белоруссии. Потом немцы покатились дальше на запад, а люди побрели обратно в свои деревни. По дороге одна из девочек заболела и три дня горела огнем. Броситься за помощью было не к кому. Бабушка рассказывала, что когда к ночи дочка отмучилась, она испытала что-то вроде облегчения, не было уже сил смотреть на ее страдания. Бабушка иногда уезжала туда, к ней на могилку.
А когда вернулись домой, не нашли своей деревни, ни одной крыши, ни одной трубы. Так и стояли они среди головешек, думая, как жить дальше. Хоть и весна, но было еще холодно, а главное, надо детей кормить, а чем?
— Ходили мы по огородам, — вспоминала мать, — и собирали прошлогоднюю померзлую картошку, а бабушка твоя пекла нам из нее блинцы такие, называли их «тошнотики». До сих пор помню, какие они противные, и правда тошнило от них. Мы ждали ягод, грибов, и уж отъелись потом, когда дождались!
Мы часто всем семейством посмеивались над бабулиным оптимизмом, да и сейчас я не могу понять, из каких запасов он брался. Хоть крупицу хорошего, но она отыскивала даже там, где, казалось бы, век ищи, не сыщешь.
— Хорошо, что весной, а не зимой, — как о спасении рассказывала бабушка. — А если б зимой, то не знаю, не выжить бы нам. А так, землянки пока вырыли, а к осени стали помаленьку отстраиваться...
Она всерьез считала себя счастливицей, поэтому никогда и не жаловалась, чтобы «не гневить бога». Ведь дед вернулся, правда, покалеченный, но целый. Не всем так везло в то время.
Ехидный голос мне говорит: «Ты так любишь представлять себя в ее жизни. А хотела бы ты постоять среди головешек?» Нет, в эти минуты, ею прожитые, я и не попыталась войти. Если так можно мерить человеческие силы, мужество, терпение, то я бы сказала, что у бабушки было сто человеческих сил, у матери — половина, а у меня только десятая часть. Меня смутила и очень уронила в собственных глазах мысль, что я такую тяжесть, возможно, и не подняла бы.
Нет, среди головешек я себя представлять не стала.
В деревню поехали коротким путем через поле. Машина переваливалась на кочках, как откормленная утка.
— Куда вот ты едешь, ворона! — кричала на водителя моя тетка, когда мы вдруг повалились набок, а в траве между кочками блеснула вода.
— Осторожно, здесь тонко, — забеспокоилась мать. — Давай правее.
— Уберите ее, — цедил сквозь зубы тетушкин муж.
— И правда, помолчала бы ты, с тобой же невозможно ездить, — все дружно заругали тетушку.
С тех пор как купили машину, тетка с одержимостью ездила куда надо и не надо. Все правила знала назубок и указывала, куда и как ехать. Даже если дядька божился, что на заправку и всего на полчасика, она отрезала: «И я на полчасика», снимала фартук и влезала на свое законное место рядом с шофером...
Дома почти все вывезли на корню, и от нашего осталось только несколько пеньков, на которые всегда садятся мать и тетки и льют слезы. Я отхожу в сторону, чтобы не видеть такого нескромного выражения чувств, тем более что через полчаса они будут трещать без умолку о всякой ерунде.
Осталось всего три дома, и эти брошенные глядят убого и сиротливо, как побитые собаки. Недаром брошенным домам заколачивают окна, у этих окон выражения такой тоски и обреченности, что людям становится не по себе. Буйная зелень, дорвавшись до воли, залила пепелище по самые крыши. Бурьян и лопухи, кусты одичавшей сирени и жасмина, старые корявые яблони теперь хозяйничали здесь вместо людей. Деревья столь почтенного возраста, что заслужили титул «вековые», мирно доживают свой долгий век, равнодушные ко всяким переменам.
Этот деревянный дом буквой П, бывшая школа, ранее такой величественный, с высокими окнами, теперь резко пал набок и, казалось, махнул на себя рукой. Еще три года назад он стоял хоть и в растерянном унынии, но не утратившим последние надежды. Он ждал — может быть, еще будет кому-то нужен. Двор, когда-то утоптанный буйными стадами школьников до цементной твердости, уже зарос травой, и пучки ее нахально влезли вверх на ступеньки и победно торчали на крыльце. Несколько березок, кривоногих младенцев, по глупости выросли на крыше. Ладно уж, добивайте! — моргал слезящимися глазами старый дом.
Высунувшись в окно с глупой счастливой улыбкой, я вдруг вспомнила, словно из памяти пролилось, все, что было у меня связано с этим домом. О своем раннем детстве я стала вспоминать только в последние годы и, вспоминая, впадала в удивительное состояние бестелесно-невесомой легкости и счастья. Еще недавно я была уверена, что в пять-шесть лет у человека нет сознания, или оно еще только брезжит в нем; что же могут оставить в памяти эти годы, что может увидеть в мире такой туманный взор?
Но сейчас, вспоминая, я совершенно выпадаю из времени, потому что счастье это во времени не живет, оно всегда само по себе — захочет, найдет, расхочет — уплывет, как летучее облако. Счастье воспоминаний — самое прочное, ощутимое счастье в чистом виде. Хорошо ли нам было в том далеком, куда мы возвращаемся, но, возвращаясь, мы испытываем радость в десять, в сто раз большую и сильную. Почему так, нам постигнуть не дано, а копаться в причинах — грех.
Я закрыла глаза и откинулась на сиденье. Любопытная тетушка, углядев перемены в моем лице, тут же развернулась винтом, чтобы впиться в меня повнимательней:
— Что, устала? — посочувствовала она и тут же ехидно добавила: — Весь день в овсе пролежала, как не замориться.
Я молча кивнула, на все соглашаясь, и вмиг придала лицу спокойно-обыденное выражение. Ничего ты не углядишь, любопытная Варвара. Ее и правда зовут Варварой, а любопытна она прямо до руками разведешь кошмарных размеров.
С этого дома начинался мой день здесь лет двадцать пять назад. Утром дед, затянувшись ремнем и оправив выглаженную хрустящую гимнастерку, уходил служить на благородном поприще народного просвещения. Я наблюдала за ним, сидя в постели. Бабушка приходила с парным молоком и долго уговаривала выпить, потом умывала меня, приговаривая: «С гуся вода, с нашей Шуры худоба» — и что-то шептала. Я тщательно для своих лет одевалась, споря с бабулей из-за платьев. Она делила все платья на будничные и «на выход», я не понимала этого разделения и хотела каждый день быть нарядной. Уже с утра у меня было дел — за весь день не переделать. И первой на моем пути стояла тихая до звонка школа. Я обходила ее вокруг, оглядывая внимательно утоптанные дворы. Иногда их было один-два, иной день до десятка — жалких серых трупиков воробьев или других каких-то птах. Рогатки в то время были в большой моде. Их распихивали по карманам или за пазуху, а в случае потери или обмена, с любовью и страстью выстругивали новые. Двумя пальцами с ужасом подхватив каждый комочек в отдельности, я переносила их и укладывала рядком на выступе фундамента, стараясь не глядеть на затянутые белой пленкой глаза и вытянутые в муке лапки. Потом с большой щепкой шла в кусты выбирать тихое место и выкапывала ямку, большую или маленькую, в зависимости от числа убиенных. Завернутые в свежие хрустящие листы, бедные пташки ложились рядком в черную влажную землю. В кустах было сумрачно и холодно от густой зелени. Прихлопнув ладошками холмик и соорудив крестик из прутьев, я устраивалась поудобнее на корточках и замирала, скорбно свесив голову на плечо. Так пригорюнившись всегда сидела у могилок бабушка, и хотя я не могла посмотреть на себя со стороны, но чувствовала, что позу уловила верно. Первое время я плакала, а потом перестала, и эти похороны стали для меня ежедневной обязанностью и работой.
«Гробокопательницей и хоронительницей воробьев» прозвал меня старший, вредный и нелюбимый братец. «У нее и инструмент есть», — со злорадным удовольствием рассказывал он дома, видя, как мне это тяжело. Это моя-то щепка — инструмент? В отместку всегда, когда удавалось, я выкрадывала его рогатки и, сдвинув железные кружки на плите, совала их в огонь. Как ни страшно было прозвище и тяжело глумление над моей тайной, я все равно хоронила серые комочки, на которых ветер безнаказанно ерошил перышки.
Покончив с таким важным делом, я праздно заглядывала во все окна школы подряд. Наша соседка, заметив меня, начинала мелко-мелко скакать на скамейке и тихонько повизгивать, так она всегда выражала нежданную радость. Дед с мелом в руке оборачивался от доски и сердито сдвигал пышные брови. Деда я не боялась, зато братцы строили такие рожи, что сердце от ужаса проваливалось куда-то вниз, и я летела на землю, не удержавшись на узком выступе фундамента.
Старенькая учительница начальных классов иногда разрешала мне посидеть и послушать. Эти четыре класса помещались отдельно во флигельке. Совсем ее не помню, помню только, что и лицо и волосы у нее были седые. Слава богу, что у меня была такая учительница вначале, правда, совсем недолго, всего один год. Потом мы переехали в город, и там была другая, тощая, в очках, она очень мучила нас поучениями и всегда ставила в пример себя.
Потом после уроков я ждала Аньку. Это была моя лучшая подружка. Училась она во втором классе. Этот второй класс был для меня вершиной жизненных достижений. Мне не верилось, что я когда-нибудь до этого доживу. Почему я помню ее имя? Своих сокурсников я давно перезабывала, а Аньку запомнила намертво.
На перемене мы играли возле флигелька, стараясь держаться подальше от бурлящей толпы во дворе: там дрались, палили из рогаток, тайком курили в кустах. Девушки, взявшись под ручки, степенно прогуливались пестрыми шеренгами: в те годы в школу ходили не в форме, а в чем бог послал. Время от времени на крыльцо выходил кто-нибудь из учителей или сам дед, чтобы с высоты грозно оглядеть двор. Ненадолго все остепенялось, и воцарялось какое-то подобие порядка. Деда боялись панически: какого-то ученика, пойманного с папиросой, он разложил на столе в учительской и выдрал волейбольной сеткой. Хулиганов и двоечников били и дома, и в школе, а уж дома-то это был единственный привычный и знакомый метод воспитания.
У Аньки еще два урока, и я неторопливо шагаю вверх по деревне по своим делам. Наша деревня была длинной, дом за домом, как бусы, улицей. Каждый день, а то и по два раза на дню от нетерпения, я ходила за коляской, каждый раз надеясь, что она готова. Еще зимой дед заказывал мебель у местного плотника и вдруг надумал и попросил сделать мне коляску для кукол. Вот уже весна, и мебель давно готова, а я заждалась свою коляску.
Эта мебель до сих пор стоит у нас в доме, правда, на задворках — в кухне, на веранде, но жить ей и жить еще лет сто. Тумбочки и этажерки все увешаны кружевной резьбой и выкрашены под дерево. Стол-собакевич, добротный, глухой со всех сторон, словно кусок ствола трехсотлетнего дуба. Можно было влезть в него через боковую дверцу и помечтать в темноте, упершись спиной и ногами в глухие стенки. Особенно хороши были подставки для цветов из тонких жердочек под бамбук, стройные и изящные, как фарфоровые статуэтки балерин. Вот на такое чудо бабушка смело ставила кастрюлю с фикусом и геранью. Я помню, что именно эти вычурные и совершенно бесполезные в деревенской хате подставки раскупали особенно охотно.
Этот же плотник клал нам печку, мог срубить баню и поставить дом. Деревянные кружева и балкончики на мебели были, мне кажется, маленькой слабостью, которую он позволял себе в ущерб времени и заработку. С коляской мне очень долго не везло. Иногда я заставала его по утрам в тихой угрюмости, хотя он был человек добродушный, веселый и вечно бурчал себе под нос какую-то неразличимую мелодию. Или выходила его сердитая жена, кричала ему куда-то наверх, и он медленно сползал по лестнице с чердака, мятый, всклокоченный, в сенной трухе и очень виноватый. Когда он садился передо мной на корточки и понуро мычал, что завтра сделает обязательно, я невольно отступала на шаг, такой нехороший шел от него дух. Я была каждый раз разочарована, но не обижена и нетерпеливо ждала до завтра.
Посидев немного на бревнах у его дома, я шла заесть чем-нибудь сладким свое разочарование. В магазине в это время не было народу, и продавщица возилась у себя в кладовке или в задумчивом оцепенении сидела на крылечке, словно горюя, что вокруг ничего нового не случалось, да и не могло случиться. В этом магазине мне был открыт неограниченный кредит. Выбор был невелик — липкие карамели, пряники да черная халва. Дед с получки платил мои долги. Таким правом пользовались все кредитоспособные жители нашей деревни. С куском халвы в руке я усаживалась на крыльце и очень подробно и толково отвечала на расспросы любопытной тети-продавщицы: что у нас большое горе — корова нынче осталась яловой, что картошку уже посадили, папка и мамка строят дом в городе, скоро каникулы в школе, а деду большая забота — надо делать ремонт и запасать дров на зиму, пока не знает, как все привезти, но есть у него кой-какая задумка. Тетю очень смешила моя толковость, она все спрашивала с веселой серьезностью, а мне хотелось рассказать даже больше того, что знала. Спрашивала она не без ехидства, где ж моя коляска. «Он болеет, завтра сделает», — рассказывала я. «Еще не один денек тебе бегать за твоей коляской», — смеялась в ответ тетя.
Этих дней напрасных ожиданий и правда было много, но вот один из них грянул со счастливой неожиданностью. Плотник как будто ждал меня и сам вышел навстречу, не такой, как обычно, а здоровый, чистый, с победной торжественной улыбкой. Даже его злая жена улыбалась. Он нес мою коляску, такую необычную, как и все его творения, что я сначала расстроилась, а потом сразу и навсегда влюбилась в нее. У нее было очень низкое дно и четыре маленьких колесика, по бокам частая решетка из тонких прутьев, подкрашенных голубой краской. Я села в нее, поджав коленки, потом прокатила по земле, потом сунула в нее подвернувшуюся кошку. Это уже не столько для себя, сколько для них, так они были довольны и счастливы, не меньше меня. Они вместе привязали к перекладине веревку и долго смотрели нам вслед, когда коляска побежала за мной по кочкам.
Я помню этот миг взбудораженного счастья, когда примчалась к школе, а Анька выходила из флигелька. Анька мне позавидовала, она еще вовсю играла в куклы, и мы понеслись сломя голову к ней домой. На дороге коляска громко затарахтела. Сломя голову летала Анька, я, всегда неторопливая, с радостью меняла свой темп жизни на ее. Я была влюблена в нее, это была моя первая большая влюбленность. И долгие годы, пока мы росли, не могла притупиться и зачахнуть эта любовь-изумление. Все, что она делала или вытворяла, как говорила моя бабушка, вызывало у меня страх, ужас и восхищение.
Мы врывались в дом как очумелые и бросались на кухню за занавеску. Анька с грохотом бросала крышку с большого чугуна на плиту, и мы влезали в него с руками и головами. В чугуне бывала то каша, то тушеная картошка, и поедали мы это варево всей пятерней, а то и двумя пятернями. Это было так весело и необычно, и дома у нас никогда не делалось. Перекусив, Анька вытирала руки занавеской, давно превратившейся в грязную тряпку. У нас над плитой тоже висела занавеска, и, когда печка остывала, бабушка ее аккуратно задергивала до следующей топки. Конечно, я понимала, почему бабушка так не любит Аньку. «Тоже... нашла себе подружку, бандитку эту, — ворчала бабушка. — Отвяжись ты от нее, чему хорошему она тебя научит?» — «Почему отвяжись?» — сердилась я. Бабушка замешкалась с ответом, а потом пробурчала больше для себя, не удержавшись: «Баптисты...» Дед на нее шикнул: «Не болтай! Какие они баптисты? Староверы! Не понимаешь ни черта».
Я решила, что баптисты — просто разновидность бандитов, так прожевала и проглотила это новое слово.
Скоро я убедилась, что баптисты, может быть, и не бандиты вовсе, и бабушка имела в виду что-то другое. Как-то мы прибежали к Аньке вечером. Солнце уже перестало греть, остывая, но сияло еще ярко, с блеском, хоть и фальшиво. Очень люблю я такие вечера после жаркого дня, и многие помню так же зримо, как события и людей из моей жизни. В сенцах мы столкнулись с Анькиной бабкой и матерью, тоже похожей на бабку, было много других людей, незнакомых. Днем в этом доме бывало очень безлюдно. В пустой кухне мы, как обычно, посидели над чугуном. Вдруг Анька рванулась за занавеску в спальню. Этот дом был точной копией нашего и многих других в деревне: прямо посредине огромная печь, от нее на все четыре стороны легкие перегородки с занавесками. Получалось четыре комнаты, через которые можно было бегать по кругу. В темной спальне Анька с опаской приподняла занавеску. В этой большой без окон комнате слышалась глухая возня, пугающие своей необычностью звуки голосов. Жутко краснели из угла лампады, комната, как пещера, освещалась робкими пятнами свечей. Я сразу наткнулась глазами на мрачно-предсказательные лики икон, которых и дома боялась до обморока, боялась вглядываться в них и при ясном солнышке. Эти излучающие свет лица смотрели укоряюще и скорбно, а я не понимала, в чем виновата. На полу шумно вздыхали, бормотали и охали женщины, время от времени падая всей грудью и лицом на пол. Это видение мгновенно на меня обрушилось, и задушил дым от свечей и лампад, а Анькин кулак, вонзившись между лопаток, пропихивал меня глубже в комнату.
Я не закричала, потому что лишилась голоса, а побежала сквозь занавески и по сеням, не чуя себя. На крыльце хлебнула воздуху и света и захлебнулась. По дороге твердо и весело шагал мой дед с большой банкой сока под мышкой. Этот сок я очень любила, и дед никогда не забывал купить его в городе. Надо было добежать до деда несколько шагов, но я не добежала, споткнулась и упала ему в ноги, обняв колени. Встревоженный дед перекатил банку в другую руку и поднял меня с земли. Я легла на его жесткую, как дерюга, гимнастерку и услышала, как гулко бьется мое напуганное сердце.
Дома я так и не рассказала, что случилось. Сначала не могла, а только раскрывала рот, но слова не проскакивали из груди сквозь глухую перегородку. А потом уже и не хотелось. Это воспоминание долго еще мучило меня страхом, пока не забылось. Бабушка причитала и ругала Аньку, а я, очухавшись и придя в себя, решила, что будь она хоть трижды баптисткой, я никогда от нее не отстану.
Их семья прожила несколько лет и уехала неизвестно куда. Я часто вспоминала Аньку и скучала. Где она теперь, моя баптистка, как живет?
Вечером в тот же день я тихонечко лежала под лоскутным одеялом в темной спаленке, а за столом взволнованно шептались бабушка с тетей Варей. Потом их разговоры побежали ровнее и спокойнее. Звенели чашки, уютно журчало молоко из глиняного горлача, мягко спрыгнул с печки кот. Я хорошо их видела, а они меня нет, потому что керосиновая лампа стояла перед ними на столе. Я чутко вслушивалась и глядела, как при каждом их движении плавали по стенам две большие черные тени.
— Этот ребенок плохо кончит, — плавно качала головой тетушка, а я испуганно замерла. — Это ж надо додуматься только! Поджечь сарай, чтоб посмотреть, как будет гореть! — тетка не удержалась и хохотнула.
Ага, это про Аньку. Она давно хотела поджечь старый брошенный сарай за деревней и меня звала смотреть, но я боялась.
— А вчера телят выпустила, бегали как ошалелые, еле загнали. А могли б куда ускакать, что и не нашли б. Ее и свои-то боятся. Только и гляди с утра до ночи, чтоб чего не утворила.
Бабушка только в сердцах махнула рукой. Ей не хотелось больше говорить про Аньку, чего тут говорить, все ясно. Она что-то пошептала тетке на ухо, потом сказала:
— Она на этот счет очень нехорошая, сглазливая. Помнишь, с месяц назад?
Ага, это про меня.
— Вечером. Было так часов десять, уже темнеть начало, да, часов около десяти... Она тут на полу играла, а я за машинкой. Заходит Фроська, а у нее глаза черные, ее ж все боятся. Как увидала ее, аж затряслась вся, так бы, говорит, и съела эту девку...
— А у нее сколько было детей? — перебила тетка.
— А кто ее знает, ти один, ти двое, — рассердилась бабушка, что перебили. — Умирают все, до года не доживают, сама ж своих детей и сглаживает. А что ты не веришь, есть такие матеря. Ну вот, посидела она. Только за порог, как закипела моя девка! Разламывается вся, ничего сделать не могу. А ночь на дворе. Завернула ее в одеяло и на слободу к Федоровне. А те уже спать полегли. Открывает ее внук. Я говорю: «Витя, бабка дома?» — «Дома, — говорит. — Баб, к тебе пришли». Она лезет с печки: «Счас-счас, доченька, иду». Посмотрела и сразу говорит: «Вашу девку сглазили». И я ей то же: «Сожрала девку бельмами своими черными, змея». Пошептала- пошептала, иду назад — девка моя спит на руках.
Сглазы были нередким местным явлением, поэтому бедную Федоровну замучили, даже по ночам бежали к ней. А было Федоровне лет сто, девяносто девять уж точно. Однажды она сказала бабушке виновато:
— Дочь! Не ходи ты ко мне, я сама ничего не знаю. А я тебя научу, делай так-то и так-то...
И скоро моя бабушка стала пользовать не только своих внуков, но и чужих детей. Утром соседка кричала ей с крыльца:
— Устиновна! Моя Танька всю ночь скверётся. Помогай!
И Таньку приносили к нам. Лечение проходило в нашей полутемной прихожей-кухне. Все изгонялись вон, а я потихоньку влезала на печку и сидела, как мышь, выглядывая из-за трубы. Я не только всей душой верила в лечение, но и гордилась своей бабулей, которая, конечно же, была не как все обыкновенные люди. Бабушка доставала огромную зеленую бутыль, старинный штоф. Берегла она его пуще глаза, но потом все-таки разбила и долго горевала, а поминала чуть не каждый день. В штофе была особенная вода, ее брали в лесу, в ручье только раз в году — на Крещение. В этот день бабушка наполняла все банки и бутылки, чтоб хватило для лечения на весь год, и ставила под образами.
Начиналось лечение с того, что бабуля три раза переливала воду из кружки в кружку через дверную скобку. Больше всего меня завораживала эта часть лечения. Цепенела от этого непонятного действа и бедная Танька. Пока тихо журчала вода и бабушка отворачивалась, я с ужасом смотрела из-за трубы на Таньку, а Танька на меня. Потом этой же водой бабушка умывала Таньку и приговаривала: «О Водица-светлица, красная девица! Шла ты темными лесами, крытыми берегами, через белый камень. Ты из-за моря шла, болящей рабе Татьяне здравие несла. Ты очищалась ясным солнцем, светлым месяцем, частыми звездами, красными зорями».
Бабушка утирала сопливую рабу Татьяну подолом ее же рубахи и все приговаривала и приговаривала. Я знала наизусть много кусочков и обрывков этого долгого приговора, а конец его помню до сих пор.
«Прошу на помощь, — торжественно и четко, хоть и вполголоса выговаривала бабушка, — небо и солнце, месяц и звезды, зори и ветры, вихри и сырую землю. Прошу на помощь воды и реки, потоки-колодцы и моря-источники. Прошу небесных птиц, прошу травы и росы, и плоды, и леса, и весь белый свет!»
Тут наступала долгая пауза. Бабуля устало поднималась с колен, приотворяла дверь и, выплескивая за порог остатки воды, совсем буднично, по-домашнему говорила двери: «Скрипи-скрипи, дверка, чем наша девка».
И дверь скрипела, старательно забирая все наши криксы-плаксы. Скрипела так пронзительно, что дед, проклиная ее, не успевал поливать петли то постным, то машинным маслом из крутобокой масленки.
Бабушка так и не стала «лечейкой», но она могла заговорить от дурного глаза, от рожи, ячменя, зубной боли. Эти заговоры, терпеливо переписанные на бумажке, хранились за образами почти в каждом доме, но пользовались ими не все, потому что верили, что не каждому это дано. Настоящие «бабки» лечили от пьянства, женских болезней, могли приговорить мужа к жене, а парня к девке. Моя бабушка за это не бралась. Только однажды, когда прибежала вся в слезах ее родная племянница — муж ее бросил, нашел себе какую-то в городе, бабушка решила попробовать, так ей жалко стало племянницу. Она долго шептала что-то на воду, а потом племянница ушла, пряча бутылку за пазуху. Она прибежала счастливая через несколько дней и бросилась бабушке на шею — неверный муж вернулся виноватым, ласковым, каким давно уже не бывал. Но эта удача бабушку не вдохновила.
— Спаси бог и помилуй, чтоб я лезла в такие дела, — зарекалась бабушка тете Варе. — Вон помнишь Петьку Бытика с Уто́к? Стал он сюда похаживать к одной вдове, а жена бросилась по бабкам, чтоб его назад приворожить. А эта, значит, вдовушка тоже его к себе приговаривает. До того доворожили, что мужик весь почернел и помер.
Вот такие истории, одну за другой, рассказывали женщины, сидя допоздна в нашем доме. Телевизоров еще, слава богу, не было, собирались несколько подружек и соседок и разговаривали. Пересказывали все новости, и местные и международные, обсуждали болезни и детей, вспоминали старую единоличную жизнь, войну. Дед называл эти посиделки «бабьим ликбезом». Я больше всего любила слушать страшные и чудесные истории о колдунах, лесовых и домовых, и всякой нечистой силе. Они заменяли сказки, волновали и завораживали сильнее, чем сказки.
Бабки-знахарки скоро перестали быть для меня загадочными, потому что я узнала, откуда берется их дар. Отчасти, конечно, по наследству, если мать ворожит, то и дочь будет помаленьку ворожить. Но многие «лечейки» стали заговаривать после встречи с Лесовихой, она дает такую силу. Вот Федоровна, к которой бегала вся деревня. Она сама рассказывала... она еще в девках была. Пошли как-то по ягоды. Ходит она в малиннике, вдруг слышит, будто дети плачут. Глядь, а они лежат в кустиках двое, голенькие совсем, махонькие. Она испугалась, хотела крикнуть своих, но тут вспомнила, что это за дети, сняла быстро с головы платок и накрыла их. И тут к ней женщина выходит, красивая, высокая, вся в белом и говорит ей: «Спасибо тебе, что детей моих прикрыла. Что ты за это хочешь — богатство или знание?» Та говорит: «Богатства мне не надо, хочу людям помогать». — «Хорошо, — говорит. — Будешь ты людей лечить, я тебе три слова заветных скажу, без них никакой наговор не поможет».
А вот один мужик с Крапивенской, тот, говорят, богатства попросил. И как гонит домой целое стадо — там и коровы, и овцы, и свиньи, лошади — на дворе не поместились, сколько дала. И у нас была одна такая в деревне, Поля, сейчас уже померла. Так они бедно жили, хуже их у нас никто не жил, детей много, а мужик! Ну до того ленивый, что хошь с ним делай, а работать он тебе не станет, только целый день на завалинке сидит или на печке парится. Ну вот эта женщина у нее спрашивает: «Чего ты хочешь, Поля?» А та замялась, ей вроде и неудобно просить. «Мы очень плохо живем», — говорит. Та подает ей целую штуку полотна домотканого: «Мотай, — говорит, — сколько тебе надо, но до конца не разматывай». И пропала. Поля принесла это полотно домой, и правда, что ж такое? Режет-режет, а ему конца и краю нету. Она и всю семью свою обшила с этого куска, и продает, и на хлеб меняет, а он все такой же, как был. Прошел год. Они хорошо стали жить, и сытые, и одетые, а все с этого полотна. А ей покою нет, этой бабе, любопытно узнать, что там такое, почему полотно не кончается. И не послушалась она, что ей было сказало, размотала этот кусок, а там станочек маленький, ткацкий — тук! тук! Сам ткет. И все сразу пропало, и полотно и станочек, и стали они, как прежде, жить в бедности. Вот эти случаи я знаю. Но чаще все-таки просят знания, чтобы уметь как лечить.
— Я врать не стану, не видела ее и детей никаких не видела, но случай со мной был, — решила и бабушка рассказать про себя. — Как-то перед самой войной ходили мы картошку перебирать. Покормила я скотину и побежала. Богу через мостик, вдруг послышалось мне, будто ребеночек плачет. Тоненько так плачет, жалобно. Я и обомлела. Какой там может быть ребеночек, это ж самый край, ни одной хаты близко. Постояла я, подумала, сняла с себя фартук и бросила его на траву. И все, тут же этот плач стих, а я побежала на картошку. И что же вы думаете: перебирали мы эти картошки, и я колечко нашла, маленькое такое, золотое, с зеленым камушком. Ой, что я была рада! В войну куда-то сгинуло это колечко. Иду домой, а фартучек мой так и лежит коло мостика. Заговаривать? Нет, лечить я никого не лечила. После войны как-то заболели у моего деда зубы, а в город не поедешь, далёко. Я ему говорю: «Давай пошепчу, может, получшеет». А он: «Да ну, не смеши!» Я пошептала на рябину, на молодой месяц, на воду, а потом этой водой дала рот пополоскать, и все, утихли зубы, перестали болеть.
— Хорошо еще на покойника отчитывать от зубов, — добавляет соседка, и все соглашаются, что средство хорошее, но не всегда ж бывает покойник, когда зубы разболятся.
— Тимофеевич! — кричат старушки деду за занавеску. — Как же ты, такой идейный, партейный, зубы отмаливал. Где ж твоя идейность?
Дед в соседней комнате проверяет тетради и что-то бурчит в ответ. Бабушка смеется, но и чуть-чуть защищает деда:
— Тут всякая идейность из головы вонки, когда на стенку лезешь от зубов.
Свет отключали рано, но сидели при лампе и расходились затемно. Забравшись под одеяло, я, боясь уснуть раньше времени, торопила бабушку: «Баб, отмоли меня». Бабушка на полпути оставляла свои дела и спешила ко мне. Сначала мы вместе скандировали, для меня это была веселая игра: «Ангел мой! Ложись со мной, а ты, змея, уйди от меня, от окон, от дверей, от постели моей!» Потом бабушка тихо шептала, сжимая мои ладони в своей руке: «Ангел наш, хранитель-спаситель! Избавь младенца Александру от всякой напасти, от всякой страсти, от злых зверей, от злых людей и от разных болезней. Пошли ей доброе здоровье на долгие годы, на всю ее жизнь!»
Прежде чем задуть лампу и лечь рядом со мною, бабушка еще долго стояла под образами в углу, крестилась и шептала что-то про хлеб наш насущный и долги наши. А у меня из головы не шла женщина в белом. Я глядела бабушке в спину и думала, что бы я попросила, если б встретилась с нею за баней, дальше я в лес не ходила, боялась волков. Просить платья, конфеты и кукол — грешно, говорила бабушка, а большого желания у меня никакого не было.
Одну просьбу я все-таки придумала, и на следующий день, когда в доме никого не было, я подошла к божнице, стараясь держаться подальше, чтобы лики не заглянули мне в глаза, и попросила, пусть мамка с папкой приедут в субботу. Они давно не приезжали, возили лес для нового дома. Мать приехала в субботу и привезла гостинцев и игрушек. С этой просьбой я подходила к божнице каждый день, и мать приезжала иной раз и раньше на день-два, радуясь каким-то отгулам. Я строго берегла свою тайну, чтобы не сглазить, и очень гордилась, что не только у бабушки, но и у меня появились свои отношения, о которых никто не знает, со строгими иконами в божнице.
От бабушки осталось на память так мало вещей — вышитая ею скатерть, иконка, стопка фотографий. Но запомнилось много кусочков и обрывков из ее молитв, заговоров. То и дело на язык приходят ее поговорки, прибаутки, присказки. Это бабушкино, отмечаю я мельком, так она говорила. А вот свою мать я долго считала немою. Родилась в деревне, и было от кого научиться, а не научилась, — думала я с неодобрением. Я и то больше ее знаю. Но вот родился у меня ребенок, и скоро я, не веря своим ушам, слушала, как мать его укачивает:
Поповы детки горох молотили,
Цепы доломали, в овин покидали,
А поп догадался, на них заругался...
Это была старинная-престаринная байка. Сколько ее память вдруг выплеснула баек, пестушек, присказок, прибауток. Неужели надо было стать бабкой, чтобы все это вспомнить?
Подъехали к кладбищу — пышному шатру на холме. Деревья так тесно сплелись ветвями, что под ними был густой сумрак. Сверху, как сквозь прорехи в крыше, падали острые прямые лучи и увязали в зелени. Она была так густа, что в ней тонули оградки, а черные кресты еле-еле выглядывали с упреком. Один луч я на ходу разрезала ладонью, и он расплющился на ней яркой лужицей, убрала ладонь — и он снова упал в лопухи. Не верилось, что здесь бывают люди, но несколько могилок были ухожены. Мать с тетками кинулись вырывать траву, словно искупая какую-то давнюю вину, потом уселись рядком на упавшее дерево и заплакали. Дед стоял поодаль, делая вид, что разглядывает что-то вдалеке за крышами, на самом деле он и в двух шагах ничего не видел. Отплакавшись, женщины полезли в заросли между могилками, вспоминая, где кто лежит, когда и от чего помер. А дед, дождавшись своего часа, быстро заковылял к машине и вернулся с баночкой и кистью.
Наши могилки тихо дремали у ограды. Я долго сидела у их подножия и, глядя, как тесно они прижались друг к другу, думала, что и на том свете, наверное, нужны близкие родные люди, может быть, не меньше, чем на этом. Почему, когда я смотрю на них, мне совсем не страшно умереть, а, наоборот, так спокойно и тепло на сердце? Значит, могут согревать нас люди, которых уже нет на белом свете.
Время здесь не то, что незаметно уходит, а его вообще нет. Дед уже успел покрасить кресты, и они засияли серебряной свежестью на зависть поржавевшим унылым соседям. Нам давно кричали от машин и махали руками. Мы с дедом тихо побрели с кладбища. По дороге дед оглядывался и косился на меня, но я делала вид, что не замечаю его озабоченного лица. Дед не столько боится смерти, сколько страшится умереть не вовремя. Никто ему этого не говорил, но он и сам знает, что в весеннюю распутицу и в зимние заносы сюда не проедешь, и придется ему лежать на нашем городском кладбище, рядом с мраморными купеческими пирамидами.
Солнце вдруг в один миг потухло над зеленой крышей, убежали вверх лучи, и стало совсем темно. Стая ворон, вспугнутая этой переменой, прервала свою нестройную панихиду, снялась и отчалила неизвестно куда. Без этой орды стало так тихо, что тишина оглушила, как гром. Я оглянулась в последний раз — без людей кладбище сразу же помрачнело и погрузилось в скорбную тишину.
Братец звал меня к своей машине и, открывая дверцу, насмешливо мигал на шурина: «Получает, получает, слыхала?» — «Чего получает?» — я не сразу поняла. Шурин, чернявый тощий Славик, все обхаживал свой мотоцикл, ни минуты не мог посидеть спокойно. Весь он был не наш — и цветом и нравом, слишком суетный, дерганый, неспокойный. Жена и теща его зашпыняли, вся родня над ним посмеивалась, братец больше всех. Смеялись над его больной мечтою — купить машину, все имеют, а у него нету. Славик поймал наши взгляды, но отворотился с гордой небрежностью. Ого, перемены налицо, куда девался нелюбимый тещин зять, даже потолстел малость. Вот что значит получить все, чего жаждешь, все сразу без остатка.
— У тещи занял тыщу, без отдачи. У меня тыщу, — шипел на ухо братец.
— Ну ты у нас кулак, — похвалила я его. — Надо у тебя тоже подзанять на мебель. Дашь тысячи две-три?
— Проценты будешь платить?
— Перебьешься без процентов...
— Вот так всегда, — прикинулся братец бедной сиротой. — Родственнички скубут со всех сторон.
Это не тот вредный братец, который называл меня «хоронительницей воробьев», а младший, любимый, тот самый, из которого вышло не то, чего ждали. От него веет таким здоровьем и спокойной воловьей силой, что весело и приятно глядеть. Его светлые глаза с добродушием смотрят на всех без исключения. Кажется, нет таких сил, которые изменили бы его снисходительно-положительное мнение о людях. Плохих людей для него нет, а есть смешные, заблуждающиеся, неудачники. Я люблю беседовать с братцем, и не раз меня ободрял и поддерживал его светлый взгляд на мир и не чахнущий с годами оптимизм. А не зачах он до сих пор, наверное, потому, что братец в чужих краях пробыл недолго и всегда быстро и с облегчением возвращался домой.
Двадцать лет назад это был худущий, болезненный подросток. Когда он родился, его даже не регистрировали до трех месяцев, думали, что помрет. Таким он остался в моей памяти, как законченный образ, не продолжившись и не слившись с нынешним цветущим, основательным мужиком. Характер у него в детстве был странный, переменчивый. Как бродячий кот, он редко бывал дома, а где бродил, мы не знали. Часто он возвращался поздно ночью или под утро и влезал на чердак. Я ждала его и слушала, как тихо потрескивают доски под его шагами. Бабушка тоже, подняв голову, слушала. Старший, Юрка, любил комфорт и никогда не спал на чердаке, а этот как будто нарочно искал уединения и глухие углы. Он любил забиться куда-нибудь подальше от чужих глаз и, вперив в неизвестность потемневший, остановившийся взор, надолго задуматься. Таким он был для меня особенно загадочным и притягательным. Но он никогда не играл и не разговаривал со мной, и относился ко мне так же, как я к соседкиному мальчишке, который влезал на крыльцо, помогая себе руками. Но я все равно нежно любила его и за те немногие оказанные мне знаки внимания и заботы. Он как-то принес мне из лесу пучок земляничных веточек с первыми ягодами. Однажды мы играли с девчонками у речки, а он бежал купаться с какими-то чужими мальчишками, по виду городскими, и вдруг на ходу, махнув рукой в мою сторону, сказал им: «А это моя сеструха». Вся толпа глянула на меня мельком и побежала дальше. Я обмерла и долго не могла в себя прийти от такой нежданной радости, подаренной мне братцем. Подружек такое внимание к моей особе очень уязвило.
— Подумаешь! — сказала завистливо одна из них. — У нее оба брата, что один, что другой, бандиты и двоечники.
— А у тебя и таких нету, — отвечала я первое, что пришло в голову.
А еще однажды мы ловили бабочек за сараями, и вдруг меня укусила в босую пятку оса. Боль была такой страшной, что сначала посыпались из глаз то ли слезы, то ли искры, а потом уже вслед громко заорала я. Братец с дружками шествовали мимо на рыбалку, бережно неся длинные, раза в два-три выше их самих, удилища. Они выстругивали их у нас за домом, а потом сидели на берегу до самых потемок. Братец, не колеблясь, сунул дружкам удочки, взвалил меня на спину и тяжелой рысью побежал домой. Он был такой маленький и худой, а я такая рослая и упитанная девица. Он не сразу унесся обратно, а еще с интересом наблюдал, как бабушка вытаскивала жало и мазала чем-то ранку.
Конечно, ему было скучно со мной, я понимала, но за внешним равнодушием я чувствовала его нежную бережность. За это я любила братца, но еще больше, кажется, жалела за все несчастья и неудачи, которые ходили за ним по пятам. За что бы он ни брался, все выходило вкривь и вкось. Рубил дрова — саданул себе топором по пальцу. Слезая с печки, попал почему-то прямо в бочонок с бражкой и с перепугу убежал, а когда вернулся, одежда на нем стояла колом, как накрахмаленная. К учебе он питал прямо-таки отвращение. Зная, что его ждут за это жестокие побои, все равно забрасывал портфель на печку в школьном коридоре и исчезал до вечера. Он выучился виртуозно исправлять и подтирать в дневнике двойки и колы, но все равно его рано или поздно уличали, и дед брал свой широкий ремень с тяжелой пряжкой. Заступничество бабушки приводило деда в еще большую ярость, и она убегала во двор, чтобы этого не видеть. Бабуля любила младшего братца какой-то мученической любовью и жалела больше других своих внуков. Мне тоже больно и нестерпимо было видеть это, и еще долго после экзекуции сердце бешено стучало и ныло жалостью к братцу, хотя он никогда не плакал и не кричал. Дед считал эго наказание одной из главных воспитательных мер, и остановить его никто бы не смог. Когда же он бил старшего, Юрку, сердце хоть и колотилось от волнения, но к волнению примешивалось вполне ощутимое мстительное удовлетворение. Но младшего били все-таки гораздо чаще, и виновником я считала дедов ремень. Вернувшись из школы, дед его снимал и укладывал колечком на стул. Он обедал и по дому ходил распоясанный, читал, сидя на стуле посреди комнаты и держа книжку в вытянутых руках. Такое чтение не могло продолжаться долго. Дед опускал замлевшие руки на колени и пересказывал бабушке смешные и интересные эпизоды. Настоящая же страсть к чтению была у нашей малограмотной бабушки. Она часами читала по складам, шевеля губами, или мне вслух, когда мы уютно устраивались на нашей широкой кровати. Когда мы к концу лета наконец одолели «Гулящую», тетя Варя привезла другую, такую же «жизненную» книжку. У деда на столе всегда были одни и те же, его любимые авторы — Шолохов, Фадеев, Толстой, Гоголь. Вот кто внпашем доме вообще ничего не читал, так это оба братца.
Я долго вынашивала свой замысел, прежде чем похитить ремень. Спрятала я его в нашей бане, в щели между полусгнившими половицами. Самое страшное было в нее войти, даже ясным днем. Влажным вениковым духом пахнула она мне в лицо. Я сунула ремень под половицу, в спешке ободрала руку и пулей вылетела вон.
Дед хватился, собираясь в школу, когда он уже облачился в свою хрустящую гимнастерку, застегнул под горлом чистый подворотничок, мурлыча от тихого удовольствия. Но вот он оглянулся на стул, повел глазами вокруг и удивленно хмыкнул. Как охотник из засады, я зорко наблюдала за ним с печки. Они с бабушкой обыскали все кругом, в нашем доме трудно было что-то потерять. Дед уже сердился и требовал братцев. Бабушка затосковала и потерянно мыкалась по дому. Все было так плохо, что впору только зареветь. Ремень не забудется, как я надеялась, уже потому, что деду больше нечего надеть. Раньше я об этом как-то не подумала. Деда я ни в чем другом и вспомнить не могу, только в смешных пузыристых галифе и гимнастерке. После войны хотели купить ему костюм, бабушка даже в Москву ездила к родственникам, но и там не сумели достать ни костюма, ни материи. Так дед и ходил до самой пенсии, а выйдя на пенсию, купил себе сразу два костюма.
Справившись понемногу с робостью, я вышла к ним из-за занавески и, глядя на деда высоко вверх, заявила, что отдам ремень, если он не будет больше драться. Дед так удивился, что даже позабыл рассердиться, а только спросил, куда же я так запрятала ремень. Юрка радостно побежал в баню, а дед все ходил кругами по комнате и с гордостью говорил бабушке:
— Ведь так упрятала, что в жизнь бы не нашли!
— Даже и в голову бы не пришло, — кивала довольная бабушка.
Наверное, и в школе дед весь день рассказывал коллегам о моих необыкновенных способностях; а бабушка, когда прибежал братец, долго глядела на нас с грустною нежностью и просила меня:
— Ты его жалей-жалей, он же твой братчик.
Я и рада была пожалеть, обняла его и уткнулась лбом в твердые ребрушки на его груди, пн братец смущенно вырвался из моих рук и отошел подальше в сторонку.
Помнит ли он бабулю так, как помнит ее мать, тетушки и я. На кладбище он шел к могилам, но не дошел, постоял поодаль и тихо побрел обратно. Он очень скуп на чувства и как огня боится чувствительности. Память у него, наверное, другая.
Когда его провожали в армию, бабушка до последней минуты была спокойна. Но когда он уже вскочил на подножку, она вдруг бросилась и вцепилась в него обеими руками, жадно заглядывая в лицо. Братец, бедный, растерялся и все пытался бодро улыбнуться, но выходило через силу, страдальчески. Он взял в свои ладони ее руки и слегка утешающе потряс, а сам все шевелил губами, но так ничего и не сказал. Когда он вернулся через два года, бабули уже не было.
После армии братец недолго пребывал в растерянности. Послонявшись месяц, он уехал к Юрке, который в это время плавал по морям, но скоро вернулся домой, устроился на автобазу шофером, женился, родил двоих детей, построил дом, купил машину. Бывают у него, правда, время от времени какие-то странные увлечения: то развел нутрий, но скоро бросил это дело, то увлекся собаководством, а теперь вот хочет завести корову. Бывает, вклиниваются среди этих увлечений и полезные: он провел воду в дом и на огород, посадил лимон. Если бы этот лимон так и не вырос, то родня отнесла бы его к разряду нехороших странностей, но лимон стал плодоносить, и теперь о нем в городе ходят легенды и его с гордостью показывают знакомым. Братец много читает, лежа на диване, и часто засыпает, уронив книжку на грудь.
Люблю я его еще за то, что он совершенно не жадный, несмотря на свою мужицкую основательность. В долг дает всем, кто ни попросит, и никогда не напомнит о долге. Свои «левые» деньги и заначки он прячет по шкафам и тумбочкам, в места, которые даже дети его давно знают. Когда я говорю ему, что он глупо прячет деньги, он уважительно разводит руками: «Где уж нам до вас!» Мы хохочем, вспоминая, как ловко я прятала ремень и свои денюжки, что даже проныра-Юрка никогда не мог найти.
О старшем, Юрке, мне как-то скучно вспоминать, но, начав, я даже немного увлекаюсь. В отличие от младшего брата это был рослый, крепкий малый, всегда аккуратно и по моде одетый. В свои двенадцать лет он замучил бабушку и тетю Варю бесконечными просьбами сшить ему то какую-то вельветовую куртку на «молниях», то особенную кепку с большим козырьком. Он был ленивый на учебу, но реже битый, чем брат, потому что всегда умел отговориться, оправдаться, дед так и называл его «брехун». Нас, младших, он шпынял, поколачивал, отбирал или крал все, что приглянется. Особенно зорко он следил за мной, не появилось ли у меня каких материальных ценностей. Ценности и деньги бывали часто, но надолго не задерживались. Мать с отцом дарили игрушки, карандаши, сладости и монеты с бумажками, желтенькими, синими. Перед тем, как отдать получку бабушке, дед пересчитывал ее у стола. Я подходила и молча смотрела, пока он не откладывал мне на край несколько монет или бумажку. Я сортировала монеты по размерам, бумажки по цветам и прятала в самых немыслимых местах. Юрка тут же становился необыкновенно внимательным и дружелюбным. Он спрашивал, не нужно ли мне цветных стеклышек, а то он как раз идет на железную дорогу и принесет сколько захочу. Вечером в воскресенье, перед тем как идти на танцы, он сидел и долго говорил со мной. На танцы в клуб у нас бегала вся мелюзга и до утра крутилась на крыльце и под ногами у танцующих. Я тоже все собиралась, но к этому часу меня всегда смаривал сон, и бабушка, укладывая меня, утешала: «Ничего, пойдешь в другой раз, через неделю».
Братец разговор начинал издалека, что, может быть, сегодня они поедут на танцы в соседний поселок, а то и прямо в город, а вернутся утром московским. При этом он шипел мне на ухо: «Только гляди, молчок! Дед услышат, знаешь, что нам будет?» И ведь сердце мое всегда чуяло обман, но каждый раз он снова покупал меня то разговорами на равных, то искусно подделанным доверием и искренностью. О городе мне мало верилось, но все равно я смотрела на него с уважением, как на человека, отъезжающего за границу. В городе, говорил братец, он видел совсем какие-то необыкновенные конфеты, с кораблями, медведями и белками на бумажках. Он знал, что я собираю фантики, знал все мои слабости и бил без промаха. Уже в конце светской беседы, вставая, чтобы уйти, он небрежно предлагал мне купить то одно, то другое. Когда я давала ему часть денег, он умел вытянуть все, до последней копейки. Я долго-долго ждала его вечером, а с утра уже просыпалась с тревожной радостной мыслью. Его невозможно было добудиться, он спал, как медведь под снегом. Тогда я сама обыскивала карманы его куртки, находила мелочь, обертки от конфет, конфет же — никогда. Я плакала и жаловалась на него всем подряд. Все мне сочувствовали, предлагая возместить убытки, но не возмещение убытков мне было надо...
Он был жаден не только на деньги и сладости. Появлялась у меня ненужная ему совершенно коробка карандашей, и он тут же загорался каким-то бешеным азартом и не потухал, пока эта коробка правдами или чаще неправдами не попадала к нему, чтобы тут же исчезнуть из дому навсегда. Он не копил вокруг себя вещей, а быстро выменивал или продавал все, что попадало ему в руки. Младший братец, тот наоборот, был очень привязчив к вещам, менялся очень редко и месяцами хранил свои сокровища в карманах или тайниках.
Особенно нахально Юрка надул меня на денежной реформе. Он об этой реформе нам все уши прожужжал, а я к тому времени на беду скопила кой-чего и вручила ему для обмена желтые и синие бумажки. Впоследствии оказалось, что он, в общем-то, и не очень надул, но как мне было понять это в то время, когда мне вместо моих бумажек принесли горсть жалких монеток. Я так заорала, что наш кот на подоконнике прянул ушами, как конь. Прибежавший дед отдышался от испуга и долго убеждал меня, что обмана тут никакого нет. Но я не верила: деду только бы мы не ругались и не дрались, и в доме был мир, ради этого он мог и соврать. Чтобы утешить меня, дед подарил мне две красивые бумажки-облигации и приказал беречь и не терять. «Это уже точно без обмана», — заверил меня дед и, как печатью, прихлопнул бумажки ладонью. Я побежала к братцам, чтобы понять, стоит или не стоит радоваться такому подарку. Братцы просто ошалели от бумажек. Младший, как прочитал вслух — сто рублей, так и онемел, а у Юрки от волнения и алчности побелели губы. Осознав, какая ценность у меня в руках, я свернула бумажки трубочкой и чуть погодя спрятала в свой старый валенок в кладовке. Только дед мог взять валенок, чтобы порезать его на пыжи, а уж мой хитроумный братец никогда не догадается искать здесь.
Не успевали отболеть старые обиды на Юрку, как он причинял мне новые, и они, накопившись, превратились в прочное недоброе чувство к старшему братцу. Не скрою, я всегда, как могла, вредила ему и радовалась его неудачам, даже когда мы выросли и повзрослели. Он уже возмущал меня, как человек другой веры, чужой морали. Он презирал и стыдился нас всех, своих родственников, и взахлеб мечтал о какой-то красивой, легкой и вольной жизни. Его небогатое воображение и скудная фантазия нарисовали ему пеструю, аляповатую картинку этой жизни, которую он долгие годы лелеял.
Последний школьный год он доживал в мучениях, весь уже уйдя в свое будущее. Развалившись на кровати, он вслух мечтал, позволяя нам присутствовать, на самом деле ему, как воздух, нужны были слушатели. Начинал он обычно, презрительно скривившись, с ругани нашего родного захолустья:
— Только дураки могут здесь жить, — говорил он, и мы все чувствовали себя дураками. — Это же болото, тут пойти даже некуда...
— А сам каждую среду и субботу бегает на танцы, — ехидно вставляла я, обращаясь к публике.
Но опьяненный оратор ничего не слышал. На ходу воодушевляясь и глупо сияя лицом, он рисовал и раскрашивал свою мурманскую жизнь. Сначала училище, потом корабль, куда его якобы тут же берет наш дальний родственник. В те годы наш городишко был охвачен морской эпидемией, на моря уезжали целыми классами, иные пропадали там бесследно, другие быстро возвращались. Юркины дружки часто собирались у нас и взахлеб говорили о вольготной моряцкой жизни. Слушая, я про себя думала, что, пожалуй, никто так бесшабашно не заливает, как начинающие или неудавшиеся моряки. На что уж охотники и рыболовы, они всегда привирают о своих добычах, и те им в подметки не годятся. Послушаешь Юрку и его дружков, так эта жизнь — сплошной праздник, бесплатные путешествия в дальние страны, а деньжищи такие, что иной работяга десять лет вкалывает за то, что моряк получает за полгода.
Ну наконец-то он дождался. В новую жизнь уезжал торжественно и шумно. Мы все толпились у вагона, целый табун его родственников, а он рассеянно смотрел поверх наших голов и кивал, слушая вполуха наставления матери, как жить и не пропасть в чужих краях.
Из училища он приезжал в какой-то странной белой робе, девицы посходили с ума, а я стала чуть-чуть гордиться таким братом. Тогда и в первые год-два его плаваний мы ненадолго поверили, что его, может быть, действительно ждет какая-то необычная жизнь, не такая, как нам всем уготована. Дед говорил о нем с каким-то недоброкачественным уважением: «Этот не пропадет!» И все соседи, родня, знакомые хором вторили: «Этот не пропадет! Этот далеко пойдет!», кто с завистью и солидарностью, кто — с брезгливой снисходительностью. И сглазили!
В первые же годы плаваний он как-то усох, почернел и облысел, чуть-чуть поугасло и воодушевление, но любовь к красивостям жизни все так же ярко пылала. О том, как они живут на корабле, какая у него работа, трудно ли плавать так долго, он не любил говорить, сердито отмахивался и мрачнел, когда мы приставали. Но зато как он оживал и упивался своими же рассказами о своей жизни с того момента, как сходит на берег, получает свои тысячи, тут же идет в ресторан и заказывает столик на троих, хотя он один, как мечутся вокруг официантки, что́ он, как истинный знаток, выпивает сначала, а что — потом, как изысканно закусывает... Мы уже скучаем с братцем, но он не замечает: как же это может быть скучно, если они за вечер иногда оставляют в ресторане несколько сотен. Мы с братцем не можем сдержать улыбок и переглядываемся. Ведь домой он часто приезжает без копейки, даже матери не привезет какой-нибудь заморский гостинчик, а дома тоже ходит по ресторанам с друзьями, но уже не на свои, у матери берет, у братца стреляет. Юрка замечает и наши улыбки, и переглядку, он страшно уязвлен, но пытается за безразличным посвистыванием это скрыть. У этого пустоватого, никчемного мужичка, убогого бездельника, не помню, как я еще называла Юрку, у него был дьявольский гонор, только вельмолшому пану впору.
С работой у него не ладилось, не таким легким, как видно, оказался этот хлеб, а трудностей наш Юрик не выносил никаких. Но он не терял надежд устроить свои дела, как-то нагло нам заявил, нас даже сильно покоробило, что женитьба — дело важное в жизни, что он женится только на девушке из хорошей семьи, а еще, чтоб у жены непременно было высшее образование.
Но и эта мечта погибла. Его женила в одночасье будущая теща, очень энергичная женщина. Жена его настолько не соответствовала требованиям, что хоть плачь.
Давно я уже не радуюсь его неудачам, наоборот, мне его временами жалко. Хоть и грошовыми были его мечты, но и они не сбылись. Он давно уже сник, опустился, и даже малость обозлился, непонятно на кого и за что. С год он не плавал, работал у нас на трикотажной фабрике, потом снова уехал в Мурманск.
Теперь, когда Юркина жена долго и нудно на него жалуется, я упорно, обидно молчу. Потом, чтоб хоть что-то сказать, утешить ее, я мямлю, но получается, что я защищаю братца:
— Где ты сейчас найдешь хороших мужиков, погляди вокруг, — тут я оглядываюсь, и она машинально за мной оглядывается. — Одни пьяницы. Твой хотя бы зарабатывает, тряпки тебе возит.
А сама про себя думаю: не такая жена ему нужна, если б не она, и наш Юрка был бы другой, а так он и ездить домой не хочет, чтобы не видеть эту мымру — только деньги и тряпье на уме. А сама смеюсь над собой: вот он, голос крови, прорезался. Какой бы он ни был, а все-таки свой, брат.
А нынче весной я сама себя несказанно удивила. Копаясь в старых письмах, фотографиях, мой архив помещается в нескольких коробках из-под обуви, я вдруг нашла маленькую любительскую карточку и так взволновалась и расчувствовалась, что побежала с ней в спальню и там в полумраке чуть-чуть всплакнула. На слезы я не скорая и уже несколько лет не плакала.
На серо-дымчатой бледной карточке я узнала братцев, сидящих на заборе школы. Это даже не забор, а изгородь — две длинные жерди между столбами. Оба стриженные под машинку, оба в белых майках и черных шароварах. Я помню, как щелкнули братцев, это было при мне, и помню хорошо этот день в июне. Это был жаркий, шумный, веселый день, после него дед долго болел и чуть не помер. Я и плакала, и смеялась, вспоминая все новые подробности этого дня.
В июне заканчивались занятия и экзамены и истерзанная школа пустела. Можно было пройтись по коридорам и классам, не боясь, что собьют с ног. В классах было страшно и пусто: сдвинутые вкривь и вкось парты, обрывки бумаг, раздавленный мел на полу. Битых воробьев совсем не стало и хоронить было некого. За всю неделю я закопала только голубя, умершего своей смертью от непонятных причин.
Дед со старичком завхозом бродили по двору, сараям, подолгу курили в учительской. И я ходила за ними вслед, пока не надоедало. Говорили они мало, все больше обрывками, привыкнув понимать друг друга с полуслова. Дед, например, посмотрит на печку в углу и вдруг скажет:
— А что, Петрович, кирпича-то нам сколько надо?
— Да что кирпич, — затянет Петрович. — Кирпич не проблема, вон поезжай на аэродром и греби лопатой...
— В угловом надо перекладывать, дымит, — думает вслух дед.
— Дров вот побольше надо, — не слышит деда глуховатый завхоз. — Да и дрова не проблема, привезть надо, а где машину взять? А дров в лесу сколько хошь.
— Машину где взять? — переспрашивает щурясь дед, и вдруг глаза его радостно вспыхивают. — На аэродром пойду!
В чем бы ни возникла нужда, говорили — пойду на аэродром и достану. Аэродромов у нас было целых два. Старый, разбомбленный немцами дотла в первые же дни войны, совсем близко. Часто дед с бабушкой брали два больших мешка, косу, и мы шли в ту сторону накосить травы поросятам и кроликам. Большое поле заросло бурьяном по грудь, а рос бурьян не из земли, а из битых кирпичей, щебня, железок. По краю поля, заросшего молодыми березками и осинками, краснели остатки фундаментов и пирамиды кирпича. Жутко и нехорошо было на этих развалинах, может быть, от какой-то особенной, скорбной и чуткой тишины. Бомбежки я видела в кино, и так боялась, что затыкала уши и закрывала глаза, а то потихоньку сползала и пряталась между рядов. Зрители в нашем маленьком клубе это давно заприметили и очень потешались надо мной. Когда стрельба на экране смолкала, все дружно кричали мне: «Шурка, вылезай, отбой!»
Тишина на разбомбленном аэродроме была очень ненадежной, казалось, ступи от нее один шаг, и попадешь в грохот и вой тех страшных часов. Дед с бабушкой бросали мешки за спину, а я бежала за ними следом и все время оглядывалась. Для меня этот старый аэродром был такой же большой братской могилой, как на городском кладбище.
Вот уже пятнадцать лет, как кончилась война, а до сих пор вся округа и город ездили сюда за кирпичом. Кирпич достать было трудно. Мы строили дом в городе, поэтому я знала, что очень трудно доставать кирпич, краску, обои, и просто трудно — стекло, шифер или толь на крышу.
Новый аэродром и поселок с магазинами, базарчиком и клубом были от нас километрах в пяти. В ясные летние вечера офицерские жены приходили к нам за парным молоком, покупали по осени картошку, а когда начинали бить свиней, то парное мясо и сало. Молодые летчики и солдаты из гарнизона ходили к нам в клуб на танцы, потому что на аэродроме своих невест было мало. Они прозывались «летунами» и очень высоко котировались как женихи.
И вот однажды утром дед почистил сапоги, побрился, одернул гимнастерку и зашагал на аэродром. Я добежала с ним до поворота и вернулась. К обеду приехала машина, и солдаты сначала сбросили у школы бочку с бензином. Зачем он мог понадобиться, никто не понял, но дед ничем не брезговал и считал, что рано или поздно все сгодится. И завхоз был того же мнения и, довольный, укатил бочку в сарай. Потом согнали старшеклассников и стали разгружать дрова. Машина приезжала три раза. Дед тут же на ходу составил график, включив все поголовье старшеклассников и даже братцев, хотя один был в четвертом, другой — в пятом. Теперь они каждый день до осени должны были под присмотром завхоза пилить, колоть и складывать дрова.
Вся деревня до вечера толклась у школы. Мальчишки, как воробьи, облепили длинные жерди ограды. Вот тут-то какой-то любитель и щелкнул братцев, потом он еще много щелкал нас всех, но куда девались эти снимки? Кабы знать! Много бы я дала за них сейчас.
Как только показывалась машина, все срывались, чтобы отбросить жерди и дать ей дорогу, а потом стремились первыми взлететь наверх. Людей было много больше, чем надо.
В учительской галдели учителя. Пришли все мужчины, им нечего было делать на каникулах. Из женщин прибежала на минутку только учительница химии и выдала из сейфа бутылку спирта, предназначенного для опытов. Но никогда ни капля этой жидкости на опыты не попадала, а уходила на хозяйственные нужды.
Было уже поздно, когда машина ушла на аэродром. Наступило коротенькое время между жарким июньским днем и вечером, сумерки еще не наступили, а только подкрадывались, но день уже погас, жара ушла, но вместо нее пришла не прохлада, а робкое теплое затишье.
Дед с двумя летчиками шли от школы к нашему дому, а мы толпились за ними. Один из летчиков, постарше и потолще — дедов закадычный друг, он часто к нам приезжал, другой — молодой и стройный. Я старалась, обогнав братцев и их дружков, держаться поближе к летчикам, чтобы слышать волнительный скрип их сапог, и думала, что замуж выйду только за летчика.
Бабушка с тетей Варей уже ждали и накрывали на стол. Бабушка несла яичницу с салом, держа ее подальше от лица, потому что та шипела и стрелялась. На столе уже дожидалась: квашеная капуста, по-бабушкиному не мелкошинкованная, а засоленная целыми листами, даже в июне она еще была белой и сочно хрустела; огурцы в зарослях укропа и сало, порезанное кусочками, как у нас говорилось, скибочками.
Утром бабушка пекла хлеб и теперь достала с полки каравай, завернутый в полотенце. Летчики так одобрительно загудели на каравай, что довольная бабушка обещала им с собой по большому ломтю. Тетя Варя вытащила из печки чугунок с юшкой, специально сваренной для гостей. Юшку я бы и сама каждый день ела. Готовилась она очень просто: в чугунок в холодную воду бросали все сразу — и картошку, и соленое мясо, если уже не было свежего, и лук с приправами, и ставили в печь. Если бы это кушанье варилось на плите, то получилось бы что-нибудь совсем несъедобное, но юшка не варилась, а томилась в печи несколько часов и получалась вкусная разваристая похлебка. Так же готовились в печи каши, щи, картошка.
Мы с мальчишками сидели на лавке у окна и зачарованно глядели на гостей. Бабушка дала нам по кружке топленого молока и по ломтю хлеба. Прихлебывая молоко, я следила, как дед долго разглядывал дно маленького граненого стакана, вздыхал, обводил глазами углы, но тут летчики тряхнули головами, и дед, наконец, тоже решился и выпил вместе с ними, сморщился и зябко передернул плечами. Я тоже сморщилась, и молоко стало горьким. Все трое жадно выпили по стакану воды и дружно захрустели капустными листами.
Когда стемнело и мы прибежали с улицы, на захламленном столе мигала лампа, бабушка уже была сердитой, а дед с летчиками, раскисшие, шумливые, то задушевно беседовали, то кричали и спорили. Бабушка выгнала их в сени, но и там они шумели и не давали нам спать всю ночь. То и дело бабушка выходила ругаться с дедом. Он нашел запрятанную в подпол бутылку с самогоном, потом они все вместо пошли будить продавщицу и требовать вина. Угомонились только под утро.
Мы встали поздно, в девятом часу. Деда не было слышно и видно. Бабушка гремела в сенях чугунами и ведрами. С сеновала опустились понурые, распоясанные летчики, виновато прятали глаза и спешили уйти. От хлеба они отказались и только руками замахали — какой тут хлеб!
— Что? Лихо? — с сердитым сочувствием спросила бабушка.
Они так спускались с крыльца, как будто ноги у них плохо гнулись в коленях, и тяжело, вразнобой побрели по дороге. Я смотрела им вслед, пока они не скрылись за баней, и думала, что люди, которые так ходят, никуда не дойдут. Было чуть грустно по моей, так быстро погибшей мечте — замуж за летчика уже не хотелось. Бабушка с тетей Варей тоже смотрели летчикам вслед из окна и смеялись:
— Куда им, зюзям, хлеб, себя б донесли...
— Завалятся сейчас где-нибудь в кустах и проспят до вечера, им что, — зевнула тетя Варя.
Они повздыхали и решили все-таки прилечь на часок, доспать недоспанное, благо все дела сделаны, скотина накормлена, корова в поле. И в нашем доме средь белого дня наступила сонная тишина.
Дед долго-долго лежал на печке без всяких признаков жизни. Грудь его не дышала, я специально прикладывала ладонь и ничего не слышала. На лице не было спокойно-расслабленного выражения, какое бывает у спящих здоровых людей, оно было осунувшимся и бледным, как побеленная печка и его рубаха. Я часто влезала к нему, трогала осторожно его лицо, чтобы проверить, жив ли он, но не могла понять, жив или нет. Вечером дед вдруг неожиданно открыл глаза.
— Баб! — закричала я радостно с печки. — А дедушка проглянул!
— Чтоб он вообще бельмы свои пьяные не раскрывал, — забурчала бабушка и так злобно сунула ухват за печку, что он, столкнувшись с другими ухватами, заскрежетал и загрохал.
От этих звуков у деда появилось обиженное страдание на лице. Он глянул на меня и без слов пожаловался: «Ты видишь, как мне плохо, а она...»
— ...ички, — зашептал дед, но я ничего не поняла, — Во...ички. — И голубые тени вдруг побежали по его лицу.
— Водички! — зарыдала я в голос от страха и жалости и слетела с печки на полок. Теперь мы с бабушкой были одного роста. Я, захлебываясь в слезах, спрашивала с мольбой: — Баб! Он не помрет?
— Сто раз бы уже помер твой дед, если б суждено ему было подохнуть от водки. Сколько он, гад, выпил ее! — сказала, смеясь над моим горем, бабушка, сунула мне кружку и заспешила к плите, потому что та, разгораясь, шумно потрескивала.
Совершенно успокоенная этими словами, я полезла к деду. Он долго лежал с открытыми глазами, собираясь с силами, потом приподнялся на локте, а выпив воду, тут же бессильно опрокинулся на спину.
Потом дед рассказывал, что одни раз в жизни он так напился, что лежал без памяти три дня. На самом деле он уже на второй день к вечеру слез с печки. Тетя Варя долго ходила вокруг и спрашивала, вытягивая шею: «Пап, ну как ты?» Потом она уговорила его попить крепкого чаю. Дед пил чашку за чашкой, и лицо у него багровело и оживало. Бабушка демонстративно вышла из-за стола и, даже проходя мимо, отворачивалась. Приехала моя мать, посочувствовала, поохала, как же можно так губить свое здоровье, но потом за столом все поглядывала на деда с насмешкой.
— Пап! — сказала она не столько ему, сколько всем нам. — А что ж это будет, когда ты поедешь в город за стеклом?
Дед только мрачно глянул на нее, но ничего не ответил. Разве б посмела она так разговаривать с ним, если бы он не был так болен, подумала я с неодобрением о матери. А тут еще не выдержала и вступила бабушка.
— В городе пускай, как хочет, никто этого не видит. А как мне теперь по деревне пройти? — громко спрашивала бабушка от порога. — Он же к Верке всю ночь барабанил в окно, водки требовал. Всех соседей побудил, черта ты кусок! — напоследок бросила бабушка и выскочила за дверь.
Дед с изумлением слушал ее слова, кажется, с трудом понимая, что это о нем. Вдруг он охнул, ударил себя руками по голове, потом по коленям, и лицо его исказилось от боли. Я только тесней прижалась к дедовым коленям, а тетя Варя кинулась его утешать: Верка ей сама говорила, что стучались и просили водку только летчики, а деда не было видно, наверное, где-то в стороночке стоял. Не знаю, успокоило ли это деда, но когда он лег за занавеской в спаленке, то долго еще ворочался и неожиданно охал из темноты.
Рано утром дед, хоть и был еще очень слаб, надел старые шаровары, кепочку и вышел на работы по хозяйству. Все мужские дела по дому — починить крыльцо, заделать прореху в крыше пуньки — бабушка копила до того времени, когда дед будет виноватым. Невиноватый, он ничего не делал, сколько бы ни просили, напоминали, угрожали. Дед отнекивался тем, что он без дела не сидит, что он целый день в школе. В школе он и правда хозяйничал с азартом, вечно что-то доставал, выбивал, менял, свое же родное хозяйство было ему скучно. Часто бабушка, так и не дождавшись никакой вины, сама чинила треснувшее поросячье корыто, приколачивала доску, чтобы куры не лезли в огород.
На этот раз вина была так велика, что дед трудился дня три, получая через тетю Варю указания, что делать. Работал дед очень медленно, подолгу обдумывая то ли результаты своих трудов, то ли что предстоит еще сделать. Я так и запомнила его — застывшим в глубокой задумчивости у забора с пучком гвоздей в зубах. Потом он вынимал один гвоздик, старательно вколачивал его и снова надолго задумывался. Когда пришел его навестить глухой Петрович, дед обрадовался, долго жал ему руку и сел с ним посидеть на крыльце. Оттуда неслось тягучее:
— Что кирпич? Кирпич не проблема. Шиферу бы листов тридцать...
На другой день к вечеру дед уехал в город. Мы молча дошли до шоссе, дед на остановку не пошел, а поймал попутку. Машина уже мухой ползла вдалеке, а я все удивленно смотрела, как асфальт в густом жарком мареве колышется и опадает, словно легкая ткань. Босой ногой на него было не ступить, жгло, как на углях. На меня свалилась нежданная удача — я нашла большой кусок гудрона. Такой большой, что поделилась с Анькой и братцем. Юрка тоже выпросил кусочек, но не за так, конечно, а за маленькую гирьку, которую через несколько дней выкрал обратно. Весь вечер мы жевали упругий и ароматный от солнца гудрон.
Машина впереди подползла к шоссе, но не стала взбираться на насыпь, а мягко ткнулась носом в кусты. Опять остановка. Только что заезжали в деревню за молоком, а теперь мать с тетей Варей с двумя банками заспешила к ручью. Мать говорит, что эту воду и сравнить нельзя с обычной, колоночной, и чай из нее намного вкуснее и полезней. Мужчины стали в кружок и закурили с таким важным молчанием, точно обдумывали нелегкие дела, которые хочешь — не хочешь, а надо делать, как только погаснут папиросы.
Я люблю нашу дорогу. То открывается с нее глазу чистое поле с речкой и лесом вдали, то мрачно обступает ее дремучий сосенник. Кроме не редких еще старинных постоялых дворов с конюшнями и амбарами, появились на ней уголки для путников на современный лад, как этот на повороте, где мы всегда останавливаемся у родника. На ровной площадке среди сосен — стол со скамейками, где проезжающие могут в тени отдохнуть и пообедать. Моя мать всегда прибирает здесь яичную скорлупу и бумагу, ругая проезжающих свиньями. Чуть в сторонке на низком постаменте — маленькая пушка и памятник из белоснежного мрамора.
— Вот отсюда они и стреляли, — рассказывает братец, как гид, обступившим его детям. — Очень удобное место: только из-за поворота покажется машина или танк — они бах по ним...
Из-за поворота действительно беспечно выбежала машина, синий «Жигуленок». Дети с ужасом на нее смотрят, смотрит грозно и дуло пушки, а «Жигуленок», мягко урча, пронесся мимо, к Москве.
— Вот все они здесь и остались, — дети потащили братца к пушке. — Вы же умеете читать, читайте, что на памятнике написано. Здесь лежит весь выпуск Подольского артиллерийского училища.
— Они прямо здесь лежат? — тычет пальцем в подножие памятника мой сын.
— Они по всему полюшку лежат, — отвечает тетя Варя, широко проводя рукой вокруг. — Здесь никто не похоронен, не бойтесь. Просто на этом месте они все погибли.
— А сколько их было? А сколько им было лет? А они из этой самой пушки стреляли? — загалдели дети все разом, перебивая друг друга.
Устало свесив руки, прибрела к памятнику и тетя Надя, младшая сестра моей матери и тети Вари. Тетя Надя живет далеко и приезжает редко, поэтому, наверное, так тяжело переживает наезды в родные опустевшие места. Ей сейчас очень хочется поплакать, но она сдерживается и ждет, пока вернемся домой. Дома она тут же уйдет в спальню, задернет занавески и проплачет на кровати весь вечер. Сестры, жалея ее, носят ей в темноту то чашку крепкого чая, то таблетку цитрамона. Тетя Надя любит мечтать, как она выйдет на пенсию, все бросит и приедет сюда с мужем доживать, как она говорит, рядом с нами. Эта мечта ее так одолевает, что она порой ни о чем другом говорить не может, но потом уезжает и пропадает на несколько лет.
Мать вдруг прищурилась на надпись, что-то там углядев, и стала аккуратно обводить пальцами каждую золотую букву, как будто читая вслепую. В буквах после дождя остались высохшие на солнце крохотные комочки земли. Занятая этим делом, мать рассказывала тете Наде:
— Поросята нынче весной на базаре были по пятьдесят рублей сосунок. Это ж с ума сойти можно!
Но тете Наде не до поросят. Она, глядя на пушку, вдруг что-то свое вспоминает и грустно улыбается:
— А помнишь, у нас стоял на квартире немец-повар? — спрашивает она у матери.
Мать с изумлением на нее обернулась:
— Вот еще! Всякую гадость помнить! Как это тебе нa ум взошло?
— Ой! Точно! У нас стоял, — радостно вспомнила тетя Варя. — Маленький такой, худющий, а страшный! Ну обезьяна и обезьяна.
— Вы-то с Варей уже большие были девки, — словно оправдывалась перед матерью тетя Надя. — А с нами, с маленькими он очень любил возиться. Мы его и бояться скоро перестали. Мы, бывало, сидим на печке, а он войдет, посмотрит от двери — нет ли кого, своих боялся, — и швырь нам на печку горсть конфет. Особенно он нашу Шурку любил. Она была такая крохотная, пухлая, как кукла.
— Да к нему все дети бегали кто с черепком, кто с баночкой. Бывало, ждем, как только возле кухни никого нет, кроме него, мы подскочим, и он нам положит то каши, то картошки...
— А картошку-то, — перебила тетю Варю мать. — Помните? Картошку немцы в первые же дни всю отобрали, в подпол ссыпали, и офицер еще маме пригрозил: «Возьмете хоть картошину — расстрел!»
Тут мы пошли к машине, нас позвали, тетки все оживленнее вспоминали немца-повара, а мать сердито молчала. Наши мужчины тоже прислушались к разговору и заинтересовались.
— Хозяйственный был немец. Вечерами сидит шьет или что-то делает, и мама-покойница тут же сидит с соседками. Он по-русски кое-как лопотал, слова новые записывал в тетрадку. Все рассказывал им про свою ферму, хозяйство. А по детям по своим как скучал! Сидит и хвалится бабам весь вечер: «Россия — плохо, дорог нет. В Германии дороги хорошие». А мама не выдержала и говорит ему: «Ну если в твоей Германии так хорошо, так какого ж рожна ты сюда приперся?» Он удивился: «Какого рожна? Что такое — рожна?» А соседка говорит: «Дунь! Ты бы думала своей дурной головой, что говорить, ведь у тебя ж четверо детей». Немец понял, что маму ругают, и смеется, а мама соседку успокаивает: «Он ничего не поймет, а хоть и поймет — не скажет». С тех пор он встретит ее где-нибудь во дворе, погрозит ей пальцем и скажет: «Какого рожна?» — и смеется. А помнишь, как наша корова никак не могла растелиться? Сколько мамка с этим немцем возле нее побегали? — спрашивает тетя Варя мать и даже слегка подталкивает ее локтем, чтобы очнулась. Тетю Надю было бесполезно спрашивать, она, кроме конфет, ничего не помнит, ведь ей в ту пору было пять-шесть лет.
— Теленка-то сразу немцы съели, а корову потом, — весело рассказывает нам тетя Варя.
— Ладно, хватит, — устало перебил дядька. — Немца какого-то откопали. Вечер уже, ехать надо. — И он широко распахнул дверцу.
— Успеешь еще напиться, — заворчала, усаживаясь рядом, тетя Варя. — Заждались твои дружочки, уже, наверное, все глаза проглядели, чего ж то он не едет?
Мы с тетей Надей сидим рядышком, тесно прижавшись плечами.
— Ты его помнишь? — спрашиваю я шепотом. — Лицо, голос, какой он был?
— Помню-помню, — тихо убеждает тетя Надя. — Я так хорошо его вижу иной раз. Его ж закопали там, на поле, где мы стояли, в уголочке. Так я долго боялась там ходить. Идешь бывало вечером с автобуса, уже темнеет, а мимо этого места — бегом, все мне казалось, что он по этому полю ходит в темноте.
— И что ты помнишь, что ты там можешь помнить? — разворачивается к нам тетя Варя, но собирается слушать и устраивается поудобнее.
— Мама рассказывала, за месяц до того, как он умер, чистили они с ним во дворе картошку. Маму заставляли и еще одну там женщину на ихней кухне работать. Чистят они, значит, картошку, он поднимает голову и тихо так ей говорит: «Скоро русские придут». Мама только кивнула. Они знали уже, догадывались, что наши близко: немцы стали злые, как собаки, угрюмые, эшелоны шли один за одним — все раненые, у них на станции госпиталь был. Почистили они картошку, он письмо достает с карточкой, из дому только получил. Мама повертела это письмо, посмотрела карточку. Жена, говорила, у него такая же, как он сам, — маленькая, страшная, и трое деток. «Ну вот, скоро война кончится, поедешь к своей жёнке», — говорит ему мама, а он взял фотографию у нее из рук, посмотрел и вдруг как заплачет, как побежат у него слезы из глаз. Мама даже испугалась: «Что ты, что ты? Не надо». А он плачет и головой качает: «Нет, не увижу я их больше никогда!» Видишь, тогда он уже чувствовал, что скоро помрет. Бабушка твоя рассказывала: «Посмотрела я на него, и не знаю, отчего это, но вижу, что он правду говорит, что недолго ему жить на этом свете. И так мне страшно стало, и так вообще что-то на сердце нехорошо, что я зарюла еще пуще, чем он. Сидим вдвоем с этим немцем и слезами обливаемся, я об своем, он — о своем. Это рассказать кому, не поверят. Хорошо, что не видел никто. Бабы б меня застрамили».
— А! Это тот немец, которого в кипятке сварили, — мрачно сострил дядька.
Я руками всплеснула от ужаса.
— Да слушай ты его, дурака, — грустно и безнадежно кивнула на мужа тетя Варя. — Но умер он и вправду нехорошо, такая страшная у него была смерть! Я как раз это видела. А больше никого при этом и не было. Да! — заявила тетушка. — Я единственный свидетель.
Тут дядька хотел посмотреть на нее долгим насмешливым взглядом, но машина завихляла, и он снова вцепился в руль и уставился на дорогу.
— Кофе они варили в таком огромном котле. Потом берут его на палку и вдвоем несут под навес, а там разливают по термосам и флягам. А он был маленького росточка, ему нести неудобно, он оступился, и весь тот котел шух на него. Ой господи, как он кричал! Как заяц. Весь день мучился и только к вечеру умер. Приезжал какой-то немец-доктор, но в госпиталь его не взяли, там уже нечего было брать, он весь волдырями покрылся, не было на нем живого местечка... Сил не было слушать, как он кричит, вот мы и мыкались весь день: то у соседей, то в пустом хлеву сидели. Мама молчит-молчит и вдруг заплачет. Я ее спрашиваю: «Мам? Тебе что, жаль этого немца?» А она тихонечко говорит: «И немца тоже жалко...»
— А все ж таки согласись, Варь, что он нас два года подкармливал, и нас, и соседских детей. Ох! Наголодались мы при немцах! А мама как-то удивлялась самой себе. «Сколько лет, — говорит, — прошло, а я все не могу забыть этого немца, нейдет он из головы, и все. Никогда не встречала такого мужика, и родятся же такие на свет: ну как теленок, и сердце мягкое, бабье. Мы его всерьез не принимали, и для своих он был совсем безответный, только бывало гырчали на него немцы».
Тетки мои рассказывали это мне, словно оправдывались. Милые тетушки, да разве я вас осуждаю. Ведь были же полицаи, так почему же не быть немцу-повару? И ничего нет плохого в том, что вы этого немца помните. Значит, он того стоит.
— А что ты еще помнишь о войне, теть Надь? — спрашиваю я.
— Еще помню, — смеется тетя Надя, — что все время хотелось есть.
А я вдруг вспомнила, как у дороги в нашу деревню долго лежала ржавая солдатская каска, и никто на нее внимания не обращал, потому что их много валялось в поле и в лесу. Из такой же каски у нас пили куры во дворе.
Мальчишки часто находили патроны и гранаты и швыряли их издалека в горящий костер. Как-то и Юрка принес гранату. У меня даже сердце зашлось от волнения, так захотелось подержать ее в руках. Я отдала Юрке три рубля, все что у меня было, и не пожалела бы и больше за эту жуткую радость. Помню, внутри у меня все отмерло, остался только страх и моя рука, сжимавшая темное горло гранаты. Братцы стояли рядом и считали секунды, когда можно будет отобрать сокровище. Они уже думали, где разжечь костер и как лучше метнуть туда гранату. Меня они решили не брать, то ли потому, что взять с меня уже было нечего, то ли по другим соображениям. Но тут на крыльцо вышел дед и громко ахнул. Мы бежали за ним следом, пока он не бросил гранату в старый разрушенный колодец за фермами.
К круглым датам на нашей дороге ставили новый памятник — то танк, то пушку. Когда поставили наш памятник у ручья, в деревне был настоящий праздник с митингом, концертом и бесплатным кино. Сначала вся деревня пошла на поворот, и наехало много начальства из города. Потом вернулись домой, и там в клубе было собрание, поздравляли и награждали тех, кто воевал. Когда я увидела своего деда в медалях, я чуть не умерла от гордости и счастья, я была уверена, что такого человека, как мой дед, нет больше на всем свете. Но оказалось, что и глухой завхоз из школы, и наш плотник, и многие другие старики тоже воевали и имели награды. И все эти люди тут же стали для меня уважаемыми и очень значительными. И даже когда потом я видела плотника грязного, пьяного и такого некрасивого у магазина, он нисколько не падал в моих глазах. Он для меня был герой, как и те люди, которые погибли на войне, как и мой дед. Теперь, проходя мимо его дома, я заглядывала в ворота и громко с поклоном здоровалась с ним. Он радовался такому вниманию, хотя и не мог, наверное, понять, почему оно так неожиданно появилось.
9 мая 1960 года наша деревня быстро прожила, словно на одной ноте, такой для нас необычной — шумной, праздничной, высокой. Но прошло два-три дня, все утихло, и мы с бабушкой поехали по делам в город. До поворота бабушка несла меня на плечах, все-таки четыре километра, она боялась, что дитенок устанет. Так же она таскала когда-то на себе и братцев, пока те не подросли. Бабушка долго стояла у памятника и горестно шевелила губами:
— Совсем дети, — говорила она. — Мой Ваня им ровесник.
Ваня умер в два года от дифтерита. Бабушка, как всегда, умылась и попила из ручья, а я с тех пор, как поставили памятник, из ручья не пила. Я его боялась: он помнит их, думала я, они пили эту воду и умывались ею, они — мертвые, да еще и убитые. Это был период жуткой боязни покойников и одушевления всех вокруг предметов и явлений, которые, как мне казалось, обязательно должны быть злыми или добрыми, полезными или вредными. Я уже знала, что в хлеву живет дворовой, хозяин скота, он может ни за что ни про что невзлюбить корову или овечку, а может, наоборот, ухаживать и кормить их. Но когда бабушка сказала, что в каждом доме есть еще и домовой, что без него никакой жизни не будет, а является он обычно в облике кота, я испугалась не на шутку. Теперь я с опаской вглядывалась в каждого ободранного шелудивого кота на улице, а свою кошку, которую раньше мало замечала, стала чаще ласкать и задабривать вкусными кусками, чтобы она меня любила.
Всю дорогу до дому тетки взахлеб вспоминали свое детство и войну. Даже я не выдержала, рассказала о гранате. Тетушки поохали и посмеялись. Нам хотелось возвращать из прошлого только хорошее, светлое, окрашенное легкой грустинкой, но возвращалось не только это. Вспоминалась и сестренка Шура, похороненная в чужих краях, и многое страшное и тяжелое, но об этом тетушкам не хотелось говорить вслух. Иногда они ненадолго замолкали и избегали смотреть друг на дружку, потому что думали об одном и том же. Наша бабушка долго не могла выносить даже разговоров о войне, потому что воспоминания ее и так замучили. А когда боль поутихла, она могла рассказывать о тех годах, но что-то незначительное, не из главных своих бед. Да и тетушки никогда раньше не вспоминали так бурно свое детство. Эта поездка виною в том, что на них нашла редкая благодать и упоение воспоминаний.
Что такое память, ее необъяснимые капризы — об этом я давно безуспешно думаю, с тех пор, как на эти размышления меня натолкнул покойный Николай Павлович. Он даже не наталкивал, а выводил на какие-то мысли, как на новую дорогу, а дальше я брела сама, спотыкаясь.
Из всех чувств, живущих в нас, память — самое самостоятельное. Не считаясь с нашими желаниями, вкусами и убеждениями, она то награждает, то мстит, то вытаскивает на свет такой хлам, который сами бы мы ни за что хранить не стали. Ничего удивительного — это ведь существо женского рода, следовательно, вздорное, нелогичное, хоть и с доброй душой. День и ночь эта трудяга, никогда с нами не посоветовавшись, сортирует и раскладывает по сундукам наши впечатления, встречи, сны, целые дни и года: одни бережно укладывает на самое дно — пригодится через много лет, а другие — безжалостно вон, они уже никому не нужны. А мы-то думаем, что только что пережили что-то важное, незабываемое, но когда потом пытаемся насильно вызвать воспоминания об этом, не всплывает ничего, кроме туманного небытия. Зато с любовью вспоминается что-то, мимо чего раньше быстро и равнодушно прошли.
О памяти мы с Николаем Павловичем говорили в июне, за полгода до его смерти. Это был тихий месяц: начались отпуска и командировки. Директор приходил редко, а как только он отбывал, разбегался и народ. Я сидела в отделе одна, когда Николай Павлович вдруг позвонил и сказал:
— Знаете что? Приезжайте ко мне обедать. Я сварил такой борщ! Сейчас пирог пеку, с капустой.
На кухне он отдыхал от науки. Он мог, полностью отключившись от мирской жизни, просидеть много дней в своей книжной келье. Жена обижалась, что успевает забыть его голос. Я уже давно живу среди научных работников, но только немногие из них умеют так работать, как покойный Суворин, да и то это люди старой закалки, которые вымирают на глазах, как мамонты. Конечно, настоящие столпы, подвижники рождаются нечасто, но все равно больно и обидно видеть, как много у науки нахлебников, которые служат плохо и без души, а кормятся сытно да еще пристраивают возле нее детей, внуков, племянников.
Последние годы Суворин жаловался, что уже не может работать так, как в молодости. Когда усталость совсем одолевала, он из кабинета шел прямо на кухню. Он так сдержанно, тускло воспринимал похвалы, успехи, новые книги, статью о себе, еще живом, в энциклопедии, но каким стариковским самодовольством он сиял, когда гости в минуту съедали блюдо его удивительных пирожков.
В том своем последнем июне Николай Павлович очень спешил, боялся не успеть закончить книгу. Я словно вижу, как он прислушался к тишине в большой квартире, семья его жила на даче, и решил устроить обед.
За обедом поговорили мы, как всегда, и о делах, потом незаметно перешли к тесту — что делать, чтобы оно хорошо всходило. А за чаем разговоры уже ушли от быта. Николай Павлович вспоминал, как студентом слушал Маяковского в Политехническом. Посчастливилось ему встречать и других литературных знаменитостей — Есенина, Горького и Булгакова. И вдруг после небольшой паузы он меня и спрашивает:
— А скажите мне, Александра Сергеевна, что такое любовь?
Этого я никак не ожидала. Ну удивил старик!
— Не знаю, Николай Павлович, — с грустью призналась я.
— Как? — разочарованно и с обидой изумился он, как будто в решении этого вопроса возлагал на меня последние надежды. — Вы? Красивая, молодая женщина! Вышли замуж за хорошего парня, родили ему ребеночка и не знаете, что такое любовь.
— Я забыла, — неумело оправдывалась я. — Это было так давно. Любовь ведь самое обычное чувство, ряд ощущений. Оно пережито и забывается. А описать и определить его нельзя.
— Вы очень умная женщина, — говорит с улыбкой Николай Павлович, и на дне его похвалы я чую легкую иронию. — Описать и определить ее действительно нельзя, я бы тоже не смог, но как сладостно, как чудесно вспоминать...
Передо мной сидел маленький, худой, белый старичок. Белыми были его волосы и рубашка. Этот больной, измученный работой и врачами человек так тихо-лучезарно улыбался своему прошлому, что я даже жевать перестала, боясь спугнуть грубой прозой это его состояние.
— Вы помните свою первую любовь? — спросил он.
— Я так часто влюблялась в школьные годы, раз пять, наверное, — с виноватой улыбкой рассказывала я, — что определить теперь, где первая, где последняя — непросто.
Плечи у Николая Павловича начинают вздрагивать, он смеется и розовеет. Я люблю смешить его, прикинувшись простушкой и дурочкой. Ведь смех, думаю я, удлиняет жизнь, ему очень полезно смеяться.
— А я влюбился впервые, когда мне было пятнадцать лет, до этого не представлял, что это такое. Девочка была старше меня годом. Я любил и страдал больше трех лет, — с шутливой патетикой проскандировал Николай Павлович. — Что вы улыбаетесь? Не верите, что такое старье тоже когда-то было влюбленным? Ее отец служил чиновником на почте в нашем селе. В сравнении с нами это было семейство довольно зажиточное. Какая она всегда была нарядная, живая, веселая, а я, как общипанный гусенок. Но в моей любви была не только трагедия, были и взлеты. Как-то она удостоила меня, червя, взглядом, как-то спросила у меня что-то. А однажды она несколько мгновений стояла со мною рядом, и я, умирая от волнения, все же заметил и изумился, как хорошо она пахнет. И что же вы думаете? Месяц назад моя дочь купила какие-то новые духи. Я открыл флакон и... Я вспомнил ее и видел так же зримо и отчетливо, как сейчас вас.
— Она, наверное, пахла ландышем или сиренью, ваша пассия, — предположила я.
Николай Павлович безнадежно махнул на меня рукой:
— Вам этого не понять, Шурочка. Вы принадлежите к поколению беспамятных. Когда я всматриваюсь в своих детей, внуков, учеников, мне становится страшно, потому что невозможно человеку жить и идти вперед, не имея ничего за плечами. Такого органа чувств, как намять, у многих из вас совсем нет. А для меня, кажется, не было в жизни большей радости, чем предаваться воспоминаниям. Особенно крепко я приучил себя к этому знаете когда? — с тридцать седьмого по сорок первый. В эти годы я не прочел ни одной книги, по той причине, что мне их не давали. Я спасался тем, что вспоминал и думал, думал и вспоминал.
Мы долго молчали. Он откинулся на спинку стула и в задумчивости слегка покачивал головой, а я все никак не могла справиться со своей обидой.
— Значит, вы считаете, Николай Палыч, что мы безнадежно беспамятные, — сердито спросила я. — А может быть, память — это то, что просыпается с годами. Всему свой черед. Может быть, мы не вспоминаем пока, потому что время не настало, нечего вспоминать.
— А свое детство вы не вспоминаете? Вы ведь жили в деревне. Расскажите мне что-нибудь о ваших родственниках, матери, отце, братьях, сестрах.
— В деревне я жила до восьми лет, потом, правда, часто ездила к родственникам. Что может помнить человек о себе в пять-шесть лет? Потом я жила в уездном городе. Вы представляете, что такое уездный город в семь тысяч жителей? Несколько двухэтажных каменных строений в центре — райисполком, райпотребсоюз, баня, а вокруг — море деревянных домишек в садах. Осенью обыватели не знают, куда деваться от яблок, возят их возами и тачками на окраину на местную овощебазу. Хотя она у нас называлась яйцебазой, там принимали от населения куриные яйца, мясо, овощ и фрукт по копейке за кило. Так и вижу до сих пор этот августовский нескончаемый ноток тачек и возов. Наш сосед, уже глубокий старик, запрягался с утра, как конь. Обратно прибежит налегке рысцой и тут же загружает новую партию. Сад у него был соток тридцать, с тремя волкодавами, а забор весь опутан колючей проволокой, как в концлагере. Правда! Незадолго до смерти, а прожил он лет девяносто, просто какой-то кащей стал, обтянутый желтой кожей, подзывает он меня к забору и тянет между досками свою кащеевскую руку с тремя яблоками-падалицами. Я угостилась и поблагодарила, хотя своих некуда было девать. Это он мне луковицу подал за спасение души. Кому копил, непонятно, был один как перст.
Николай Павлович досмеялся до слез. Что смешного в моем рассказе, не понимаю, но его так легко рассмешить.
— Вы невозможны, Шура, какая вы недобрая, — грозит он мне пальцем, но по-прежнему смеется. — Расскажите что-нибудь хорошее, светлое. О своих родных, например.
— Родственников у меня такая тьма, Николай Павлович, что если затеять перепись, я просидела бы не меньше месяца. До сих пор не могу избавиться от ощущения, что все люди — родня, если покопаться, седьмая, десятая вода на киселе. Потому что в детстве меня окружали одни только родичи: приходит какой-то чужой дядька, ест-пьет у нас, ночует, а потом бабушка объясняет, что это родной племянник сестры ее невестки или кум ее сватьи, то есть свой.
Среди моей родни немало экземпляров просто-таки удивительных. Например, Петя Бытик, погибший через женщин. Это был мужик видный, как у нас говорили, но очень уж беспокойный, мятущийся. Как только запустили первого космонавта, он тут же отправил письмо в Москву такого содержания: «Хочу послужить Отечеству! Располагайте моей жизнью и здоровьем для полетов в космическое пространство. Согласен на любые условия. Петр Бытиков». Целый год Петя Бытик ждал ответа и всем рассказывал, что скоро улетает. Его зазывали, наливали рюмочку и подробно расспрашивали, посмеиваясь. И потом долго еще вспоминали: «Ну что, Петя Бытик так и не улетел?», пока эта космическая история не улеглась. Я слышала, как наши уличные старушки обсуждали вечерком эту проблему:
«Эта такая работа, — говорила одна из них, — что никаких денег не захочешь. Мне вот дай миллион, я и то не полетела бы».
«Ну чего ж. Такой отпетый, забубенный, как Петька, которому терять нечего, головушку свою и подставит. А те и рады, им для экспериментов люди нужны. Они вместо собак Петьку Бытика затолкают и лети!»
Наделал Петя Бытик много шуму в нашем городке. Говорят, что пришел все-таки ответ из Москвы, благодарили и вежливо отказывались от его услуг.
Совсем недавно померла, прожив сто два года, совсем близкая наша родственница, родная тетка моей бабушки. Вы слышали когда-нибудь такое имя — Репеха?
— Наверное, Агриппина, — подумав, решил Николай Павлович.
— У тетки Репехи было двенадцать детей, и пенсю она заработала колхозную — 12 рублей пятьдесят копеек. Она пережила всех своих детей, и, конечно, на эти деньги трудно ей было бы прожить, по полгородишка были ее родичами. Вставала она рано-рано в своей комнатушке в бараке, жилплощадь, полученная еще покойным сыном-инвалидом, и с утра отправлялась по визитам. Заходила к племянницам, внучкам, невесткам, свояченицам. И всюду, где заставала дома, ее кормили, давали гривенник или рубль с получки или старую одежду. Так она и жила до ста двух лет. Пока была в силах, честно отрабатывала свой хлеб — сидела с детьми, помогала выкопать картошку, ходила по магазинам. А потом ее уже кормили просто так, и никому она не была в тягость, наоборот, в нашей однообразной тягучей жизни ее появление было хоть каким-то событием. Бабушка, поглядывая в окно, говорила: «Тетка Репеха идет». Это звучало как — ну наконец-то! Я тоже глядела в окно ей навстречу. Эта уже неземная бестелесная старушка не ходила, а ее носило ветерком по нашим пыльным дорогам.
Много лет спустя, приезжая ненадолго домой, я первым делом спрашивала мать: «Как бабка Репеха?» — «Жива-жива, — радостно кивала мать. — Бегает еще». А когда она умерла, я спросила у матери:
«Мам? Как же она прожила так долго? Ведь ты говорила, что они были самые бедные и постоянно голодали».
«Жили в такой бедности, что страшно вспомнить. Детей — двенадцать человек, мужик! — такого лентяя мир не видал. Еще когда единолично жили, она ходила по людям, батрачила. И вот все сядут обедать в поле, хозяйка и ей даст кусок хлеба и сала, она хлебушек съест, а сало детям бережет. И знаешь, почему она так долго прожила? Я так думаю. Видишь вот этот гриб? — И она показала на разлапистый живой блин в трехлитровой банке, любимое питье нашего семейства. — Говорят, он очень полезный, для всего, и от всех болезней лечит. А она этот гриб всю жизнь и пила. Есть-то было нечего особенно. Вот нальет себе стакан да хлеба кусок — вот и обед и ужин».
Тут я ожидала улыбки, но даже легкой полуулыбки не последовало. Николай Павлович смотрел на меня с какой-то сосредоточенной серьезностью. Ругнув себя за то, что я не только не развлекла больного старика, но и нагнала на него черные мысли, я резко повернула назад:
— На людей почему-то память померкла, но зато так ясно помню всех собак, кошек, живших у нас, нашу корову... А хотите, Николай Павлович, расскажу про нашу корову?
— Про корову? Хочу. Только погодите, чайник поставлю. Хотите горяченького?
Летом у тети Нади родился маленький ребеночек.
— Вот еще один братик у тебя будет, — сказала бабушка. — Ах, хоть бы одним глазком глянуть. Но куда тут поедешь — корова, хозяйство...
Прошло несколько дней, и бабушка не выдержала. Было решено, что уж недельку тетя Варя как-нибудь управится со скотиной, а ее огород в городе будут поливать моя мать и дядька.
— Целы будут и твое хозяйство и огород, — отправляла бабушку тетя Варя. — Езжай спокойно и не думай...
Весь день я не замечала бабушкиного отсутствия, и только вечером, когда смеркалось и в воздухе полетели серые мушки, я вышла на крыльцо, оглянулась и поняла, что бабушки нет. Приехала на выходной мать, и они с тетей Варей громко разговаривали и смеялись за столом, громче, чем обычно, как хозяйки. Мне это не понравилось. И дед, как вельможный пан, сидел за столом, а мать и тетка бегали и подавали ему то одно, то другое. Все они были довольные, уютно горела на столе лампа, а мне не хотелось идти в дом, потому что без бабушки там стало пусто. С этого вечера я нетерпеливо, день за днем ждала ее. И младший братец совсем перестал бывать дома. Прибегая, он на ходу съедал несколько ложек песку из сахарницы, заедая его хлебом и запивая молоком из горлача.
Тут же наметила бабушкино отсутствие и наша корова. Вечером, вернувшись из стада, она долго стояла у калитки и удивленно заглядывала через изгородь. Потом подняла свою огромную красивую голову с вилами на макушке и возмущенно затрубила. Она была большая, белая, как печка, и голос у нее был не коровий, а словно паровозный мощный гудок.
Бабушка обычно уже выглядывала ее в окно или ждала у калитки, а когда ей случалось проглядеть корову и та подавала голос, бабушка бросала все дела и бежала к ней с куском хлеба: «Питёща, дочушка, я в погребе была, не дождалась тебя». Пока бабушка открывала для нее шаткие воротца, корова медленно жевала хлеб с солью. В калитку она бы и не протиснулась своими раздутыми, наеденными боками. Сметая все на своем пути, корова устремлялась через двор в свою теплую уютную пуньку. С квохтаньем, теряя перья, бросались из-под ее копыт куры, бабушка бежала вслед, подбирая упавшее ведро или лопату.
— Танк, а не корова, — смеялся с крыльца дед.
Потом бабушка готовилась к дойке, как хирург к операции: мыла руки с мылом, смазывала их вазелином, и вымя корове мыла и смазывала. Если мы заглядывали в хлев во время дойки, бабушка махала руками: «Уходите-уходите, она не любит, когда смотрят». Стоя за дверью, я слушала, как звонко бьют в дно подойника тонкие струйки, а потом затихают и только тоненько чиркают. Бабушка тяжело несла полный подойник, где с верхом пенилось теплое молоко.
— Как мне в жизни повезло с коровой! — иной раз не удержавшись, хвалилась бабушка.
Бабушка верила, что это ее бог наградил за прежних коров, за военную, которую съели немцы, и за послевоенную, неудачную.
Когда дед вернулся домой, бабушка купила маленькую черную коровку. «Ладненькая такая была коровка, — вздыхала бабушка. — И доилась хорошо, но не пришлась ко двору — дворовой ее невзлюбил: как ни приду утром в хлев, она вся мокрая, дрожит, как будто всю ночь на ней пахали. Пропадет, думаю, корова, что делать?» Привезли «лечейку» — бабку из другой деревни. Она покурила чем-то в пуньке, подымила, но сказала, что это поможет вряд ли, — надо было сразу, перед тем, как ввести скотину в хлев, попросить дворового: «Дворовой-дворовой! Вот тебе корова. Береги ее, ухаживай за ней». Соседки все дружно ругали бабушку: «Кто же покупает черную корову, овцу, курицу?! Она, может, конешно, прийтись ко двору, но скорей всего, что не придется».
Корову продали. На другом дворе она хорошо прижилась. Бабушка пролила немало слез, без коровы жизнь ей была не мила.
И тут ей кто-то присоветовал телочку в соседней деревне. Так понравилась бабушке эта телочка: крупная, беленькая, с одного боку рыжее пятно, с другого — темное. К ночи бабушка тихонько прибрела с ней домой, за день они прошли ни много ни мало — десять километров. Еще целый год ждали молока, но зато уж дождались, ни у кого в деревне не было такой коровы. Она давала столько молока, что хватало нам всем на масло, творог и сметану, и еще бабушка отвозила остаточки утренним поездом в город. Там ей даже до базара не давали дойти, хозяйки уже ждали поезд и тут же расхватывали молоко, потому что оно было и сладкое, и густое, и пахло не хлевом и коровой, как у других молочниц, а полем и травами. Сначала бабушка ездила редко, только в базарные дни, а когда начали строить дом в городе, все чаще и чаще. Просыпаясь утром без бабушки, я даже радовалась, что ее нет. Это значило, надо быстрее одеться и бежать встречать ее на дорогу.
— Быстрей, быстрей! — торопила тетя Варя. — А то прозеваешь.
Если братцы поспеют вперед меня, то еще, глядишь, съедят прямо на дороге городские гостинцы. Вот уже из-за леса выплыла черная точка, и я не дыша вглядываюсь в нее. Да, это она, в черной широкой юбке, сапогах и жакетке. Я не знаю, что несет меня по дороге, мои ноги или бурная радость, которая все кипит и не стихает, хотя я уже добежала до бабушки и повисла у нее на рукаве. Плечо у нее клонится под тяжестью двух огромных, связанных веревкой сумок. Там баранки, пряники и конфеты, а заодно уж, если не было других товаров, буханок десять городского хлеба для поросят. «Его только свиньям и есть, — говорила бабушка. — А людям он не годится».
Когда в темном чулане на столе скапливалось много банок с молоком, бабушка доставала сепаратор, и мы долго собирали его и устанавливали на лавке. Медленно, тяжело раскручивалась ручка, и сепаратор начинал тихо жужжать, как мохнатый шмель. Шмелей я боялась, а жужжание сепаратора слушала, как музыку. Вот уже хлынула в ведро струя голубого отгона, а из другого желобка побежала тонкая струйка сливок. Завтра из этих сливок бабушка собьет масло в деревянной ступке. В точно такой же на картинках летает Баба Яга, помогая себе помелом. Уже издалека, играя с девчонками на улице, я слышала равномерный деревянный стук и бежала на его зов домой. Это бабушка сбивала масло и мне давала постучать. Сначала деревянный пестик легко ходит в ступе, но вот начинает увязать, вязко и упруго пружинить. Но тут руки у меня уставали, и я убегала на улицу. Утром бабушка доставала из погреба узелок, а в нем круглый, желтый, как солнце, шарик масла, усеянный капельками росы.
— Это наша коровка тебе принесла подарочек, — говорила бабушка. — Отнеси ей за это хлебушка с солью.
Корова брезгливо брала с моей ладони хлеб и, отвернувшись, долго и шумно жевала, глядя не на нас, а куда-то в угол двора. Она не любила детей и только из уважения к бабушке принимала гостинцы, а про себя, наверное, думала: «Хотела бы я посмотреть, как бы выжили без меня и моего молока. Ведь я вас всех, дармоедов, кормлю, это же ясно, как божий день».
На второй день после отъезда бабушки корова домой не пришла. Мать с тетей Варей так заговорились за столом, что и не заметили сначала. А когда заметили, мать рассердилась: теперь бегай по кустам впотьмах, ищи эту гулену! А дед сказал: «Ну артистка, а не корова!» Мать побежала в один конец деревни, тетя Варя на другой. Я подумала и побежала за тетей Варей, она была привычней и потом никогда не сердилась и не кричала, как мать. Корова вовсе не ходила по кустам. Она стояла на самом краю деревни, за последним домом, глядела в поле и была похожа на бездомную корову, которой совершенно некуда идти. Когда мы подошли, она даже не повернулась к нам и не слушала ласковых теть Вариных слов. Словно время наконец пришло, она спохватилась, обошла нас аккуратным полукругом, обдав шумным дыханием и запахом парного молока, и быстро пошла домой. Мы с тетей Варей еле поспевали за ней, удивляясь, как такая громадина может так быстро бегать. Корова из вредности не пошла в открытые воротца, а протиснулась в калитку, прошуршав о столбы боками, и понеслась в хлев. Наверное, она решила про себя, что эта спешка поможет ей быстрее пережить лихие в ее жизни дни. Когда дед вышел на крыльцо, она дернула шеей и отворотилась от него рогатой головой. «А на тебя вообще бы глаза мои не глядели, — означал этот жест. — Никакого порядка нет в этом доме, никакого!» Изящно, как балерина, переступила она через порог пуньки, следом пронеслась вся ее коровья громада, а на прощанье, словно выругав нас, стукнуло о порожек заднее копыто. Тетя Варя, с облегчением перекрестившись, закрыла дверь и побежала за подойником.
Бабушка так смеялась, когда тетя Варя жаловалась ей на корову: и доилась плохо, и все время била ее по голове своим хвостом-метелкой.
— Ну чего вы смеетесь? — обижалась, не находя сочувствия, тетя Варя. — Это только так кажется — хвост, а она как шарахнет им по затылку, у меня аж искры из глаз. До сих пор голова гудёт. Хотела уже привязывать веревочкой.
— Большой характер у нашей коровы, — говорила с гордостью бабушка, — знает себе цену.
Как-то перед самым отъездом в город я бродила по сеням и сараям в поисках бабушки и вдруг услышала из-за двери хлева глухие рыдания и стоны. Заглянув туда, я несколько минут наблюдала сцену, до жути меня напугавшую. Бабушка, обхватив корову за шею, горько плакала.
— Подруженька моя верная-неизменная, стары мы стали, никому не нужные. Кончились наши годочки, прошли невозвратно. Кто теперь тебя подоит, обиходит, кто тебя пожалеет? Кто мне душеньку успокоит? Расставаньице наше долгое-навечное! Бедная моя сиротинка, горемычная!
«Бедная сиротинка» стояла растерянная, обнюхивая время от времени утешительно бабушкин локоть — ничего, все обойдется. Но ничего не обошлось. Мы уехали, а корову продали, в хорошие руки, как говорила бабушка, а мать неизвестно зачем, может, чтобы бабушку утешить, а на самом деле только душу травила, добавляла:
— Эту корову давно пора было сдать: тринадцатым или четырнадцатым теленком была, а мам?
Но бабушка сердито молчала. Как она страдала, расставаясь с коровой, я тогда еще не могла понять. Она даже к поросенку привязывалась. Помню, уже в городе сидим мы все за богатым столом, только что зарезали поросенка, на столе — жареные ребрышки, печенка, кровь. Но бабушка не за столом, а в сторонке сидит и не ест. Все над ней смеются, я спрашиваю: «Баб, почему ты не ешь?» А бабушка говорит: «Не могу, я ж его кормила».
— Как я вам завидую, — вдруг вырвалось у Николая Павловича, как вздох. — У вас была корова, всякая живность. У нас ничего, кроме кур, не было, хотя жили в большом селе на Волге. Отец рано умер, я его едва помню. Мать с утра уходила на работу, батрачила. А я оставался с маленькими сестренками за няньку. Какое скудное, убогое у меня было детство, больно вспоминать. Вы счастливая...
— Да, это правда. А ведь когда наезжали на лето городские дети, мы на них смотрели как на счастливчиков — они ведь жили в городе. Ах, город! Для меня не было большего счастья, как собираться и ехать туда. И городские с нами держались свысока, кичились, дразнили нас деревенскими и деревенщиной.
В тот раз мы засиделись до сумерек, все вспоминали прошлое, и оно виделось нам совсем не обыденным, манящим и чудесным.
Таким мне и запомнился больше Николай Павлович Суворин — домашним, житейским. Но я любила его и другим: когда разгорались злые, раздраженные споры и научные склоки, и его глаза колюче поблескивали, но он не спорил, а говорил немногословно, дельно и веско и старался потушить насмешкой наши страсти.
Когда обсуждались диссертации и монографии, наш старик откровенно дремал, и глаза совершенно потухали, только карандашик то и дело чертил что-то в тетрадке. Потом он как-то сразу просыпался и начинал высказываться, и замечаний иной раз было по двадцать на страницу. «Это невероятно! — изумлялся потом докладчик. — До чего въедливый старикан. Ведь он же спал, я сам видел!»
— Воспитайте в себе эту привычку, — учил нас Николай Палыч. — Она вам очень пригодится в жизни. Вам много придется сидеть на конференциях, кафедрах, обсуждениях, совещаниях. Вот сегодня мы сидели три часа. Да?
— Даже больше, Николай Палыч.
— Вы вертелись и болтали, Александра Сергеевна. Вы томились, Андрюша. Вы страдали, Катерина Ивановна. И вы тоже, голубчики, вы все вели себя безобразно. А я с большой пользой прожил эти часы: не упустив ни словечка, обдумал кое-что свое, подремал немного по-стариковски и стал прикидывать, что нужно сделать с этой работой, чтобы привести ее в божеский вид.
— Вы думаете, можно привести, Николай Павлович? Мне кажется, она безнадежна.
— Как вы категоричны, Андрей, как вы смело рубите сплеча, даже по чужой голове рубите! Она не безнадежна, в ней много дельного. И мысли хорошие есть, но высказаны такими суконными, варварскими фразами, что в ушах от них трещит. А вы разве станете утруждать себя такой работой — брести по разбитой дороге, вам подавай накатанные, гладкие. Человек работал над этой темой двадцать лет, собрал огромный материал, поседел уже, детей вырастил, но не научился выражать себя ясно и привлекательно. Да и когда ему было научиться, если у него нагрузка — полторы тысячи часов: он читает все курсы от литературы до политэкономии. А скольких я знал людей, которые блестяще владели искусством выражать даже то, чего нет, и они преуспевали в жизни. Разве не так, что вы смеетесь? Он откуда?
— Откуда-то очень издалека, — сказал кто-то не без ехидства.
— Вот видите, приехал к нам человек издалека. Неужели же мы ему не поможем? Зачем мы тогда здесь сидим? — И Николай Павлович решительно сунул рукопись в портфель.
— А как вы собираетесь ему помочь, Николай Павлович? — с недоумением спросил Андрюша.
Он очень обрадовался этому вопросу, подмигнул нам заговорщически и ответил шепотом:
— А тут, голубчик мой, можно помочь только одним способом — сесть и переписать заново.
Мы ахнули и онемели от изумления. А он как ни в чем не бывало принялся объяснять нам, все больше воодушевляясь, что́ в этой диссертации принципиально нового, интересного, чего в помине раньше не было в наших научных трудах. Все правда! Мы даже не взяли на себя труда после первых неуклюжих страниц в это вникнуть.
А диссертант, которого он все-таки вытащил, сейчас пишет хорошие статьи.
Мы и тогда, конечно, понимали, что нам в жизни очень повезло. В нем было то, что не побоюсь назвать возвышенным образом мыслей и совершенным отсутствием принципов, которыми руководствуются в жизни обычные, средние люди — соображение собственных выгод или вреда. Ну что ж, сподвижники всегда были и есть, и что они живут среди нас, я считала обычным и справедливым. По легкомыслию молодости, мы ожидали еще немало встретить их на пути. Но проходили годы, а новых людей появлялось все меньше, и хоть отдаленно похожих на него — совсем ни одного. И тогда замаячила ужасная догадка, что и не будет и нечего больше ждать таких щедрых подарков. А уж мне-то грех жаловаться: вокруг столько незаурядных людей, то с талантом доброты, то с талантом ума, а то и все вместе, но учитель, поводырь, вожатый, должно быть, бывает один-единственный в жизни.
Больно сейчас вспоминать, что мы его не всегда понимали, нашего старика, укоряли за отсутствие честолюбия, бойцовских качеств. Он решительно не хотел ни с кем бороться, а мы так рвались в бой за свои идеалы. Мы так гордились его славой, а ему самому она была как-то ни к чему. Когда приехал к нам на стажировку профессор из Штатов, мы сразу бросились его расспрашивать, какие наши работы они знают, какие книги перевели. Он назвал несколько имен недавно умерших наших профессоров и Суворина, больше никого. Очень хвалил последнюю статью Николая Павловича, которая вышла у нас всего два месяца назад. Мы так торжествовали, как будто нас наградили орденами за заслуги перед Отечеством, а он был до обидного равнодушен, только похвалил американцев за оперативность: у них книги не лежат по десять лет в издательстве, а статьи переводятся за несколько недель.
— Николай Павлович! — бросилась я к нему как-то утром с потрясающей вестью. — Звонили из Минска, просили небольшую статью о вас для энциклопедии «Литература и искусство Белоруссии». И список работ...
— Ой, Шура, погодите. Напугали. Я думал, что-нибудь случилось.
— А что же, по-вашему, ничего не случилось?
Он только небрежно рукой махнул:
— Энциклопедия, энциклопедия, — пропел он. — Когда она выйдет, я уже умру. А вот посмотрите-ка лучше, что я принес. Ах, как мне повезло, как я удачлив — вчера раскопал у букиниста.
И он вынул из кармана книжечку, маленькую, синюю, протянул мне, и рука у него дрожала. 1929 год, прочитала я на обложке. Какой-то французский роман, перевод Н. Суворина.
— Я в своей жизни так много путешествовал, — говорил он мне с иронией, — что все растерял, и библиотеку тоже. Ах, Шура, чего я только не писал в студенчестве, чтобы заработать на хлеб насущный. Даже либретто для оперы. Да! Я вам как-нибудь расскажу. А эта книжка! Я думал, больше ее не увижу никогда.
Он принял ее от меня обеими руками и прижал к груди. Он и на лекцию пошел с нею. У двери вдруг обернулся и сказал:
— Перевод ужасный! — и засмеялся счастливым смехом.
И я засмеялась вместе с ним. После лекции он обязательно скажет аспирантам:
— Вы лодыри, безнадежные лодыри. В ваши годы я чего только не писал — рецензии, рекламу, статьи, либретто, переводил и технические журналы, и бульварные романы. Нужда научила меня писать. А вы? Вы пера в руке держать не умеете, а собираетесь осчастливить нас диссертациями. Вы подумали о тех, кто будет их читать?
Временами он бывал обычным, посмеивался над нами или бранил немножко, но временами словно переселялся в другое измерение. Где-то далеко витали его мысли и воспоминания, далеко от наших дней. Он был бледен и слаб, но как светел душой и бодр. И не только в прошлом пребывал, как мне казалось, но и в настоящем. Но в настоящем его занимали и радовали все какие-то пустяки. Помню, как удивил меня услышанный случайно разговор за месяц до его смерти.
Я ждала его и распахнула дверь. Вот он уже поднимается по лестнице. Выбежать бы навстречу, взять под руку, но он этого не любит. Поднимался он долго, на площадке отдышался и замурлыкал какую-то мелодию. Веселый. Это хорошо! Тут простучали мелко, дробненько каблучки Веры Максимовны. Она чуть помоложе Николая Павловича и работает у нас с довоенных времен архивариусом, библиотекарем, секретаршей — все вместе, в общем, сотрудник широкого профиля. Шефа она называет Навуходоносором и Иудой, а он ее — «дубовой рощей». Это была какая-то старая, безнадежная нелюбовь. Она говорила, кивая головой вниз, на первый этаж: «Кое-кто хочет отправить нас с Николаем Павловичем на пенсию, но напрасно, нас отсюда вынесут только вперед ногами». Так оно и вышло. С Николаем Павловичем у них была не только общая молодость, но и самая трогательная близость: на людях они говорили друг другу «вы» с отчеством, наедине «ты» без отчества.
— Вера! — услышала я его радостный голос. — Если б ты знала, что со мной сейчас было. Я едва остался жив.
— Где тебя черти носили?
— Я всего лишь зашел в булочную. Не было ни души. Вдруг выносят большой ящик, и тут же набежала толпа, и меня подхватило, понесло, прибило к этому ящику. Все брали, и я тоже взял...
— Цейлонский чай. Ого! А чего ж ты взял одну пачку?
— А больше не было. Это какой-то особенный чай?
— Ну ты что, с неба свалился, дремучий ты человек? Ты что, не знаешь, какой это дефицит? Просто так его в магазине не продают.
— Я этого не знал и мне всегда было безразлично, какой чай я пью. И это нехорошо. Я все упустил, всю жизнь просидел в кабинете, я ничего теперь не понимаю...
— И не надо. Тебя ж могли задавить в этой толкучке, а ты почтенный человек, Коля, член-корр!
Тут он стал шутить над ее слабостью к член-коррам. Действительно, из всех ученых титулов она преклонялась только перед этим. «Когда умер мой муж, — рассказывала нам Максимовна, — я дала клятву, что буду ему верна, и отклоняла все ухаживания и предложения. Но если бы на моем пути явился член-корр, даже какой-нибудь плохонький, боюсь, я бы не одолела соблазна».
— Почему ты ходишь пешком? — ругала она Николая Павловича. — Если некому было подвезти, взял бы такси.
— Мне очень захотелось пройтись, ведь тут совсем близко. Как хорошо, Вера, весна! Целыми бы днями гулял, да ноги плохо носят. Мне бы еще год, Верочка, полтора. Да, года хватит. Я больше не напишу ни строчки, клянусь тебе. Я буду только ходить по улицам, смотреть и слушать. Мы пойдем с тобой в парк гулять. Мы ведь уже лет сорок не гуляли с тобой в парке. Как хорошо жить, Вера! Я никогда не думал, что в старости будет так интересно жить!
Когда гроб проплыл мимо меня к выходу, я в последний раз заглянула ему в лицо. Это был совсем не он, никакого сходства. У меня было несколько покойников в жизни, и все они мало напоминали когда-то родных, любимых и близких. У всех у них было чужое, спокойное выражение: нам ни до чего в мире больше нет дела, и до тебя тоже.
Мы вышли за гробом к подъезду. Здесь, под кронами громадных тополей, среди бела дня прижился вечер и носилась белая пурга из тополиного пуха. Его было так много, что он лежал тонким сугробом под ногами, тут же залепил мне щеки и лез в глаза. Машины уехали, а мы поднялись наверх, надо было помочь по дому. Андрей вымел целый холмик зеленых иголок и лепестков, а мы с Катей вымыли полы. Потом мы накрывали столы с какими-то женщинами, родственницами. Народу на поминках было так много, что накрыли и тот стол, на котором он еще недавно лежал.
Мы обычно выезжали в июле, ждали — не могли дождаться этих дней, а теперь, после смерти Николая Павловича, особенно. Надо было как-то обмануть, заглушить наше отчаяние и растерянность. Помимо душевных горестей, были проблемы чисто практические и житейские — тяжелое положение его аспирантов. Им дадут новых руководителей, и неизвестно, какими они будут, эти руководители. Может быть, придется перестроить, изменить до неузнаваемости всю работу.
Я никогда не видела, чтобы смерть одного человека производила такие разрушения в судьбах десятков ему близких людей и даже в облике нашей мансарды. Комнаты не стояли, а стыли в таком безмолвии, пустоте, как будто не один обитатель, а весь наш отдел вымер. А тут еще Вера Максимовна. Она заходила время от времени и, став у его пустого кресла, гордо изрекала:
— Теперь мой черед!
Всем становилось жутко, а кто-нибудь из женщин, а то и вдвоем, начинали тихо рыдать.
А в дороге сразу стало легче, намного легче. Особенно, если долго смотреть в окно, все тяжкие и грустные мысли на время отпускают. Мы выгрузились на станции и разъехались по деревням, чтобы встретиться здесь же через две недели. Я попала в пару к Андрюше Парамонову. Парамоша уже написал свою диссертацию по домам и постройкам русского Севера и собирался ее защищать. Работу эту все хвалили, и читалась она легко и захватывающе, как роман. Он был из тех молодых, подающих большие надежды, от которых уже не ждут халтуры, и не может ее быть. Но при всех талантах брать его в пару никто не хотел, уж очень он был «безбытный»: как птица небесная, он ел и пил, когда его кормили, по своей воле никогда не тратя времени и сил на такие мелочи. Работать с ним — значило брать на себя все заботы о пропитании и жилье, но меня это не пугало. С Андрюшей было так интересно, а всякий значительный человек требует и жертв, и забот, к нему нужно приспосабливаться и уступать.
Еще не устроившись как следует, мы с Андрюшей побрели по деревне, обшаривая глазами каждый дом. Как и во всех наших населенных пунктах, от самых громадных до малых, господствовала архитектурная смесь. В деревне были три улицы, разбегавшиеся в разные стороны от конторы сельсовета. Тут и там виднелись новостройки. Это маленькие окрестные деревушки стекались сюда на жительство. Вначале по обе стороны тянулись только новые усадьбы. Домики простенькие, с тремя-четырьмя окнами, глядящими на улицу из глубокого палисадника. К домику лепились сарайчики, гараж и банька, и все это было щедро и ярко разукрашено, как современная модница. Представьте себе ярко-желтый домик с синими наличниками, забор — синий в красную шашечку, зеленый гараж. Краска всюду была свежая, домики так и сияли, и вообще царил дух соперничества в убранстве своих усадеб, это чувствовалось сразу же. Видно было также, что хозяева очень довольны и собой, и своими жилищами. Я, вертя головой, воспринимала все это благосклонно и даже с удовольствием, все-таки лучше, чем деревенское безлюдье и запустение, которого навидались досыта. Зато Андрюша у меня за спиной страдал безмерно. Для него лучше милое сердцу, родное запустение, чем потеря национальной самобытности, безвкусица и пошлость. Ах, Андрюша, разве я против самобытности! Но у нынешних хозяев нет ни материалов, ни денег, ни сил, чтобы строить себе хоромы, как у их дедов. Вот такой, например, двухэтажный дом на четыре половины. Или такой, поменьше, с вышкой и поветью. Только их внуки и правнуки построят себе такие дома, по твоим чертежам и описаниям, Андрюша, построят. Но упрямый Андрюша не верит во внуков и считает, что строить они будут новомодные коттеджи из стекла и бетона. Да и откуда в них проснется любовь к старине и дедовскому уюту, если для них уже ничего, ничего не останется. Вот только это уродство. А дома похожи на своих хозяев, вернее, люди похожи на родные углы, в которых произрастают. Едва ли потом картинки и чертежи разбудят в них изжитые чувства.
Ну, поехал! Если его вовремя не остановить, финальный аккорд будет, как обычно, таков — гибель всего человечества и мировой культуры.
— Андрюша! — взмолилась я. — Скажи, почему вы, современные молодые мужики, делитесь только на два типа: больно шустрые и такие, как ты, зануды и мизантропы, все ноете-ноете и всегда предполагаете только самое худшее?
— Я всегда был убежден, — парирует Андрюша, — что женщины, даже так называемые образованные, это авангард мещанства, косности, равнодушия к большим проблемам и высоким идеалам. Это предопределено самой их природой. Я даже с Сувориным часто спорил об этом, единственно, в чем я с ним никак не соглашался...
Мы бы и дальше шли вот так, переругиваясь, но после того, как он нечаянно упомянул... Мы оба онемели надолго. Уж о чем, о чем, а о женской природе я спорить с ним и не собираюсь. И не верю, что он всерьез так думает. Это от обиды. И мне обидно за него, все-таки свой. Мы вместе учились, и никогда ни одна девушка не взглянула на Андрюшу, и его, правда, я не видела в состоянии влюбленности. Разве это хорошо! И Николай Павлович очень переживал. Сколько раз он пытался его знакомить на предмет женитьбы. Я гляжу на него искоса: ну кому может понравиться такое чучело? Всклокоченный, сердитый, в немыслимом свитере на два размера больше нужного, в потертых джинсах. Встречные бабушки поднимают на него испуганные глаза и шарахаются. Я со всеми здороваюсь и кланяюсь вдобавок. Нам тоже кланяются в ответ и кивают, но по взглядам чувствую, что для них парочка мы странная и производим не совсем благоприятное впечатление, а это нам совсем не на руку. Андрюшу такие мелочи не волнуют, а меня очень.
Чтобы позлить его, я притворно восхищаюсь бело-голубым домом с мезонином и беседкой. Особенно беседка уморительна, прямо «храм уединенных размышлений». Андрюша хмыкает. Дом старинный, но его обшили тесом и выкрасили голубой краской, резьбу подновили. Ну и прекрасно: обшивка со временем сотлеет, зато дом сохранится лучше. Не то, что вот этот, напротив, огромный двухэтажный, черный, как после пожара. У этого дома на скамейке сидит старушка. Она намного моложе дома, но уже ничего не видит и не слышит, просто сидит. Мы фотографируем их вместе и идем дальше, на самый край. Тут так говорят: живу на том краю.
На краю, но в некотором отдалении, подчеркивая свою исключительность, строился дом, приведший нас в замешательство. Одно удовольствие было наблюдать, как у Андрюши вытянулась физиономия. Дом был двухэтажный, яркий, смолистый, остроконечная его крыша высоко взлетала вверх. Дом был какой-то романо-германский. Сверху нам гордо улыбался симпатичный белобрысый парень. Мы отправились к нему за объяснениями. Оказывается, парень служил в армии в Прибалтике, и ему так понравились тамошние дома, что он дал слово построить себе такой же. И вот сдержал. Ровно год как вернулся, а успел уже жениться и дом построить. Я была в восторге от дома, обошла все комнаты, хвалила-нахваливала хозяина. Андрюша — как всегда недоволен. Он к дому отнесся так же, как относился к смешанным бракам. «Вас тут сожрут комары», — сказал он на прощанье парню мрачно и неучтиво. Действительно, дом далеко отошел от улицы и стоял в окружении золотистых, величественных сосен, своей крышей чуть-чуть не дотянувшись до их крон. А на задворках у него уже тянулся лес, значит, комаров и в самом деле будет много, это Андрюша правильно заметил.
Улица была осмотрена от головы до хвоста, и мы от правились на другую. По дороге Андрей все ругался:
— Вот нашелся сумасшедший, построил себе дом, похожий на католический собор. А так как сейчас каждый из кожи вон лезет, чтобы быть не хуже соседа, это дух времени, то я не удивлюсь, если лет через двадцать сей населенный пункт будет похож на швейцарскую деревушку. Вот сколь заразителен дурной пример. А еще через полсотни лет все эти берега...
Но тут мы встали как вкопанные, и Андрюша замолк. Дом производил ошеломляющее впечатление, но чем, я пыталась долго понять. Богатых украшений не было, все очень просто. Покатая крыша с коньком, с карниза плавно бежала скромная резьба, как с широко и вольно распахнутых рук. Большие окна спокойно и строго глядели на улицу, и дом всей грудью, глубоким вздохом был открыт улице без заборчиков и ворот. Ничего в нем не было от заброшенной, неухоженной и унылой старости. За спиной у него уютно сгрудились амбарчик, баня и колодец с колесом. Андрюша тут же подбежал поближе и уткнулся глазами в сруб, а я доставала фотоаппарат, когда она вышла на крыльцо. Такая величавая, суровая старуха, настоящая северянка, подумала я. Она с крыльца посмотрела на нас в упор, и мы робко поклонились.
— Кто вы такие будете?
Тут Андрюша весь сжался и оробел, а я смело пошла к ней вверх по ступенькам.
— Мы изучаем старинные дома и постройки. Объездили уже весь ваш район. Ваш дом просто замечательный, вот стоим и любуемся. Такого в деревне больше нет?
Она кивнула гордо и утвердительно, дескать, само собой, это у нас все знают.
— А документ у вас какой-нибудь есть, паспорт?
— И паспорт, и командировки — все у нас есть, мы вам покажем. Ваш председатель устроил нас в клубе, там будем жить. Разрешите нам, пожалуйста, посмотреть ваш двор и колодец.
— Глядите, что ж, за погляд деньги не возьму.
И она ушла в дом, как будто чуть-чуть смягчившись. Андрюша вздохнул с облегчением:
— Ишь ты! Паспорт ей подавай. Где же она, былая деревенская простота и доверчивость?
— И правильно делает, знаешь, тут сколько жулья всякого ездит. Замучили их.
Пока мы бродили по двору, она мелькала в окошке. Наверное, на кухне, что-нибудь готовит к ужину. Особенно меня взволновал колодец. Ручки у колеса истаяли вполовину. С каким-то суеверным ужасом я трогала это колесо: сколько десятков лет оно вертелось, сколько его касалось рук? Я долго разговаривала с колодцем, свесив голову вниз. Он был так глубок, что воды не было видно, только где-то далеко-далеко трепетали в полумраке блики от нее. Свежо и гулко было в колодце, а голос мой разрастался в нем, как гром.
Бабуля, наверное, с неодобрением наблюдала из окна за моим странным занятием. Ну что ж, я изучаю колодец. Надо с Андрюшей проконсультироваться, меняли ли сруб или только отдельные венцы. Когда подгнивают бревна, даже где-то глубоко внизу, у колодца особый запах — запах плесени и подточенного водой дерева. Нет, этот красавец вполне здоров и бодр и простоит еще много лет. Я подняла одно ведро, чувствуя, как легко, без скрина, плывет колесо, и поставила его на скамейку, прикрыв крышкой. Все-таки маленькая помощь хозяйке.
Андрей все порывался влезть в амбар, но я не позволила, для этого надо получить особое разрешение. И тут бабуля сама вышла на крыльцо и позвала нас чай пить. Вот уж чего мы никак не ожидали. На крыльце мы и познакомились. Она по-прежнему была не то чтобы сурова, а как-то сдержанна, но самовар для нас поставила. Он шумел на полу в кухне, а на столе отдыхал электрический чайник для обычных чаепитий.
— Вы, знать, не обедали сегодня, с дороги? — спросила она. — Сейчас слажу в печку. Я сегодня печку протопила: без варева скушно, да и холодно стало.
Все-таки странно она говорит, подумала я, — не поместному: «Вы, знать, не обедали сегодня». Так говорила моя бабушка, так говорят у нас на Смоленщине, в Калужской, Брянской области. Но окала она и пела, как и все здешние уроженки.
Она открыла заслонку и вытащила ухватом маленький чугунок. Я ждала, что будет какая-нибудь каша, но она налила нам в миски ту самую бабушкину похлебку, любимую с детства. Мы несколько лет работали в этих краях, и только однажды меня угостили супом. Здесь варят уху, рыбу едят, но в основном с утра до ночи пьют чай с шаньгами, пирогами, пряниками, баранками.
Андрюша тут же начал есть, даже не заглянув в тарелку. Он, кроме построек, ничего не видел.
— Варвара Егоровна, вы отсюда родом? — спросила я неуверенно.
Она настороженно и резко обернулась ко мне от печки:
— А что?
— Здесь такого супа не варят.
Она улыбнулась и с облегчением швырнула под печку ухват:
— Да нет, варят иногда супчик, но все больше на чае. Не знаю, как они живут на таком корму. Я без похлебки не могу, даже летом печку протапливаю.
Она помолчала, задумавшись, вытерла руки фартуком и села с нами за стол. Я ждала продолжения и чувствовала, что оно будет, только торопить вопросами ее нельзя. Наливая себе чай, она сказала совсем просто, мимоходом:
— Мы из Калужской области, раскулаченные.
Андрюша даже поперхнулся и стал заглаживать неловкость, расспрашивая про дом. Но неловкости никакой и не было. Она вспоминала спокойно, без боли, ей даже хотелось поговорить. Про дом она сказала, что строили его ее свекор молодым парнем со своим отцом и дедом. Сколько дому лет? А кто ж его знает? Сто, наверное, будет, прикидывала она. Я уж тут живу пятьдесят лет, даже не верится.
— И еще сто простоит, — сказала я уверенно.
— Простоит! — подтвердила Варвара Егоровна. — Только жить некому. На мой век хватит, а детям моим он не нужен, они в Архангельске. А дома такого вы и вправду здесь не найдете. В райцентре еще есть, а у нас все перевезли. И сейчас еще стараются лучше старый дом купить на вывоз, чем новый ставить. Раньше как-то умели по-особому бревна смолить, чтоб дольше жили.
— А знаете, Варвара Егоровна, ведь мы с вами земляки, — радостно сообщила я. — Если ехать на гродненском поезде, в Белоруссию, то от вашей станции до моей остановок десять. Я из Смоленской области. Раньше ваш район к нам относился, а в 1944-м отдали Калужской области.
Она даже ложку отложила, и от суровости ее и сдержанности и следа не осталось. Андрюша покосился неодобрительно и проворчал: «У тебя все земляки, куда бы ни приехали». Недоволен он был тем, что мы слишком разговорились, и он никак не мог расспросить бабулю о деле. Мы и вправду так и вцепились друг в дружку. Надо же было ей узнать, кто мои родители, есть ли дети, какой муж, не выпивает ли?
— Знаю-знаю я твой городок, мы туда ездили на базар. Там такие бывали базары! Ты, наверно, уже не застала...
— Почему, каждое воскресенье у нас базар. Далее из других районов к нам едут на базар, издалека. Расскажите, Варвара Егоровна, как вы тут жили, когда приехали, тяжело было?
— А хорошо жили, вот как! Поначалу, конечно, было нелегко. Но я тут вскорости замуж вышла, за вдовца, правда, с двумя детьми, и еще троих нажила.
Андрей не удержался и, обведя глазами потолок, сказал, что, по его мнению, замуж она вышла очень удачно. Бабуля его не поняла:
— Муж у меня был золотой, — просияла она вся от этих слов.
— Варвара Егоровна, а там так и не побывали с тех пор? Вспоминали, жалели?
— Нет! — сказала она твердо, и лицо се снова посуровело. — Мать, когда умирала, все жаловалась: «Господи! Хоть бы одним глазком! Если б зна́то было раньше, что придется умирать на чужбине!» А мне так и не хотелось тогда. И над матерью посмеивалась: «Что, говорю, зна́то было, что б ты сделала, кабы знала заранее». Обидно было. Они еще при нас, мы уехать не успели, все добро наше, какое было, — тряпки, холсты, полушубки, — все повыволокли из избы и между собой поделили. Активисты наши, пьяницы и лодыри. Для того и кулачили, чтоб пожиться, у самих же ничего не было.
— А вы хорошо жили? Скота было много?
— Ой, не смеши — две коровы и лошадь. У нас не было шибко богатых. Но жили справно, понятно: семья маленькая, трое детей, сами на себя работали — вот и жили сыто. Батраков никогда не нанимали. А работали! Сейчас мне, милые мои, страшно вспомнить, как мы работали. Чуть живые с поля приползали. А зимой мать не давала ни минутки свободной: сиди пряди! Меня даже в школу не пустили, так и осталась неграмотной: некому прясть, а не напрядешь, нечего будет надеть. Нет, по молодости я не вспоминала свою родину, хорошего нечего было вспомнить, а плохого не хотелось. А вот к старости вдруг меня как схватило — пешком бы побежала, только бы глянуть. А к кому ехать? Там уж не осталось никого своих.
— Поедете ко мне, — тут же решила я. — На обратном пути я вас забираю и, если хотите, туда с вами съезжу.
Я уже представила нас с ней там, как будто бы сама я вернулась в родные места, где не была пятьдесят лет, — и дух у меня захватило. Но Варвара Егоровна только посмеялась, хотя и была тронута моими словами:
— Я в Архангельск боюсь собраться со своими ногами, Саш, а ты меня потащишь в такую даль. Нет уж, все, — пригорюнилась она. — Я уже и не думаю, так и помру, не повидав.
И тут вдруг, удивив нас и напугав, она заплакала, хотя за минуту до этого я и представить ее не смогла бы плачущей. Она ушла в комнаты, а мы с Андрюшей остались в сумраке и тишине за неубранным столом. Говорили почему-то шепотом, а когда я мыла посуду, то старалась не греметь чашками.
Потом мы ходили вслед за хозяйкой по дому, она хотела нам все-все показать, даже сундуки открыла. Только прожив здесь несколько дней, можно было запомнить расположение комнат, лесенок и переходов, так много вместил в себя этот дом, с виду небольшой.
— Знаете, сколько тут жило народу, когда я замуж зашла? А человек пятнадцать, — посчитала, прищурив глаз, Варвара Егоровна. — А теперь я одна, как пенек, в этих хоромах.
— А где же они? — спросил бестактно Андрюша, весь погруженный в созерцание какой-то балки.
— Где-где? На войне, — отвечала ему, как дитю непонятливому, бабуля и, помолчав, добавила совсем не местное слово: — Поотсталися.
— Поотсталися, — повторила я это слово. — Все-таки удивительно, Варвара Егоровна, как вы могли сохранить ту речь, из вашей молодости. Сколько лет прошло, давно должны были все растерять.
— Должна была, но не растеряла, — сказала она гордо.
За окнами уже было черным-черно, а мы все сидели в парадной горнице Варвары Егоровны, удивлявшей роскошью своего убранства. — Здесь были и ковры, и дорогие китайские покрывала, и скатерти, одних самоваров пять штук, от медного, старинного, до электрического. Резная горка ломилась от посуды, а на горке стоял без дела японский транзистор.
— Ты видишь, сколько у меня добра, — хвалилась Варвара Егоровна, оглядывая горницу, но в похвальбе этой не было ничего, кроме насмешки и горечи.
Добра было и правда слишком много: все заставлено, занавешено, забито старыми, пришедшими из давних времен вещами, и тем, что навез за долгие годы плаваний сын-моряк. Им-то Варвара Егоровна была особенно недовольна.
— Он у меня еще неженатый, паразит, — жаловалась она. — Сорок лет уже... Сколько я ему невест сватала, не могу пристроить малого. А теперь уже и не женится, я считаю, — махнула она рукой, как на пропащего.
Андрей, бедняга, весь истомился, слушая наши бабьи разговоры, и ждал паузы, а дождавшись, стал вежливо прощаться. Для Варвары Егоровны это было большой неожиданностью:
— Вы что ж, собираетесь уходить? — удивилась она.
Мы переглянулись с Андрюшей — да, пора, уже поздно. Она взяла меня за рукав, словно боялась, что сию минуту встану и уйду, и видно было, как ей не хочется сейчас остаться одной.
— В этой комнатенке вам ни сготовить, ни поесть, как вы там будете жить! Оставайтеся, Саш! Я хоть поговорю с вами, мне так скушно одной!
— Ну конешно, Варвара Егоровна, если хотите, сейчас же переедем. Мы и мечтать не могли с Андреем о таком жилье.
— Это другое дело, а то надумали жить вдвоем в такой комнатухе. Я не знаю, не мое это дело, конешно, — сказала она, хитро глянув на нас. — Но ты же замужняя женщина, Александра.
Ой, надо было видеть, как она при этом на меня посмотрела: подбоченясь, серьезно, значительно, словно спрашивая, понимаю ли я, какое место занимаю в обществе? Андрюша помирал со смеху за ее спиной, а я, опешив, слушала.
— Ты женщина серьезная, не какая-нибудь шухры-мухры, я же вижу. Конешно, вы, нонешние, живете по-своему, вас не поймешь... Ну а если мужик твой узнает, ты об этом подумала?
Я так беззаботно рассмеялась, что она руками всплеснула. Зато Андрюша с удвоенной серьезностью, доверительно сообщил:
— Он ее убил бы непременно, уж я его знаю. Спасибо, Варвара Егоровна, что предостерегли нас от столь необдуманного поступка.
Бабуля тут же поняла, что мы шутим, но не обиделась, а посмеялась вместе с нами. Так мы и стали жить у нее поживать. Мы и раньше предпочитали жить по домам, а не в казенных учреждениях, но почти всегда чувствовали себя квартирантами. Здесь же было совсем другое. Из того года у меня в памяти осталось два-три десятка дней, остальные в однообразии и незначительности потерялись. Одну недельку, прожитую в этой деревне, я вспоминаю с теплом и грустью до сих пор.
— Вот ты изучаешь стиль и пропорции, архитектурные особенности жилищ, — говорила я Андрюше. — А можно ли изучить их дух? Почему, когда я вижу этот дом, я радуюсь, а когда вхожу, он уже на пороге обнимает своим уютом, столетним домашним уютом. Тебе хорошо в этом доме? И мне, вот видишь. Почему же в других жилищах так холодно и бесприютно?
— Все это эмоции, женские эмоции, — смеялся Андрюша.
Да, конечно, думала я, — но какую же большую роль играют эти эмоции в нашем бытие, гораздо большую, чем твои пропорции и стили. Почему в этом доме я в первое же утро проснулась счастливой? За окном крапал дождик, и погода была какая-то сирая, а мне все равно было хорошо. Разве в своей благоустроенной квартире я когда-нибудь просыпалась счастливой? Не помню. Помню, что с утра уже давил гнет предстоящего: давка в автобусе, неприятности на работе, корпение над бумагами, забота о хлебе насущном, то есть об ужине. А в такую погоду мне вдобавок всегда хотелось умереть. Но на работе все-таки бывали просветы и радости. Больше всего в неделе я не любила два дня — субботу и воскресенье, потому что в эти кошмарные дни в лоне семьи я превращалась в автомат, которому предназначены определенные функции, и он эти функции добросовестно выполняет. Стирки, уборки, беготня по магазинам, обеды, ужины — в этих бесконечных заботах меня словно покидало сознание, и я никогда не останавливалась, чтобы хоть немного вслушаться в себя. Как-то я с ужасом заметила, что улыбаться редко стала, только когда видела сына или говорила с ним, но для него оставалось так мало времени, да и сам он был занят своими делами, бегал с утра до вечера во дворе и был очень доволен такой жизнью.
И вот я уехала и проснулась от долгой спячки. Мое новое, счастливое состояние было настолько оглушительным, что его невозможно было не заметить. Такое со мной бывало только в детстве, когда я получила, наконец, свою коляску, когда дед или бабушка брали меня в город. Тогда это бывало часто, порой из-за совсем незначительных событий. Может быть, и сейчас мне так хорошо, потому что я словно вернулась в те времена. Чем-то очень их напоминают и этот дом, и наша хозяйка.
По утрам я долго блаженствовала, то открывая, то закрывая глаза, на парадной кровати Варвары Егоровны в ее парадной горнице. В доме тихо и по-утреннему прохладно, сейчас бабуля встанет, затопит печку, и станет тепло, как на улице в жаркий день. В отличие от меня все окружающие, резной шкаф с посудой, самовары, огромные пучеглазые куклы и медведи, давно очнулись от дремы и вступили в дневное бодрствование. Давно ворочалась и бабуля в своей спаленке.
— Саш! Ты спишь? — тихо спрашивала она.
Я соскакивала босая с высокого ложа и бежала к ней в спаленку поздороваться.
— Ты видишь, до чего я дожила, — удивлялась она самой себе. — Валяюсь до восьми часов. Раньше бы к этому времени уже и корову подоила, и скотину накормила, и сколько бы делов переделала.
— Это же хорошо, бабушка, хоть к старости отдохнете.
— Не надо мне такого отдыха, даром не надо, — сердилась бабуля.
Пока она одевалась и грела в ведре завтрак поросенку, я негромко включала магнитофон и начинала прыгать и приседать под музыку. Звенела в шкафу посуда, подрагивали самовары и ваза на столе, а бабуля, с любопытством заглядывая в дверь, дивилась и охала:
— А божа мой! А божа мой! Что ж это за зарядка такая, гляди, не сломай себе чего-нибудь.
Я танцевала и у рукомойника, и у стола, собирая посуду. Но это уже не для зарядки, а так, от избытка чувств. Когда все было готово, бабуля переворачивала ухват и стучала палкой в потолок, вызывала к завтраку Андрея. Он спускался из своей светлицы и еще с лестницы грозно кричал:
— Что за топотание меня разбудило?
— Это Сашка плясала, — весело отвечала бабуля.
— Смотрите, Варвара Егоровна, она введет вас в липшие хлопоты и расходы — придется менять половицы.
— Ха-ха-ха! — до слез смеялась она, уж очень ей нравилось, как я подтруниваю над ним, а он надо мной.
Мы усаживались за стол, и казалось, что мы завтракаем так каждое утро уже много-много лет. Просто удивительно, как хорошо мы ужились втроем. Я сияла, бабуля была очень довольна, и Андрюша тоже очень изменился: утихло занудство, разгладились морщины вечного недовольства как общим ходом вещей во Вселенной, так и его частностями — рутинерством науки, падением духовности и нравов, женской эмансипацией и ритмической гимнастикой.
Как во всякой дружной семье, у нас у всех были обязанности, которые особо не оговаривались. Как-то само собой сложилось, добровольно. После завтрака, убирая со стола, я наблюдала в окно, как Андрюша колет дрова, не без удовольствия наблюдала. Как заправски он отступал на шаг, примеривался, чтобы тут же обрушить на полено всю свою мощь! Это был уже не хилый аспирант, книжный червь, библиотечная душа, а гладиатор на арене или первый парень на деревне в местных масштабах. Правда, он так лихо носил кепку, распахнутую на груди фуфайку и кирзовые сапоги, вся экипировка бабулина, что на улице ничем не отличался от местных парней, тех, что работали на лесосплаве.
С утра мы уходили в окрестные деревни, иногда довольно далеко, за пять-шесть километров. Солнце так и не показалось ни разу, как мы его ни ждали, но и без него дни стояли ясные-ясные, прозрачные до хруста. Не было летнего тепла, и дождей тоже не было — какое-то безвременье наступило в природе.
В одной деревеньке мы обнаружили остатки населения. В небольшом доме доживали муж с женою, старики, а рядом в баньке — одинокий старик: топить большой дом ему было не под силу, и он перебрался в баньку. В трех самых дальних деревнях мы не нашли ни души, они пустовали, и давно. Странное это было зрелище: одни дома стояли голые и распахнутые настежь, другие были закрыты, но окна не заколочены. Когда мы входили в первую пустую деревню, она показалась мне такой романтичной, печальной и навеяла соответствующее лирическое настроение. Во второй было уже чуть-чуть не по себе, а в третьей... просто жутко. От романтизма и следа не осталось. Жутко, обидно и горько.
Иногда мы находили в таких домах хаос и разгром: мебель сдвинута, разбросаны вещи и посуда, как будто хозяева, все побросав, в спешке бежали. Из других домов, наоборот, все было тщательно выметено и брошено куда-нибудь в бурьян поблизости или сожжено у крыльца. На такие кострища я смотрела с сожалением: что это? варварство? В одном я даже раскопала расплавленный оклад от иконы. Или кому-то легче было поступить так: легче сжечь, чем бросить привычные старые вещи. Все, что я находила, до последнего черепка — черные туеса, обглоданные ложки, ступы и коромысла, прялки с истертыми узорами, глиняную посуду — я выносила из дома и расставляла в ряд где-нибудь на выступе фундамента или на скамеечке. Подходил Андрюша и все забраковывал или как не имеющее никакой ценности, или настолько испорченное тлением, что не было надежды восстановить хоть какой-нибудь облик, не говоря уже о первоначальном. Я с ним не всегда соглашалась. Для него любая вещь сама по себе ничего не значила, если не работала на определенную идею.
Так, многочисленные черепки и глиняные плошки, которые мы находили почти в каждом доме, работали. Предполагалось, что промысел этот процветал когда-то именно в этих деревнях. Глиняные горшочки, совсем маленькие и покрупнее, предназначались только для рыбы. Я их называла плошками, потому что они были очень мелкие, с крышкой, широким дном и овальной формы. Можно было прямо на берегу уложить рыбу в горшок и сунуть в костер, она никогда не подгорала. Вот почему такой славой пользовалась эта посуда. Говорили, что глина особого состава, даже на вид они были намного светлее обычной глиняной посуды, да и обжиг был с секретом. Таких плошек мы нашли уже несколько, а вот людей, которые бы о них рассказали или хоть что-нибудь вспомнили, пока не встретили.
Интересны здесь были не только привычные берестяные туеса, но и плетеные коробы, большие, с сундук, и маленькие, как шкатулки, тоже плетеные заплечные сумы, затейливые по форме корзины. Такой промысел тоже здесь был когда-то, и остался от него один старичок в соседней деревне, который и сейчас мог сделать на заказ большой туес для молока, корзинки для детишек и короб с крышкой под всякое добро.
Конечно, это очень заманчиво, найти следы исчезнувшего промысла, как можно больше о нем разузнать и, если повезет, раскрыть какой-нибудь старинный секрет. Когда далеко за горизонтом маячила такая загадка, Андрюша воодушевлялся и плыл к ней на всех парусах. Он любил работать целеустремленно, по определенному плану, я не то чтобы планов не признавала, но все ждала неожиданностей, счастливых находок.
Вот Андрей не признавал местных прялок. Да, они совсем простенькие, не красочные. Когда-то, если хотели одарить жену или невесту, везли ей с базара цветную, мезенскую. Я настаивала, что надо взять несколько местных образчиков для полноты картины. Он же не хотел тащить в такую даль ненужные, по его мнению, вещи. Спорить с ним было бесполезно, упрям, как осел. И вдруг в последние дни я нашла такое чудо: чисто местную прялочку, миниатюрную, скромную, с изящной резьбой по краю. Словно кто-то хотел смастерить прялочку побыстрее, на скорую руку, может быть, для ребенка, но тут его осенило и он создал то, о чём и не мечтал.
Вот так и работали, как всегда. Только пустые дома меня все больше угнетали, почему, я сама не могла понять. Как-то обернувшись на дом с распахнутыми дверями и окнами, я вернулась и аккуратно все прикрыла, все-таки не так безотрадно смотреть. А рядом стоял дом, очень заинтересовавший Андрея, но на двери болтался хлипкий замок. Дом был еще не дряхлый, статный, с высокими окнами и поветью. Обойдя его кругом и проверив все окна, мы нашли открытое во дворе, в пристройке. Влезли, как воры, и долго плутали внутри, до чего же просторно и пусто было в нем. Сосновые половицы как будто только что вымыли, а нарядная печка, разрисованная синими цветочками, была похожа на большой белый корабль. Пока Андрюша осматривал печку, я вышла в сени, а из сеней на поветь. Вот на таких поветях, а она раза в три просторней моей квартиры, раньше накрывали столы на большие праздники, свадьбы и поминки. Да и сейчас еще накрывают: в прошлом году мы были на таких поминках, на повети. Подобрав задумчиво несколько одиноких соломинок, я спустилась вниз, где под поветью примостились в ряд аккуратные закутки для скотины. Это для поросенка, прикидывала я, это для овец, а это для коровы. Да тут целому стаду было бы не тесно. Я откинула крючок и заглянула внутрь: чистая и сиротливая пустота, не верится, что здесь когда-то жила скотинка, даже слабого духа ее не осталось.
Я обошла все кругом, удивляясь и одобряя на каждом шагу: как все добротно, удобно было сделано в этих хоромах. Сколько в доме было чуланчиков, комнатушек, закуточков, лесенок в три-четыре ступеньки. Ни одна не скрипнула под ногами. Ни мебели, ни одной вещички, только громадный кованый сундук нашла я на втором этаже, а в сундуке — несколько старых «Нив» и допотопных газет. «Похороны великого князя Сергея Александровича», — прочла я.
Уезжая, все подобрали, кроме икон. Ну сундук не в счет, его не сдвинешь. Старушка бы иконы упаковала в первую очередь. Наверное, умерли старики, а молодые даже не взглянули в угол и о них не вспомнили. На богоматери краска кое-где вздыбилась от сырости, а лик ее из скорбного стал мрачным. Наверное, от долгого глядения в безысходную пустоту. Только когда вылезли обратно в окно, мне стало страшно. И сейчас страшно вспоминать, как я могла тогда без робости проникнуть в этот пустой, мертвый дом.
Вечерами из этих походов я возвращалась, как после тяжелой работы, вся какая-то пустая и измученная. То ли дальняя дорога была тому причиной, то ли слишком много новых впечатлений навалилось. Но как же радостно было возвращаться домой, где тебя ждут, а не в голую клубную комнатушку. Бабуля ждала нас на скамейке и, завидев, издалека, бежала ставить чайник и разогревать ужин. Мы еще умывались и только садились за стол, а она уже начинала свои нетерпеливые расспросы:
— Ну что, нашли кого?
— Никого нет.
— А? Что ж такое? Они на лето всегда приезжали, да и зиму еще зимовали года два назад. Три старушки и старичок. Одна бабка померла, а остальные разъехалась по детям. Это еще хорошо, что было куда ехать: не все ж детям нужны. А как они там зимой жили, я вам рассказать не могу! Колодец замерз, занесло их по самые крыши. Как медведи сидели. Выскочат, зачерпнут снежку на чай и обратно.
Пока мы, наголодавшись за день, ели, она рассказывала нам обо всех, кто жил раньше в этой деревне, живы ли, где они сейчас, и еще о многих подробностях их прошлого и настоящего. Андрюшу все это совершенно не интересовало, и он уходил на печку. Он даже летом грелся на печке, как кот. Я же готова была слушать всю ночь о том, как пятьдесят лет назад вышла замуж старая знакомая Варвары Егоровны в ту деревню, где мы сегодня побывали, какие у нее были дети и как у них сложилась жизнь; из-за чего поссорились и враждовали до смерти два соседа, как раньше жили в коллективизацию и в войну. Времена были тяжелые, но и люди для этих времен подобрались покрепче нас. А сколько ярких натур мелькнуло в этой, казалось бы, однообразной, заполненной трудом до отказа, жизни. Все влекло меня в прошлом, и я хотела разобраться и понять, что́ влечет. Может, прав Андрюша, обвиняя меня в том, что я идеализирую деревню, ее обитателей и их предрассудки. Против предрассудков он особенно восстает. Но я на этих предрассудках выросла, и они мне милы. Моя бабушка, мать и тетки шагу не могли ступить без примет, поверий и преданий, возраст которых — века. Для меня это поэзия, которую нужно так же беречь и изучать, как дома и постройки.
Конечно, иногда мое воображение, раззадоренное рассказами Варвары Егоровны, рисовало мне романтичные картины. Представьте себе молоденькую девушку, убегающую ночью от деспота-отца, чтобы тайно расписаться в сельсовете со своим милым. Это тогда называлось «выйти замуж самоходкой». Или молодую женщину, которая отравила старого, постылого мужа и тут же во всем повинилась. Я с удивлением видела, что в той жизни, которую все считают грубой, простой и тяжелой, кипели страсти, в ней было больше смешного и трагического, чем в нашей устроенной и удобной действительности. В жизни окружающих меня людей ничего не происходит, так тщательно они себя оберегают от всех волнений и забот. Да и ты сама, спрашиваю я себя, что ты из себя представляешь? Тоже типичный представитель, пассивное существо с тихой душой, не способное на решительный поступок, на решительное слово. Нет, все-таки заглядывать в прошлое и сравнивать с настоящим очень полезно.
Но не только романтическое, возвышенное искала я в прошлом. Вечерами, когда мы сидели за чаем с соседками и подружками Варвары Егоровны, я расспрашивала подробно, как раньше жили, что ели, во что одевались, какие работы делали?
Как-то случайно услышала поговорку: взамуж-то взамуж, замужье — не запечье, умеешь ли шить косо́ подоплечье? Варвара Егоровна не знала, что такое «косо подоплечье». Ей простительно, она не местная, но соседки-старожилки тоже не знали: «Это крой какой-то особенный, мы уже так не шили рубашки мужикам, мы по-простому». Я просто заболела этим косым подоплечьем. И вокруг по деревням ничего не нашла: слышали, но сами не знают, видели, но не помнят. Я написала нашим, в соседний район, чтобы искали и спрашивали. Помогла мне Варвара Егоровна. С первых же дней она горячо интересовалась нашей работой, вспоминала, советовала и даже планировала наши поиски. Утром она нам говорила: «Сегодня зайдите туда-то, поговорите с тем-то, может, у него что найдется», и давала подробнейшую характеристику нужных нам людей, как лучше к ним подойти, чем понравиться, когда можно застать дома. Узнав, что всех расспрашиваем о старых гончарах из этих мест, она составила нам список в полтетрадки всех их близких и дальних родственников, соседей и знакомых. По ее словам, на эту работу у нее ушли ночь и день — ночь на раздумья, день — на составление списка. Очень ей по душе была такая деятельность, а мы с Андрюшей словно с неба свалились и принесли с собой в ее скучную жизнь так много радости.
Какой это был бесценный помощник в нашем деле! Она знала всю подноготную о своих односельчанах и жителях окрестных деревень, их родственные и матримониальные отношения, их родословные до третьего колена. Больше того, она хорошо знала их имущество: у кого есть красивая прялка, привозная, досталась еще от бабки, у кого много старинных книг и икон... Андрюшу больше всего смешило, что она знает точно, сколько сарафанов и шалей у каждой жительницы этих мест.
Косое подоплечье ее тоже задело не меньше моего. Она спрашивала у всех женщин в магазине и на старушечьих посиделках у подруг, куда неизменно отправлялась днем. Как-то она вернулась домой чересчур стремительной походкой и деловито сообщила нам, что нашла...
— Пойдешь к ней завтра, к этой бабке, она уже старая, дома сидит, не вылазит. Как только дочка ее пройдет на дойку в обед, я в окно увижу, так ты и отправляйся. Никого дома не будет, посидишь с ней, поговоришь, никто не помешает. Я уж к ней сбегала тоже. А что? Ничего. Пускай, говорит, приходит, что ж, если надо.
Девяностолетняя старушка, похожая на былинку, принесла мне на вытянутых руках приготовленную рубашку и сообщила, что это памятная, тятенькина. Господи, неужто у нее когда-то был тятенька, подумала я, принимая бережно, как ребенка, драгоценную рубаху. А как она трогательно, мягко произносила это слово «тятенька». Бабулечка помогла мне сделать выкройку и, пока я рисовала, сидела у стола, подперев кулачком щеку. Я заметила, что в честь моего прихода она надела новый, нарядный платок и фартук с оборками. Когда я уже распрощалась и пошла к двери, она, не без некоторых колебаний, вдруг решилась и сунула мне рубашку. Для приличия я недолго сопротивлялась, а она только рукой махнула, дескать, бери уж, раз дают.
Я шла по улице, и щеки у меня горели. Чувства были самые противоречивые. Во-первых, я и не чаяла получить сам оригинал, и не питала никаких надежд, хотя какую-то предварительную беседу Варвара Егоровна, кажется, провела. Ужасно мучила совесть, что я лишила старушку, может быть, самой дорогой, памятной вещи. Но у нас в музее не было такой рубахи, и в коллекции одежды она будет одним из самых ценных экспонатов. Так в отчаянии я оправдывалась перед самой собой. Но, несмотря на сомнения и укоры, вернее, за спиной у этих сомнений плясала моя буйная радость.
Варвара Егоровна ждала меня на лавочке у дома. Рядом с ней сидели три женщины, две мне незнакомые, не местные.
— Ну что, отдала она тебе рубашку?
Я показала в ответ сверток.
— Ну и правильно, — одобрила она. — Три сундука наложила эта бабка, что она, в могилу их себе возьмет? Помрет, через год-другой все ее добро на тряпки пустят, столы вытирать. Ну-ка покажи, что за косое подоплечье.
Они разложили рубашку на коленях, все по очереди осмотрели и ощупали. Соседка разочарованно охала:
— Ну и рубаха! Мой дед и то не наденет такую. Сто лет в обед.
— Ей так и будет, батькина еще рубаха. Нет, хор-роша! — не согласилась с подругой Варвара Егоровна. — Ты гляди, как подложено на груди. Мы тоже так шили, но только кроили не так. Для чего это, как вы думаете? А, Саш?
— Чтоб носилась дольше, не сотлела, не изорвалась...
— Вот-вот, раньше как работали: помахает день топором или косой, рубаха мокрая, только выжать. Ну, эта праздничная была, редко надевали, поэтому и дожила.
— А что это у вас за работа такая? — подозрительно спросила одна из незнакомок, и даже глаз прищурила, и губы поджала.
— А вот такая работа. Они у меня, как по миру ходят, что подадут, тому и рады, — от души хохотала Варвара Егоровна. — Есть у тебя какое барахло, ты не выбрасывай, а им покажи, может, для науки пригодится.
Но заметив, что приезжие женщины после ее слов прониклись еще большим недоверием и сомнением на мой счет, она круто повернула с насмешливого на самый высокий тон и стала втолковывать им, какое важное дело мы делаем — собираем старину:
— И все-то им нужно, и как раньше печки клали, и как дома строили, и как шили. Даже черепки собирают, и все, что соберут, пойдет в музеи.
— О господи! И черепки? — удивлялись женщины.
Мне не пришлось и слова вымолвить, Варвара Егоровна все взяла на себя — и организацию нашего труда, и просвещение местного населения. Каким бы делом она ни занималась, ей всегда сопутствовал успех: нельзя сказать, чтобы на нас смотрели, как на полезных и совсем нормальных людей, но, во всяком случае, благожелательно.
Свои сундуки и закрома наша хозяйка открыла так же широко, как и сердце. Сарафанов, рукавов и шалей у нее накопилось с полсотни.
— Тут и свекровины наряды, и сестрины. Приехали мы сюда ни в чем, что на себе было только, а сейчас ты видишь, какая я богатая невеста.
В последний день перед отъездом я перемерила все сарафаны подряд, вертясь перед зеркалом. Они, в общем-то, безразмерные, надо только потуже затянуть тесемки. Бабуля любовалась со стороны, охала, хлопала в ладоши и кричала на печку:
— Андрюха, ты гляди, какая в сарафане хорошая молодушка, не то что в штанах!
Андрюша неохотно свешивал голову и вздыхал. Вздох этот значил: когда же наконец это бабье оставит меня в покое со своими тряпками. Но мы так и не дали ему спокойно полежать на печке на прощание. Варвара Егоровна не выдержала, тоже стала примерять свои наряды. Многие она успела за давностью лет позабыть. Мы заставили Андрюшу сфотографировать нас в сарафанах на улице у дома, за столом у самовара и на берегу с соседками.
После экспедиции я не поехала, как обычно, с мужем на юг, а провела отпуск дома, в родном захолустье. Это было решено как-то в одночасье, неожиданно для меня самой.
Мы сидели с мужем на кухне, распахнув окно в черный теплый вечер. Такие летние вечера — самые уютные, любимые мною часы в городе. Несмотря на близкую полночь, дружелюбно светятся окна, внизу лают собаки и слышатся голоса гуляющих.
Супруг с шефом ездил на конференцию в Ригу. Обычно с таких конференций он возвращается в важном и глубокомысленном настроении, словно осознав, какой груз несут они на своих плечах — всю современную науку. Но сегодня он тих и подавлен. Муж расспрашивает про Андрюшу. Андрюша Парамонов — его слабое место. Это даже не зависть в чистом виде, это что-то другое. Он ревниво следит за каждым его шагом, а когда слышит похвалы в адрес Андрюши, жестоко страдает. На этот раз я очень скупо рассказываю о нашей совместной работе.
— Ну, как поживает деревня, чем дышит? — с мягкой, даже грустной насмешкой спрашивает он меня, дескать, всем известно, что ее давно нет как таковой, испустила дух, а вы все ездите, чего-то ищете. — А тебе все еще бывает стыдно? — небрежно добавил он.
Дело в том, что они с шефом вбили себе в голову и другим пытаются внушить, что деревня вырождается, умирает, следовательно, и живут в ней одни вырожденцы. В скором будущем ее заменят крупные городские поселения с сельскохозяйственным производством. Я уже не раз слышала эти предсказания от людей, которые в деревне никогда не жили и сейчас в ней не бывают, но судят и рядят вкривь и вкось о ее проблемах, нуждах и будущем.
Но меня задела не столько насмешливая грусть, сколько его последняя реплика.
Лет пять назад, когда я еще имела глупость откровенничать с мужем и делиться с ним всем, что в голову придет, я пожаловалась ему как-то после экспедиции, что мне стыдно всякий раз, когда я приезжаю в деревню. Стыдно перед старушками, старыми колхозницами, у которых смехотворная пенсия — двадцать четыре рубля. Стыдно потому, что все они работают с раннего утра до темноты, и работы у них тяжелые, не то, что в городе. Мы, правда, тоже там не отдыхаем, заняты своим делом, но все равно я чувствую себя нахлебницей, которая приехала их изучать. Они всех нас кормят, говорила я тогда мужу, а живут хуже нас. Разве это справедливо? Тогда он в чем-то согласился со мной, довольно снисходительно впрочем, и долго объяснял мне смысл этого неравенства очень убедительными, умными словами. Он очень хорошо умеет говорить! Даже сейчас, когда я не верю давно ни одному его слову, я часто завораживаюсь музыкой этих слов. «Всеобщее равенство, может, и станет когда-нибудь правом, но никакая сила не сможет осуществить его на деле», — цитировал кого-то муж. В любом обществе, даже при коммунизме, люди будут жить одни лучше, другие хуже, и работы будут легкие и тяжелые всегда.
С тех пор он часто дружески посмеивается над моей горячностью и тягой к справедливости. Но сейчас я почему-то ужасно обиделась.
— Да! И сейчас мне стыдно! — ответила я с вызовом, подчеркивая каждое слово. — Потому что ничего не меняется. Нынче мы жили на квартире у одного колхозника. Он скотник: убирает на форме, топит, подвозит корма. Встает он часов в пять утра, ложится за полночь, у него еще и свое хозяйство. И знаешь, сколько он получает за такую работу? Сто пятьдесят рублей. И еще доволен, потому что в колхозе, без вычетов. А ты нарабатываешь двести и недоволен. Говоришь, что мало. А работа у тебя легкая, приятная, удобная.
— По-твоему, нет никакой разницы между мной и этим скотником? — улыбается муж. — Ты никак не хочешь понять, что нужно соблюдать дистанцию, и материальную тоже, между трудом умственным и физическим, чтобы воспитать уважение к умственному труду, вырастить и взлелеять настоящую интеллигенцию.
— А я-то всегда думала, что настоящая интеллигенция растет в сферах умственных и духовных интересов! А вот если взять и сократить треть нашей расплодившейся институтской интеллигенции, то можно повысить зарплату ста таким колхозникам.
— Вот это правда, сократить можно.
Супруг любит говорить на эту тему: сколько в институте лишних людей, которые давно присосались к науке и кормятся от нее. Но сам себя к этим лишним он, конечно, не относит. Тут мне стало скучно, и говорить больше не хотелось. И смотреть на него тоже не хотелось. В эту минуту я и сказала себе решительно: «Не поеду! Хоть убей, не поеду!» Мужу я сказала на другой день, что соскучилась по ребенку, два месяца его не видела, что давно не была дома...
— Ты давно делаешь только то, что тебе хочется, — отвечал он, окаменев лицом. — Поэтому уговаривать тебя бессмысленно. Бессмысленно говорить об обязанностях перед семьей и передо мной в какой-то степени, — на последней фразе голос у него совсем стих, а нижняя губа обиженно вздрогнула.
Мне стало невыносимо смешно, но я сдержалась и погладила его по плечу:
— Обязанности все почему-то односторонние, мои, ты не замечал? А мне ты ничего не должен? Чего молчишь? — спрашивала я мягко и почти дружелюбно. — Я должна не только обслуживать тебя, как прислуга, но и думать так, как ты, не любить тех, кого не любишь ты.
— Да, я всегда думал, — грустно отвечал он, — что муж и жена должны идти одной дорогой.
— Какая дорога! Мы и живем-то с тобой на разных этажах: ты — в бельэтаже, я — в мансарде.
Так мы и разъехались в разные стороны, тихо разъехались. Он провожал меня на вокзале, и на перроне мы долго молчали.
Поезд тронулся, и я все и всех забыла из своей городской жизни. Как отрезало. Я думала только о доме, считала часы и станции, а поезд тащился так медленно. Проехали деревеньку Варвары Егоровны, и я подумала, что обязательно вернусь сюда на денек, а потом напишу ей, вот будет рада старушка! Домой я в последние годы только наезжала на похороны, поминки, краткие побывки. Только когда родился сын, мать нас забрала на всю зиму, которую я прожила дома, страдая от пустоты и никчемности такого существования. Какая дура! Сейчас я вспоминаю это время по кусочкам и картинкам и подолгу разглядываю и любуюсь ими, хотя эти картинки совсем простенькие, не живописные. Но сейчас они мне кажутся такой значительной частью моей жизни, заполненной осмысленным, важным трудом.
Ночью он обязательно просыпался, как я ни надеялась с вечера, что хоть сегодня-то проспит. Первой спешила на крик бабушка. Она ходила с орущим младенцем по комнатам, припевала, поила его сладкой водичкой, но он, захлебываясь, все вопил и вопил. Мать вздыхала, и мне было ясно, что придется сдаться и на этот раз. Словами супруга и с его интонацией я поучала:
— Врачи говорят, нельзя кормить когда попало, особенно ночью. Режим приучает к порядку и дисциплине.
— Врачи тебе много чего наговорят, — ворчал отец. — От них надо подальше, своим умом жить. Морят голодом мальца. Если он ночью оголодал, значит, организм требует.
— О господи, как вы меня мучаете, — сдавалась я. — Давай его сюда.
Мать радостно устремлялась ко мне, на ходу напевая:
— Что-то наша мамочка сегодня раздобрилася, даст нам покушать не по графику.
Ребенок сосет и наливается дремой. Полусонный, он все еще чмокает губами и глубоко вздыхает от сытости. Не удержавшись, я целую его в прохладную, упругую щечку. Мать не сразу его укладывала, а, держа перед собой на ладонях, долго любовалась и несла полюбоваться отцу. Снова гас свет, и тут же в черноту комнат проливалась из окон белая зимняя ночь, а на пол ложились от луны золотые полосы. Я с тоской вспоминала дружный хруст снега на аллее от института к метро, многолюдье улиц. Муж пишет, уже два раза был в театре, а я здесь живу, как медведь в берлоге. Мучительным соблазном манил меня из этого захолустья большой город, где люди живут так счастливо, шумно, значительно. Погоревав, я незаметно засыпала, как в прорубь проваливалась.
Утром мать с отцом уходили на работу, а я вскакивала следом, чтобы затопить печку. Дом остывал за ночь, и я сильно зябла, пока возилась у печки с дровами. Потом долго сидела, открыв дверцу, и смотрела на огонь, пока лицо не покрывалось жаром, как пудрой. Так у печки мы и проводили почти весь день. Я укладывала младенца на большой отцовской подушке в углу кухни, чтоб ему не скучно было одному. Пока варила ему кашу и делала пюре из овощей, он лежал в своей обычной позе — ножки согнуты в коленях, они у него еще не выпрямлялись, так что он мог разглядывать свои пестрые вязаные пинетки, что и делал постоянно, развязывал тесемки и совал кисточки в рот. Умывая его, я разжимала всегда сжатые кулачки и находила в них шерстинки, соринки, а то и пуговицу с его кофточки.
— Как это ты не успел проглотить? — удивлялась я пуговице.
Ребенок должен слышать смалу родную речь, причем очень хорошую. Поэтому, сидя у печки, я читала вслух. Как ни заставлял меня супруг следовать Споку и другой модной литературе по воспитанию, я больше следовала своей системе. Младенцу очень нравились стихи, он завораживался ритмом и таращил на меня глаза. А проза была ему скучна, он вертел головой и играл кисточкой. Когда он засыпал, я бежала за водой к колонке. Днем у нас на улице ни души не встретишь. У соседей тоже топят печки, жидкий дымок тает над крышами, и вкусный его дух смешивается с морозным жгучим воздухом. Так хорошо, так тихобывало на душе в те минуты, забывались тоска и беспокойство, хотелось поставить ведра на тропинку и полюбоваться нашим домом, занесенным снегом, так что виднелись только узорные наличники и карнизы, поэтому дом был похож на старинный терем. Полюбовавшись, я тут же по-хозяйски прикидывала, что весной придется лезть на крышу, сбрасывать снег и вывозить его санками на улицу, а то затопит двор и сарай.
Под окнами размеренно похрустывали шаги деда, он совершал свою обязательную утреннюю прогулку по тропинке между нашими усадьбами. После прогулки он заходил к нам. Мой декретный отпуск стал для него подарком, а то словом не с кем перемолвиться, все на работе.
Все бегом и бегом, как заведенная, я ставила греть воду, гладила новую партию пеленок и ползунков, пока не проснется чудище. Так я называла своего сына. По правде сказать, в первый год материнства у меня было скудновато с материнской нежностью. От усталости и недосыпа я часто бывала раздражена и подавлена. Все мои многочисленные родственники изливали на младенца потоки любви, а меня только поучали, наставляли и ругали. И дед, конечно, в первую очередь. С утра мы начинали с ним спорить и переругиваться.
Прихлебывая чай, он все дивился современным порядкам и вспоминал старые, добрые времена:
— Вот, получила отпуск и сидишь, пелекаешь одного дитёнка. А раньше? Какие там отпуска! Ты знаешь, как твоя мамка родилась? В поле, в самое жнитво. Варьке было лет пять. Прибегает домой и кричит: «Баб, там мамка в стожке лежит, чтой-то с ней?» А моя мать уже знает, в чем тут дело, собрала кой-какие тряпки, связала и туда. Полежала твоя бабушка денек-другой, а на третий встала и пошла жать, и девочку с собой понесла.
Я на кухне стираю пеленки и отвечаю деду с обидой:
— Это я-то, дед, сижу? За водой только три раза сбегала, некогда присесть!
— Ну как же, умаялась ты с одним птенцом! Тебе бы пятерых, да корову, да хозяйство...
— Да лошадь, и кур, и мужа-пьяницу в придачу, и чтоб я через месяц ноги протянула, — перечисляла я в тон деду.
Запаковав младенца в старый пуховый платок, еще отец подарил матери, когда я родилась, в ватное одеяло, я выкатывала коляску во двор, приставляла деда сторожить, а сама готовила обед. К вечеру врывалась мать и с порога бежала поглядеть на внука:
— Ми́льчик мой, ты все лежишь, она тебя не берёт на ручки. Сейчас я тебя возьму, только разденусь да умоюсь.
— Согрейся, ты с мороза, — командую я.
Она припадала лбом к его ножкам и певуче жаловалась ему:
— Я весь день по тебе скучала, не могла дождаться...
Он смеялся и запускал ладошки в ее волосы. Мне он почти никогда не улыбался. Я для него была только источником питания, и он следил за мной глазами зорко и напряженно, всегда с молчаливым вопросом: когда есть будем?
Уходя по вечерам, в библиотеку или к старым подружкам пообщаться, я оставляла родителям кучу наставлений, которым они никогда не следовали — не приучать ребенка к рукам, не кормить чем попало и так далее.
В нашем городе можно пройти улицу, переулок, еще улицу — и никого не встретить. А если и встретится какая душа, то ты с ней обязательно поздороваешься, хотя и не знаешь, как зовут этого человека, но лицо его знакомо с детства и живет он где-то на соседней улице. Как я ни ругала раньше свое захолустье за мелочность интересов, сплетни, застой, — вот это малолюдье, деревенскую патриархальность я всегда любила в своем городишке.
Еще я всегда гордилась нашей районной библиотекой. Даже наша институтская не может с ней тягаться. Когда-то купцы-благодетели подарили городу все эти старинные тома с золотыми обрезами. Городок наш был купеческим. А в сорок первом в нашу библиотеку попал снаряд, и часть фонда сгорела.
На втором этаже у нас огромный читальный зал. Там всегда темно, тихо и пустынно. Когда я приходила туда к вечеру, под пальмой сидел один-единственный чтец, маленький старичок. Похоже, он проводил в этом зале и дни, и вечера, потому что ему деваться было некуда: дома теснота и раздражение, детям он давно мешал. Старичок мне радостно кивал и улыбался, я ему тоже. Постоянных посетителей было человек семь, и мы все друг друга знали. Потом подходил молодой рабочий-поэт, член городского литобъединения, учительница литературы из моей школы, инженер с завода и трое старшеклассников, готовящихся в этом году покорить вузы страны.
В этом зале гулко отдавалось каждое слово, сказанное вполголоса. Иногда мы переговаривались и шутили, и библиотекарша за конторкой поднимала голову и принимала участие в беседах. Однажды от жары ожила среди зимы какая-то сонная муха и так громко билась и жужжала, что мешала нам сосредоточиться. Старичок и поэт долго ловили муху и при этом чуть не выдавили стекло. Мы так хохотали, что снизу, из фондов, прибежали спросить, в чем дело. Почему я все это так хорошо помню, не знаю. И где сейчас старичок и поэт, больше никогда их не встречала.
По ночам на нашей улице плясали на снегу желтые пятна от фонарей, ветер вздымал и гонял под ногами легкую поземку, «у-у-у» — выло где-то в подворотне. Окна так тихо, уютно светились, что хотелось заглянуть, как там живут, в этом мирном, безмятежном тепле. Как всегда прогуливались под этими окнами наши пенсионеры, для моциона. Улица у нас необычная, веселая, здесь даже колядуют на Рождество. Выворачивают шубы наизнанку и ходят под окнами, стучат: «Вставайте, лежебоки: Христос родился. Хозяин и хозяюшка, дайте пирога, а то корову за рога...» Когда к нам заколотили в окна, так что стекла задребезжали, я испугалась, а родители мои, рады-радешеньки такому развлечению, побежали открывать двери и угощать колядовщичков.
— Какие молодцы, какие молодцы! А мы забыли такой большой праздник, как беспамятные живем! — сокрушалась мать.
В рождественскую полночь колядовщики высыпали на улицу на санках кататься и нас, соседей, выгнали из домов. По морозцу далеко разносились в наших переулках и закоулках веселый говор и смех.
На святки наши пенсионерки обязательно гадают, переиначивая по своим стариковским обстоятельствам гадания: ежели выходит к замужеству — значит, к здоровью, ежели к девичеству — к нездоровью. Нынче нашей соседке выпало плохое гадание, а через месяц ее парализовало, отнялась рука. «Что б я еще когда гадала! Зареклась!» — жаловалась она нам с матерью.
Когда я приходила домой, снова топилась печка, а родители перекусывали перед сном. На столе тесно от тарелок. Сколько раз я говорила им, что пора отказаться от тяжелой, мясной пищи, сала, без которого они жить не могут, не есть на ночь.
— Где ж тебе понять! — говорил мне на это отец. — Мы так наголодались смолоду, дай ты хоть сейчас нам поесть досыта.
Ну конечно, так и знала: ребенок сидит на коленях у отца и уплетает капусту из борща. Обычно родители успевали припрятать блюдце, чтобы не было лишних разговоров, но нынче не успели.
— Что же вы делаете? — уже от порога сокрушалась я. — Ребенку шесть месяцев всего. Завтра заболит у него живот, куда я побегу?
— Тебя бы покормить одним молоком, как бы ты заговорила? — бурчал отец, продолжая совать младенцу капусту. — У нас в деревне давали смалу и капустки, и картошечки...
— У вас в деревне чего только не давали, — передразнивала я в тон ему, — поэтому из дюжины ребят выживало двое-трое. Знаешь такую статистику по своей деревне?
— Ты больно городская у нас стала, грамотная! — обижались родичи за свою милую сердцу деревню.
— Вот увидел бы его папаша это безобразие, — пугала я их зятем.
— Ой! Нехай бог милует! — вскрикивала и смешно крестилась со страху мать, а отец, наклонившись, говорил ласково младенцу:
— А он и не увидит, и нечего ему глядеть, что мы тут едим...
Ой, невозможные, отсталые люди мои родители. Бороться с ними поздно и бесполезно. Если был при этих разговорах дед, он — на моей стороне, потому что он всегда за науку. А тетушка Варя — за деревенскую простоту. Купали мы младенца, всей гурьбой теснясь на кухне. Всем хотелось если не участвовать, то хоть поглядеть. Тетя Варя держала его на ладонях, мать лила воду, приговаривая: «С гуся вода». Родичи мои шагу ступить не могут, не вспомнив старые времена и не сравнив их с настоящими:
— Это ж надо: сейчас каждый день дитёнка моют, в чистое оденут. Раньше и понятия не имели, снесут в субботу в баню, а то и не снесут, так побудет.
Но вот дитёнок вымыт, одет и завернут, и мать несла показать его нам во всем параде:
— Поглядите на нас. Вот, дождись-ка с него человека!
И правда, трудно было поверить, что он когда-нибудь пойдет, заговорит, а потом превратится в настоящего человека.
В десять все расходятся по домам и укладываются спать. Мать, зашторивая окна, вглядывалась в темную улицу и ворчала:
— Опять мы припозднились, одиннадцатый час! Вон соседи уже все потухли. И ты бы ложилась. Не сиди ты, как сова с книжкой, не порти себе глаза.
Скоро конец августа, и отпуску моему тоже конец. Я сижу босая на нижней ступеньке крыльца. Сколько сижу, трудно сказать, наверное, больше часа. Таков ритм здешней жизни: с раннего утра все на ногах, в лесу или в заботах по хозяйству, зато к вечеру тихо беседуют на скамейках у домов, а то и просто молчат. Посидеть и помолчать так хорошо летним вечером. Мать уже отправилась на посиделку к тете Варе и вернется только в сумерках.
А у меня, впрочем, есть дело. За спиной на плите шипит и фыркает сковородка с грибами, булькает ей в ответ кастрюля с молодой картошкой. Запахи их, смешиваясь, плывут на меня из двери и заглушают свежий яблоневый дух из сада. За этими запахами я должна приглядывать и приглядываю, время от времени поднимая крышки. И снова спешу на крыльцо. У меня увлекательнейшее занятие: я пытаюсь поймать тот миг, когда придет вечер, вот так, возьмет и явится в наш сад. Его еще нет, но он где-то близко, на подходе. Летом очень трудно захватить его приход: он долго собирается, идет не спеша и является всегда неожиданно. Но сейчас, ближе к осени, день и вечер, как две соседки, сойдясь у ворот и поболтав с четверть часа, расходятся. Я и вчера и позавчера их стерегла и устерегла: вдруг погрустнели и затихли наш сад и соседский; солнце, или то, что от него осталось — круглый, багровый шар, осело прямо на ветки яблонь, и с улицы стали слышнее голоса и стук мяча.
Да, вот до чего я здесь дожила: встречаю вечер, жарю грибы, а сегодня днем сидела на подоконнике и, закрыв глаза, слушала, как в монастыре звонили к обедне. Сегодня Спас, яблочный, а бывает еще медовый. Старушки, как по команде, потянулись с узелками в монастырь святить яблоки. Бабушка наша тоже ходила к обедне и никогда не ела яблок до Спаса.
Тук-тук-тук — это яблоки то и дело шмякаются в траву и на грядки или звонко ударяют сначала в крышу сарая и с грохотом катятся вниз. Август у нас всегда богатый, словно в воздухе разлиты его тучность, отягощенный избыток. Но нынче он все-таки переборщил и учинил на наш город настоящее яблочное нашествие. Мать подпирает поникшие ветви яблонь, кормит яблоками свиней, кроликов. Мы ведрами закапываем подгнившие падалицы, сетуя, что следующим летом нам яблочек не поесть: буйные урожаи часто сменяются передышками, как-то три года назад не было в нашем саду ни одного яблока. Нынче всего много и в огородах, и в лесу. «Это не к добру, — каркают наши уличные старухи. — Перед войной вот тоже, столько было грибов, столько грибов!»
— Типун вам на язык, — сердится мать.
Август меня замучил, август с моей матушкой на пару. Это ей хочется побольше заготовить, сварить впрок. На столе опять десяток перевернутых банок с грибами, компотом и вареньем-пятиминуткой. Почти каждый день мы ездим то за грибами, то за ягодами — «что будет», — говорит мать, и правда, всегда что-то бывает. Но как надоело чистить эти грибы, перебирать ведрами ягоды.
— Мам! Остановись! — умоляю я, сдирая коричневые пленки с ненавистных шляпок. — Куда столько? Банок уже нет, ставить некуда. Ведь это запас на три года.
— Ишь ты какая умная! Заморилась она уже, — отвечала мать. — Осенью хоть бы сгнило, а весною как бы было.
Против народной мудрости не попрешь, и я весь день работаю на весну, но зато вечером... Вот и дед уже прошествовал по тропинке от дома тети Вари, покружил вокруг грядок и сел под яблоней. У него тоже началось вечернее сидение. Когда я подхожу, он подвигается на край скамейки и первым делом спрашивает:
— Ну что, сколько банок сегодня закрыли?
— Двенадцать.
Дед одобрительно кивает, и мы некоторое время сидим молча.
— Вот скажи ты мне, ты все-таки много по свету ездишь, — вдруг задумчиво начинает дед. — Неужели есть еще настоящие деревни, где много народу и хозяйства держат?
Я даже руками всплеснула и посмеялась над бедным дедом. Ему кажется, если его деревня опустела, то и вообще нет больше деревень на белом свете. Я рассказываю ему, все больше увлекаясь, какие богатые колхозы я видела совсем рядом с нашими краями, на севере и в Подмосковье, как хорошо там люди живут. Я, правда, видела всякие колхозы, и по-всякому там люди жили, но о них я деду не рассказывала. Зачем?
— Даже не верится, — с грустью говорит дед. — А зачем это ты крыльцо разворотила?
— Не разворотила, а подняла три доски. И знаешь, чего я там под крыльцом нашла?
Я бегу за своими находками. Дед, откинув голову, всматривается в странный предмет, который я подношу ему, держа, как драгоценную вазу, кончиками пальцев. Разглядев, он коротко ойкает. Это ступа, та самая, в которой бабушка сбивала масло. Раньше она мне казалась большой, как бочка, а теперь убавилась до ведра. Дед был моей находкой очень доволен и даже потрогал ее рукой, но всё-таки сказал, посмеиваясь:
— У тебя прямо нюх какой-то собачий на всякое старье и барахло. Вон твоего сынка ведут.
И правда, мать ведет от калитки мое чадо, придерживая его за шиворот рукой.
— Вот твой сын, замачивай его.
В голове у ребенка песок, в карманах и сандалиях — песок, и даже когда снимаю с него рубашку, из нее сыплется. Соседи на мою голову привезли гору песка для стройки. Иду ставить ведро с водой, отмывать ребенка. Хорошо, что сегодня огород поливать не надо, вчера дождик прошел. И мне теперь осталось нарубить крапивы поросенку, дать яблок кроликам, помыть посуду — и я свободна.
Наконец полегло спать мое семейство, и остались на веранде только мы с котом. Я усаживаюсь за свои книжки и тетрадки. Ког взгромоздился было на стопку чистого белья, но тут же был изгнан и прикорнул на стуле. За три недели я все-таки что-то сделала: привела в порядок свои тетради, закончила описание похорон и двух свадеб, и теперь с чистой совестью могу взяться за роман и читать хоть до утра.
Еще вчера ночь была теплой, парной, и соседский огромный сад долго нежился и сумерничал, мягко постукивая яблоками. Но сегодня в один день вдруг похолодало — сад сразу помрачнел и быстро задремал. И кот дремлет, уютно уткнувшись носом в лапы. Как старичок, которому уже все равно, только бы оставили его в покое. Но вдруг встряхнулся, сел и пристально на меня засмотрелся, размышляя, что я за птица и стоит ли иметь со мной дело.
В последний раз мы выходим во двор и крадемся к сараю. Так свежо, что я кутаюсь в пуховый платок, тот самый, в который несколько лет назад заворачивала своего младенца. Темнота уже не пугает, к ней быстро, за минутку приглядываешься. Пугает меня соседский кот Барсик, обладатель грязно-серой шубейки, прогремел по крыше, как бегемот, и исчез за трубой. Пролетело еще одно ночное, менее шумное создание, похожее на крупную птицу. Когда я в первый раз увидела это чудище, сердце ухнуло в пятки и долго не возвращалось. Но днем мать успокоила: это летучие мыши поселились у нас на чердаке и летают вокруг дома. Вот наше с котом ночное общество, больше нет ни души. Жизнь на этом дворе замерла давно, и время остановилось: здесь все так, как было десять, двадцать лет назад. Посидев на порожке сарая полчаса, я начинаю верить, что родилась, проживу свой век и умру на этом дворе, а за его заборами и нет ничего...
Поглаживая ладонью ногу, все-таки влезла в крапиву, я пытаюсь в этой тишине обдумать, как же мне все-таки жить дальше, почему так не хочется возвращаться домой, на работу, словно в пустоту поеду. Что будет с мансардой без Суворина? Ой нет, что-то не думается. И кот не одобрил — самое постылое занятие.
— Чего тебе не хватает, так это терпения, — говорит он мне. — Спокойствия душевного и терпения.
— Терпения. Где ж его взять, если нету.
Кот вдруг скакнул на крышу, а оттуда через мою голову птицей перелетел на забор и засеменил по тонким, частым жердочкам. Я ахнула от зависти:
— Ну, котище, счастливое ты создание!
— Глупости, я не счастлив и не несчастлив, я выше этого, — на ходу бросал мне кот, весело перебирая лапами. — Что за эгоистическая потребность — счастья им, видите ли, подавай! А что это такое, сами не знают. Согласен, с некоторыми оговорками, что есть на свете любовь, дружба, всякие идеалы и добродетели и поныне существуют, как это ни удивительно, но счастья никакого нет, нечего себе голову морочить. Ну-ка объясни мне, что ты под этим понимаешь?
«Ну, поехал...» — подумала я. Зачем объяснять, зачем придираться к словам. Счастье или не счастье, но все к чему-то стремятся. Одни суетно жаждут телесного благополучия, другие — душевного комфорта, третьи сами не знают, чего хотят.
Кот добрался до столба, на котором с грехом пополам держалась жердочная сеть заборчика, и уселся на нем, захлестнув лапы хвостом.
— Какое там счастье, — все больше воодушевлялся он. — Если у тебя самой обыкновенной свободы нет: разве ты можешь жить где хочешь и как хочешь. Ты даже в мелких желаниях своих не вольна. Вот сейчас тебе очень хочется на крышу...
Ой как хочется! Ничего себе мелкое желание. Ты уже тем счастливее меня, кот, украдкой подумала я, что соотношение между нашими душами и бренными телами совсем не одинаково. Вон как небрежно сидишь ты на столбике, а захочешь, перемахнешь на крышу. А мне дед запретил туда залезать, крыша ветхая и обрушится под такой тяжестью.
А как хорошо было бы сейчас, стоя на ней, обозреть эти сады, усадьбы и хутора, где даже коров держат до сих пор. Когда мы приехали из деревни много лет назад, нам отрезали всего шесть соток от огромного сада. Наша усадебка — самая маленькая на улице, просто пятачок с пятью яблонями в саду, с этим глухим двориком. Как я люблю ее сейчас и как раньше ненавидела, мечтая поскорее вырваться из этой глуши.
Через неделю я уже в своей квартире на кухне. Высунувшись в окно, гляжу из поднебесья на детскую площадку, магазин и тысячи таких же, как мои, окон. Я заново приучаю себя к этой многолюдной пустыне, толчее на улицах, беготне на работе и дома. А главное — приучаю себя к терпению.
На кухне я живу и работаю. Пока кипят кастрюли на плите, перебираю свои бумажки и записи. По плану через две недели заканчиваю отчет, отдаю машинистке и тут же начинаю статью. День у меня тоже строго распланирован вплоть до числа страниц, которые к ночи должна написать. Вот так. Единственное спасение от тоскливых мыслей — жить строго по графику и никуда из него не выпадать.
Один раз только я позволила себе маленькую слабость — как-то вечером загрустила и размечталась вслух:
— Завести бы какого-нибудь зверя, хоть хомяка. Скучно в доме без животины.
— Ой, купи, купи, мам! — сразу загорелся сын, а муж только хмыкнул.
— Зачем разводить в доме мышей. И потом, побегает этот хомяк день-другой, а на третий, — говорит он сыну, — ты на него наступишь, раздастся хруст...
Глаза у ребенка становятся круглыми и желтыми, как пятаки, а я смотрю на мужа укоризненно. Он любит такие шутки.
— Нет уж, если заводить, то хорошую собаку. Пуделя. Завтра позвоню маман, она достанет. Хотите?
— Ой, хочу, хочу, папа.
— Ни за что, — говорю я. — Этого пуделя надо мыть, стричь, выводить на прогулки, покупать ему кости. Мне достаточно вас двоих, пуделя я уже не потяну.
На этом разговор и закончился. Но как-то, спустя два дня, захожу я к себе в подъезд и вижу... Сидит на батарее котенок, серый, пушистый, уже не маленький, а порядочный, как сказала бы мать. Сидит и спокойно, дружелюбно меня разглядывает, на бродячего совсем не похож, слишком чистый и гладкий. Что за кот, откуда взялся? Мимо кошек я не могу пройти спокойно: всегда разглядываю, глажу, а с умными и поговорю. Но тут совсем другое. Тут я только посмотрела на него я сказала себе: вот оно. Я потопталась у батареи — никого, заглянула в пустой почтовый ящик — никого. В глазах у котенка уже замелькали насмешливо-иронические искры. Я наконец решилась, сунула его в сумку и побежала к лифту.
Теперь руки у моего ребенка в кровавых царапинах, и даже на щеке шрам от глаза до подбородка. Кот ему спуску не дает и мучить себя не позволяет. Но, в общем-то, они дружат, с громким топотанием носятся по квартире, причем оба на четвереньках. Даже спят они вместе. Когда ночью, разметавшись, сынок роняет одеяло, вместо с одеялом мягко шлепается на пол и кот. На этот звук я встаю, поднимаю одеяло и кота. Он совсем не такой, как тот, дома. Тот — черно-белый, а этот дымчатый, с синими глазами и пока... не говорящий.
Вечером он сидит на столе, когда я работаю, и, жмурясь, нюхает настольную лампу, потом растягивается под ней и дремлет в тепле. Я вытаскиваю из-под него листы и хлопаю его веером по носу. Кот очень любит бумажное шуршание, прядет углами и зажмуривает глаза. Днем, когда муж читает на диване свои ученые книги, кот лежит у него на груди. Не знаю, украла я или не украла этого кота, скорее всего судьба его послала мне в утешение. Как-то уютней и теплее стало с ним в квартире. Открываешь дверь — он уже сидит у порога и ждет, каждому из нас рад и ласкается у ног.
О доме стараюсь не думать и не вспоминать, но думается и вспоминается, особенно по ночам. Как только голова касается подушки, я словно в сознание прихожу, а так живу без сознания, как во сне. До сих пор и думаю, и говорю: «Вот поеду домой... Как там дома?»
Мать, как всегда, на ночь протопила печку. Наверное, дровами, березовыми. Я всегда прошу топить березовыми, уж очень дух от них хороший — теплый, ароматный. А в этих бетонных стенах никаких запахов нет, и тепла тоже нету.
Перед сном мать долго сидит на кухне, кот у нее на коленях, и они разговаривают. Он дает ей советы по хозяйству. Конечно, очень толковые, он же во всем разбирается:
— Чего тебе беспокоиться за дрова, — говорит ей кот. — Вон у тебя под боком племянник-шофер. Иди завтра на склад, выпиши кубометров десять. Он тебе и привезет, и распилит, и поколет. Не пропадешь, не бойся, вон вокруг сколько родни!
Хорошо им там всем вместе, рядышком, семейным хуторком. А я здесь одна-одинешенька. В тоске от этих воспоминаний я и засыпаю потихоньку. И снятся мне то давно забытые люди из моего детства, то маленький старичок в синем берете, то какие-то переулки и закоулки, по которым я блуждаю и никак не могу выйти на свою улицу.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





