ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
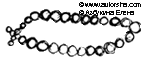


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Бодрова Анна 1985

Чужой дом
Вот и переехала Аринка ту заветную синюю каёмочку леса, на которую столько лет смотрела с крыши тёти Машиного сарая.
Но взору её пока ничего особенного не представилось. Дорога то ровная, то ухабистая шла в густом лесу, в таком же как и у них. От однообразия природы, от мерного покачивания телеги Аринка задремала, а потом и вовсе заснула. Лида с грустью смотрела на неё и жалела: как она оставит её одну в незнакомом городе у чужих людей, ведь она совсем ещё девочка. Эта мысль мучила её всю дорогу.
Но вот замаячили высокие трубы кирпичного завода, а там и город.
— Аринушка-а-а, просыпайся. Этак всё на свете проспишь, — негромко позвала Лида, обнимая её ласково.
Аринка встрепенулась и стала таращить глаза и осматриваться по сторонам. Первое, на что наткнулась взглядом, была белая ограда, за нею виднелась церковь с голубым куполом и позолоченными крестами.
— Что это? — полюбопытствовала она.
— Кладбище, — нехотя ответила Лида и подстегнула Забаву, чтоб побыстрее проехать столь грустное место. Аринка тоже отвернулась, стала смотреть направо. Большое двухэтажное здание заинтересовало её. Над дверями прочла вывеску: «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА». Нет, это тоже невесёлое место. Повернув голову, наткнулась взглядом на высоченную стену из кирпича с маленькими окошечками в решётку.
— А это что же такое? — От удивления Аринка вытянула шею.
— Это тюрьма! — буркнула Лида и опять подхлестнула лошадь.
— Ну да! А где же город? — оторопело спросила Аринка, думая, что Лида не туда поехала. Её лицо стало меркнуть. Она думала, что город её встретит чем-то необыкновенным, красивым, а тут, на тебе, кладбище, больница, тюрьма.
— Мы уже в городе, на главном проспекте, — ответила Лида, — видишь, какой он большой, длинный во весь город.
Аринка подумала, что этот проспект похож на большую деревню. Те же маленькие домики в три и четыре окошечка с кисейными занавесками, деревянные заборы, за ними зелень садов с розовыми яблоками. К центру города дома пошли более солидные, каменные и двухэтажные. Заборы возле них кирпичные с дубовыми воротами. Всё добротно, красиво. Лида пояснила Аринке:
— Это дома бывших купцов — торгашей, вишь, отгрохали какие хоромы!
Поехали налево, обогнув кирпичный дом-магазин. Сразу въехали на просторную площадь-базар. Везде беспорядочно наставлены ларьки, похожие на сарайчики, длинные деревянные столы, а за ними молочницы да торговки с яблоками. Проехав базар, Лида повернула лошадь налево. Проехав ещё один квартал, остановилась у маленького белёного домика в три окошка.
— Вот мы и приехали, Аринушка, — сказала она, спрыгнув с телеги, и тут же скрылась за калиткой. По-хозяйски открыла ворота, ввела Забаву во двор, поставила её возле сарая, рассупонив, сунула ей клевера под губу.
Аринка огляделась: дворик маленький, заросший хилой, пожелтевшей травой. Сарай из почерневших брёвен совсем покосился, а крыша его, покрытая зелёным мхом, надвинулась на самую дверь, как кепка, нахлобученная на глаза. «Скоро совсем развалится», — по-хозяйски подумала Аринка и перевела свой взгляд на крыльцо, ведущее в дом. Тотчас же распахнулась дверь, и по шатким ступеням его довольно проворно скатилась колобком женщина. Маленького роста и очень толстая. Аринка уставилась на неё, сроду не видела таких круглых. Женщина, раскинув полные руки, покатилась к телеге, преувеличенно обрадованным голосом заговорила:
— Гости дорогие! А я вас вчера ждала. Случилось ли что?
— Здравствуйте, тётя Паша, у нас всё хорошо, — сдержанно сказала Лида и нагнулась над телегой, развязывая верёвки. Аринка моментально смикитила, что Лида не любит тётю Пашу (собственно говоря, оно так и было).
Нужда заставила привезти Аринку именно к ней. В городе больше ни одной души родной. А тут, Симон твердил, всё-таки свой человек, не чужая. Хотя «своего» только и было то, что её муж, дядя Костя, — двоюродный брат Симона. Дядя Костя работал машинистом на железной дороге и редко бывал дома. Тётя Паша, увидев занятость Лиды, свои объятия обрушила на Аринку.
— Ах, так ведь это ж Аринка! Какая большущая стала, — елейным голоском, нараспев заговорила она и, облапив Аринку, так прижала к себе, что та чуть не задохнулась. Потом, отстранив Аринку от себя, засмеялась каким-то всхлипывающим смехом: — Да что же ты худущая какая? Как есть одни кости. Но ничего, я тебя приведу в тело, — и она опять завсхлипывала. Её маленькие глазки жадно уставились на бутыли с топлёным молоком, на горшки со сметаной, на мешочки, кули и кулёчки. Она угодливо засуетилась возле Лиды, помогая ей разгружать. Стащив всю снедь на кухню, расставив корзины на полу, а бутыли на столе, Лида с озабоченным видом, который у неё всё время не проходил, обратилась к тёте Паше:
— Ешьте и пейте, тётя Паша, на здоровье, вы ведь тут по карточкам продукты покупаете, но и Аринку понаблюдайте. Дома она совсем плохо ела, может быть, в людях аппетит разыграется? Так что куском не обижайте.
Тётя Паша замахала на Лиду руками:
— Что ты говоришь!? Чай, ведь я сама мать, не обижу, не сумлевайся в этом.
А глаза её тем временем зыркали по столу, прикидывая: на сколько ей всего этого хватит и когда будет следующий привоз? Лида, поймав её алчный взгляд, совсем расстроилась. «Ох, не туда я Аринку привезла, не туда», — подумала она и с жалостью посмотрела на сестру. А та, притулившись у порога на краешке табуретки, сразу как-то притихла и растерянно, украдкой оглядывала новое жилище. Просторная кухня была не очень светлой: куст бузины, росший у дома, закрывал единственное окно наполовину. Но кухня была чистой, полы отдраены до желтизны, а по ним настелены половики. Стол под новой, блестящей клеёнкой, печка, занимающая четверть кухни, побелена без единого пятнышка. Лежак на печи задёрнут пёстрой ситцевой занавесочкой. Всё это понравилось Аринке: значит, тётя Паша чистоплотная, это хорошо. Но больно уж некрасивая: лицо заплывшее, рот большой, бесформенный, губы, как присоски, когда говорит тётя Паша, они вытягиваются, словно нащупывают, к чему бы им приклеиться. Но Аринка всё же разглядела в ней одну красоту редкую — это её волосы. Русые, с золотистым отливом, густые и пышные. «Интересно, как в них гребень пролезает», — подумала Аринка. Скрученные тугим жгутом, они спиралью были уложены по всей голове, словно шапочка, а из-под неё на затылке и висках игривыми колечками разметались кудряшки. Наверно, мамка правду говорила, что нет некрасивых людей, всегда в них можно найти что-то красивое.
— А ещё, тётя Паша, — раздумчиво проговорила Лида, — проследи, чтоб Аринка занималась, уроки учила, ведь за тем и приехала сюда. В случае чего так и построжь, пожалуйста.
— Это уж само собой. Лытать от учёбы не дам.
В это время дверь на кухню отворилась и из комнаты выпорхнули две прехорошенькие девочки, большеглазые, кудрявые, как ягнята. Увидев незнакомых людей, остановились и с боязливым любопытством стали рассматривать Аринку и Лиду.
— Это мои дочурочки, — проговорила тётя Паша. — Старшая — Сашуленька, ей пять лет, а младшая — Дашуленька, ей три года с половиной. Хорошие девочки, умнички и послушные. Идите сюда, я вам пирожка дам, вот тётя Лида привезла. — И, усадив дочурочек за стол, она им отрезала по большому ломтю житного пирога с яблоками. — Я им и молочка налью, можно? — с елейной улыбкой она обратилась к Лиде и налила им по чашке молока.
— Я картошки привезла полмешка, куда её: в сарае высыпать или в сени принести? — сумрачно спросила Лида.
— А, картошки, это хорошо, что вы догадались. Картошка очень дорогая на рынке. Высыпь её в сарае, там ящик справа стоит, увидишь, — деловито распорядилась тётя Паша и опять занялась своими дочурочками. Когда девочки насытились, мать отрекомендовала им Аринку: — Вот эта девочка будет у нас жить. Зовут её Аринка. Вы будете с нею играть.
Аринка смотрела на девочек, они ей такими распотешными казались! Но как она с ними будет играть? В деревне детей было полным-полно: их носили на руках, возили в ящиках-колясках, они табунами носились по улице, но Аринка никогда на них не обращала внимания и никаких дел с ними не имела. Она предпочитала играть с детьми животных: телятами, жеребятами, ягнятами, котятами — с ними она могла целыми днями возиться.
Младшая Дашуленька смело подошла к Аринке и попросилась к ней на колени. Забравшись, тут же бесцеремонно сдёрнула платок с Аринки, стала напяливать на себя. Тётя Паша добродушно улыбалась:
— Ты, Ариночка, иди в чистую комнату, только сними ботиночки, мы там босиком ходим. И поиграй с девчушками. Видишь, как они рады такой подружке. — И, подталкивая в спину дочурочек, приговаривала: — Теперь вам есть с кем поиграть, мои котята.
В чистой комнате было светло и уютно. Пол застлан полностью половиками для тепла и для игр девочек. Обстановки почти никакой, лишь диван слева от двери, комод под кружевной скатертью и стол между двумя окнами. Из этой комнаты выходила дверь в другую комнату — спальню, Аринка увидела металлические шары на спинке железной кровати.
— Мы будем играть в лошадки, — сразу же скомандовала Сашуленька, — ты будешь лошадка. И бегай быстро, а мы у тебя на спине будем сидеть.
Аринка не возражала: в лошадки — это хорошо. Она вдохновенно вошла в роль лошади, ржала, поддавала задом и носилась на четвереньках, держа на своей спине «всадников», которые визжали и обмирали от восторга.
Когда Лида открыла дверь, Сашуленька с Дашуленькой спорили чуть не плача, кому ехать на лошадке-Аринке. Лида сказала шутливо:
— О как! Уже обратали? Быстро. — И, обращаясь только к Аринке, недовольно сказала: — Посмотри, на кого ты похожа, нам по городу сейчас идти. Вся взъерошенная, растрёпанная, иди приведи себя в порядок! — Села к окну на кухне всё с тем же озабоченным лицом.
— Може, чайку выпьете, с дороги-то надо бы. У меня вот и самоварчик поспел, — говорила тётя Паша, гремя посудой. Её маленькие пухлые руки необыкновенно проворно мелькали над столом. И вся она легко вертелась волчком, совершенно не чувствуя своей полноты.
После чая Лида повела Аринку в школу, надо было показать ей дорогу, да и самой в школе побывать, её класс найти.
Прошли базар и вышли на широкую улицу, мощённую булыжником.
Вековые липы, скособочась, стояли у домов, шатром укрывая их крыши. Улица как бы поднималась немного наверх. Вот они остановились у железной ограды, вошли в открытые ворота. Тенистые липы и тополя плотно обступили двухэтажное здание из красного кирпича.
— Вот это и есть рабоче-крестьянская средняя школа, Аринка. Тебе в ней учиться. Смотри учись хорошо. Стыдно в такой школе плохо учиться.
Аринка замедлила шаг.
— Ты чего это? — спросила Лида.
— Чего-то боязно, — ответила Аринка.
— Ну что ты? Привыкай, чего бояться?
Перед входом обе остановились. Лида отошла к стенду прочесть, в какой класс зачислена Аринка.
— Ты в пятом «б», Аринушка, запомнишь? В пятом «б»! Сейчас пойдём найдём его, чтоб тебе завтра не бегать и не искать.
— Ага, пятый «б», — тихо шептала Аринка и никак не могла переступить порог. Если бы школа умела говорить, то она, наверное, сказала бы вот что: «Всякий, кто впервые переступает этот порог, должен поклониться мне земным поклоном, ибо я — ХРАМ НАУКИ. Я открою вам путь в неведомое, вы познаете тайны природы, я научу вас мыслить». Аринка всё топталась на месте, не в силах перешагнуть порог.
— Да ну же, пошли быстрее, что ты? — подталкивала её Лида.
Аринка перевела дыхание и переступила наконец порог.
Школа их встретила длинным полутёмным коридором. Справа и слева двери, ведущие в классы. По коридору направо — чугунная лестница на второй этаж.
— Нам наверх, — сказала Лида.
Поднялись. И там коридор, и белые двери, как часовые, стоят в ряд. Над ними таблички, указывающие, какой класс.
— Вот он, пятый «б», — радостно возвестила Лида. — Иди сюда, Аринка! Видишь написано — пятый «б». Завтра ты прямо сюда и топай, поняла? Найдёшь?
— Лида, давай дверь откроем, посмотрим, какой он класс. — Аринке очень хотелось заглянуть туда.
— А чего ж, можно и открыть, ничего плохого в том нет, — покладисто ответила Лида и потянула на себя тяжёлую дверь. Она ворчливо заскрипела, словно недовольная, что её без времени побеспокоили. Заглянули внутрь. Аринку поразило то, что нет парт, а стоят столы, возле них скамейки со спинками. И столы эти покрыты чёрной краской, от этого и в классе мрачно. То ли дело у них в деревне — парты жёлтенькие, как подсолнухи в цвету, и от них в классе весело и светло. Аринка разочарованно посмотрела на Лиду. Та поняла огорчение Аринки, сказала, подбадривая:
— Ты постарайся занять место у окна, и будет светло, а потом, какая разница, какого цвета столы, не жить же тебе здесь.
Когда вышли из школы, ещё раз осмотрели её со всех сторон. Шестнадцать окон насчитала Аринка. Она, деревенская девчонка, будет учиться в такой большой школе! Лида, поняв её волнение, ещё раз напомнила:
— В такой школе, Аринушка, учиться плохо нельзя. Смотри не подкачай. Ты запомни: кто плохо учится, того не уважают, ни во что не ставят. И не любят. И дружить с тобой никто не захочет.
Вышли на улицу, прошли вдоль ограды и осмотрели школу кругом.
Аринка втиснула голову между прутьями и долго ещё смотрела на такую большую школу. Ей не верилось, что она будет в ней учиться.
— Идём, идём, Аринушка! — подгоняла её Лида. — Мне надо пораньше приехать домой, чтоб Забава отдохнула, завтра ей плуг таскать целый день. Надо картошку копать.
Всю дорогу молчали, каждый думал о своём. Лида — как оставит Аринку, а та — как останется одна, совсем одна.
Не успели войти в дом к тёте Паше, как её дочурочки с радостным визгом бросились к Аринке, требуя играть с ними.
— Лида, ты посмотри, как они полюбили Аринку, всё время только и твердили, скоро ли придёт няня Рина, — нараспев говорила тётя Паша, умилённо взирая на своих деток.
Лида озабоченно покусывала губу. Сейчас она ясно поняла, почему у неё так свербило на душе. Да, не туда она привезла Аринку, не туда, это ясно как день. И, сдерживая в себе неприязнь, сказала холодно:
— Я боюсь, тётя Паша, что твои дочурочки «залюбят» Аринку, «заиграют» её, что она и про учёбу забудет.
— Да что ты, Лидуня! Я насчёт этого строгая. Скажу, садись за уроки, и сядет как миленькая, а этих пигалиц враз утихомирю! Будь спокойна.
Лида насильно улыбнулась, желая ей верить. Положила на стол деньги:
— Это тебе за месяц вперёд, на Аринку. Так уж прошу, последи за ней.
— Боженька мой, зачем деньги, свои люди, вона всего навезла, хватит ей с лихвой, не надо деньги, не возьму, — тараторила она, лаская глазами лежащую на столе бумажку.
Лида отошла к умывальнику у порога, над которым висело небольшое зеркальце, поправила платок и волосы, а когда обернулась, денег на столе уже не было, их тётя Паша проворно запихивала под клеёнку. Это покоробило Лиду, ей стало неловко за тётю Пашу. Опять в её душе поднялось озлобленное чувство к ней.
Лида открыла дверь в комнату, там на полу котятами клубились девочки с Аринкой:
— Я уезжаю, Аринка, проводи меня, — сказала она.
Та проворно вскочила на ноги, одёрнула платье и пошла за Лидой. Маленькая Дашуленька уцепилась ей за подол и никак не хотела её отпускать.
— А ну брысь сейчас же! — цыкнула на неё мать, и та мигом юркнула в комнату.
Запрягая Забаву, Лида продолжала наставлять Аринку:
— В школу не опаздывай. Подруг выбирай с оглядкой. С городскими вертихвостками будь осторожна, от них хорошему ничему не научишься.
«Говорит, как мамка, и слова даже те», — про себя подумала Аринка, не совсем довольная этим сходством.
— Ну, девочка моя, давай прощаться, не провожай меня, не надо, — сказала Лида, и, крепко обняв Аринку, поцеловала. — Приеду через воскресенье. Раньше никак, поле стоит неубрано, сама понимаешь.
Аринка с покорным выражением кивала головой, но не слушала Лиду, мысль, что вот сейчас, сию минуту Лида уедет и она останется одна, в чужом городе, среди чужих людей, наполнила её такой грустью и отчаянием, что она готова была уже расплакаться и попроситься домой. Но её характер не позволял ей отступиться от того, к чему она сама так стремилась. Так рвалась изо всех сил поехать учиться в город и вдруг — раскисла? Испугалась? Обратного пути нет! Вотысё!
Подняв голову, она встретила скорбный взгляд Лиды, и они опять бросились в объятия друг другу.
— Ну, ну, Аринка, это не хорошо, — с мягкой укоризной говорила Лида. — Будь умница, моя девочка. — И, дёрнув вожжами, Лида выехала со двора.
Аринка смотрела ей вслед. Так и осталась она стоять в памяти Лиды с этим выражением. Лиды было уже не видно, а она всё стояла в воротах, пока тётя Паша не крикнула ей:
— Чего ворота нараспах держишь? Базар рядом, того гляди, кто забредёт.
— Я щас, закрою, — угодливо заторопилась Аринка и тут же задвинула ворота на крепкую задвижку.
— Проводила, а теперь иди домой, — уже мягче сказала тётя Паша.
— Ага, — покорно ответила Аринка и вошла в дом, потопталась у порога, не зная, куда себя деть, и тут её взгляд упал на стол. Под чистым полотенцем лежали мамкины пироги. Она не хотела есть, ей просто вздумалось посмотреть на них, но, откинув полотенце, соблазнилась отрезать кусочек, надо же было себя отвлечь чем-то.
— Ты что это? Никак покусовничать собираешься? — сказала тётя Паша, вдруг возникнув на пороге. Аринка смутилась, быстро отбросила полотенце.
— Нет, я просто так, — смущённо залепетала она.
— Вот будем обедать, и будешь есть, а покусовничать у меня не заведено, — назидательно пояснила хозяйка дома.
Аринка сняла ботинки и пошла в чистую комнату. Девочки были заняты игрой в кубики: строили дом. Села на диван и стала смотреть на их игру. За нею следом вошла тётя Паша. Губы её вытянулись, нащупывая, к чему присосаться.
— А ты не ёрзай по дивану-то, видишь, чистая простынка постелена, — выговорила она Аринке, — будь аккуратной, я чистоту люблю.
— Хорошо, тётя Паша, я на стул сяду.
«Вот он чужой дом, не знаешь, куда сесть, куда голову прислонить, мамка правду говорила, в чужом доме не своя воля, и не поешь, когда хочешь, а когда дадут», — с горечью подумалось ей.
На обед тётя Паша дала Аринке щей из свежей капусты с курятиной, которую привезла Лида. Аринка ела и давилась. Ну кто же курицу варит с капустой. Дома мамка с лапшой или с клецками готовила. Но что делать! Аринка помнила наказ: в людях ешь всё и похваливай. На второе положила пшённой каши и крылышко куриное, а девочкам налила по чашке молока. Не отрывая глаз от льющейся густой струи, тётя Паша заискивающе проговорила:
— Аринушка, я думаю, тебе молоко-то и дома надоело, я оставлю его дочурочкам. У нас такого не купишь на рынке.
— Оставьте, оставьте, тётя Паша, мне оно не в диву, — покладисто согласилась Аринка, хотя молоко топлёное любила.
После обеда тётя Паша попросила Аринку уложить девочек отдыхать, а сама быстро куда-то ушла. А когда пришла, Аринка заметила в ней какую-то неестественность и в её облике и в поведении. Вдруг мелькнула страшная догадка: тёта Паша пришла навеселе. Аринка не подала вида, что догадалась. Когда девочки проснулись, она их одела и убрала за ними кроватки. Тётя Паша осталась очень довольной и с девочками ушла гулять в городской сад, на берег озера. Аринка тоже было собралась идти, но тётя Паша велела сидеть дома. Впрочем, это было и лучше, надо привести себя в порядок к завтрашнему дню. Достать платье из чемодана, выгладить его, почистить ботиночки, собрать тетради, да и просто побыть в одиночестве, всё обдумать. Ведь завтрашний день — это начало новой жизни. Какой-то она будет для неё?!
На ужин тётя Паша дала Аринке чашку жидкого чая и кусочек пирога. Аринка спросила, где будет спать. Лиде было сказано, что Аринка может располагаться на диване, всё равно пустой стоит. Но хозяйка, как видно, передумала и предложила ей спать на печке в кухне.
— Не всё ли равно, где тебе спать? Там тепло, своим одеялом укроешься, что Лида привезла. Ну как? — спросила тётя Паша.
Аринке стало как-то не по себе. При Лиде тётя Паша говорила одно, а без неё всё по-другому получается, но и это она решила перенести спокойно.
— Мне всё едино, могу и на печке, — простодушно согласилась она.
Маленькие глазки тёти Паши хитрюще уставились на Аринку, ставя под сомнение искренность её слов:
— Правда? Ну и молодец. Ты не привередливая. Я люблю таких.
Лежак на печке был небольшим, Аринка долго ворочалась, приспосабливаясь к нему, ища удобную позу, но ноги всё равно вытянуть было некуда, пришлось свернуться калачиком. Пахло старой овчиной и чем-то кислым. Она отдёрнула занавеску, чтоб побольше было воздуха.
Тётя Паша похлопотала на кухне, просеменила туда-сюда, заперла все двери на крюки и ушла к себе, плотно прикрыв дверь в чистую комнату, дважды повернула ключ. Точно от Аринки заперлась. Ей стало тоскливо и страшно. Одна, совсем одна в этой кухне, свернувшись калачиком, никому не нужная, одинокая. Бьётся ветка бузины о стекло, и тени от неё пляшут, словно хотят развеселить погрустневшую Аринку.
Новая школа
На следующее утро тёте Паше Аринку не пришлось будить: она встала сама. Умылась холодной водой, вытерлась своим льняным полотенцем, гладко причесалась железной гребёнкой от уха до уха. Стала облачаться в своё новое платье, которое мамка специально сшила, коричневое, просторное и длинное до самых щиколоток. Стоячий воротник делал Аринкину цыплячью шею ещё тоньше и длиннее. Сколько было споров у Лиды и Вари с матерью: доказывали ей, убеждали, что никто не носит сейчас такие платья и фартуки не носят, что Аринка смешная и нескладная в этом наряде, но Елизавету Петровну было не разубедить. Она твердила своё: все гимназистки ходили в такой форме, так пусть её дочь хоть в этом будет похожа на прежних гимназисток.
Тётя Паша, взглянув мимоходом на Аринку, всплеснула руками:
— Так ведь тебя ребята засмеют. Кто ж в таких платьях сейчас ходит. Это ж епанча какая-то. Сейчас короткие платья носят, ну надумала Лизавета, дочкам старшим небось по журналу шьёт. А тебя, как огородное пугало, нарядила.
Аринка совсем пала духом, расстроилась, хоть в старом платьишке беги в школу.
— Мы говорили ей, — чуть не плача объясняла Аринка, — а она своё; говорит, не каждый год тебе платья шить, ты растёшь вон как. Она мне все платья на рост шьёт.
Действительно, как Аринке платье становилось в самый раз, оно было уже старым.
Натянув на себя поношенную жакеточку, закинув за плечи берестяной ранец, без напутствия, без доброго пожелания (тётя Паша занималась с девочками в это время) пошла Аринка одна в неизвестное, с сердцем неспокойным, полным тревоги и смятения. Что там её ожидало? Радостью или горем станет для неё эта новая школа?
Сo всех улиц и переулков, кто торопливо, кто вразвалку, шли ребята в школу. Некоторые были совсем взрослые, наверно, девятиклассники. Но никто из них не нёс ранец за плечами: все держали сумки и портфели в руках. Аринка скоренько сбросила ранец с плеч и понесла его в руках. Хоть этим будет похожа на всех остальных.
Оставив в раздевалке жакетку, Аринка со всех ног ринулась на второй этаж в свой класс, чтобы занять облюбованное вчера место у окна, она будет тихонько сидеть и наблюдать всех входящих. К своему огорчению она заметила, что все девочки в коротких платьях, большинство в клетчатых юбках и белых кофточках. Были и тёмные платья, но все короткие, приталенные, с белыми воротничками. Аринка совсем сникла, хоть из школы беги. Но делать нечего, наверное, надо и это перетерпеть. Она сидела притихшая, подавленная, когда стремительной походкой вошла учительница.
— Здравствуйте, ребята, — пронзительным голосом проговорила она и, взяв журнал со стола, прочла:
— Итак, пятый «в». Начнём по алфавиту.
Аринка всполошилась, забеспокоилась, как 5 «в», значит, она не туда попала, торопливо подняла руку.
— Что тебе? — недовольно спросила учительница.
— А я из пятого «б», — растерянно призналась Аринка, виновато тараща глаза.
— Так зачем ты пришла в чужой класс? Иди в пятый «б», он напротив.
Быстренько собравшись, она выскочила вон. Посмотрела на дверь, там висела табличка 5 «в». «Вот жуки, — подумала она, — поменяли. Вчера здесь было 5 «б». Жалко, главное, место хорошее пропало». Дверь в 5 «б» была приоткрыта, и Аринка бочком пролезла в узкую щель. Остановилась на пороге, не зная, куда сесть: все места заняты. Пожилая учительница, с приятным лицом, элегантно одетая, стояла за столом. Заметив Аринку, она приподняла очки и строго спросила:
— В чём дело, девочка, почему ты опаздываешь?
— Нет, я не опоздала, я пришла первая, только не в тот класс попала.
— Хорошо-хорошо, садись, — поспешила успокоить её учительница.
Аринка ещё раз окинула взглядом все столы, ни одного места не нашла свободным и, не двигаясь, пролепетала:
— Куда ж садиться-то, места-то все позаняты. Я постою. Ничего.
Стоя на виду у всего класса, в своём нелепом длиннополом платье при чёрном переднике, с дикой железной гребёнкой от уха до уха, она невыгодно отличалась от всех девочек своим видом и потому казалась смешной. Аринка понимала это и чувствовала себя страшно неловко, и эта неловкость делала её ещё более смешной и даже жалкой. Девчонки вокруг хихикали, а мальчишки гримасничали. Один даже фыркнул и громогласно провозгласил:
— Ну и фефёла! Откуда только такая взялась!
Кругом засмеялись. Аринка, вдребезги сконфуженная, была готова провалиться сквозь землю, стояла неподвижно, понуро опустив голову.
И, как спасение, в эту минуту подошла к ней учительница.
— Вон там, позади, сидит одна девочка, поди и сядь с нею, — сказала она голосом, в котором Аринка услышала сочувствие и тепло.
Вскинув на учительницу глаза, полные муки и благодарности, Аринка пошла к своему месту под обстрелом насмешливых и недобрых глаз. Аринка села, удручённо наклонив голову. Покосилась на соседку: огненно-рыжая, весноватая, с редкими, как у поросёнка, ресничками. Две тонюсенькие косички тряпочками висели вдоль хилой шеи. Придвинувшись поближе, Аринка спросила:
— Как звать-то?
— Нюрка, — не глядя на соседку, ответила рыжая.
«Раз Нюрка, — значит, деревенская», — уже точно определила Аринка.
— Итак, будем знакомиться, — начала говорить учительница. — Меня зовут Александра Николаевна. Фамилия моя Нефёдова. — Голос у неё был плавный, неторопливый. — Я ваша воспитательница. Преподавать буду математику: алгебру, геометрию.
Класс затих, незнакомое название предметов всех насторожило, заинтересовало. «Вона чего», — восторженно подумала Аринка и, загораясь любопытством, подалась вперёд, боясь пропустить хоть одно слово. Александра Николаевна ей нравилась всё больше и больше своей осанкой, безукоризненной одеждой, красивой причёской, а главное, манерой держать себя. И глаза у неё были добрые, но очень внимательные, даже пронзительные, казалось, они заглядывали в самую душу. «Такой учительнице, наверное, нельзя соврать», — думала Аринка. И тут же решила: «Из кожи буду лезть, а по её предмету учиться стану только на очхор».
— А сейчас мы будем с вами знакомиться, — сказала Александра Николаевна, раскрывая журнал. — Я буду называть фамилию, а вы будете говорить ваше имя полностью и род занятий ваших родителей.
— Андреева Л.
— Людмила, — ответила белокурая девочка с длинной косой цвета спелой пшеницы. — Отца нет, а мать учительница в начальной школе.
— Хорошо, садись. Служащая, — записала Александра Николаевна.
— Антонов Б.
— Борис, отец рабочий на кожзаводе.
— Рабочий. Следующий, Буданов И.
— Илья, — быстро подхватил мальчик с очень оттопыренными ушами. — Мой отец — главный бухгалтер на кожзаводе.
— Служащий. Следующий, Бойцова А.
Аринка, услышав свою фамилию, быстро вскочила, захлопала глазами:
— Я — Аринка, то есть нет, Арина, из деревни Зеленино, я — дочь крестьянская. — Она хотела что-то ещё сказать, но осеклась, услышав сзади себя хихиканье и шёпот: «Могла бы и не говорить, и так видно, что деревенщина».
Учительница на какое-то мгновение задержала свой заинтересованный взгляд на Аринке и с едва заметной улыбкой сказала:
— Это хорошо, что ты — дочь крестьянская, и имя тебе вполне подходит.
От слов таких у Аринки словно крылья выросли, ей показалось, что раз она крестьянская дочь и зовут её Аринкой, она получила какое-то преимущество перед этими хихикалками.
— Воронов З., — продолжала вызывать учеников Александра Николаевна.
За последним столом нехотя поднялся мальчик, отчуждённый, угрюмый. Он был высокого роста и казался старше всех.
— Захар. Родителей нет. Я детдомовец, — сурово сказал он и сразу сел.
Александра Николаевна что-то записала, но вслух ничего не сказала. Аринке мальчик не понравился, злющий какой-то. Ей не терпелось узнать фамилию того мальчишки, который её прозвал фефёлой. Вот наконец очередь дошла и до него.
— Губанов Н.
— Назар, мой отец работает в горисполкоме, — вызывающе громко произнёс он.
— Служащий, — спокойно, не реагируя на тон, проговорила Александра Николаевна и записала.
Недовольный, Губанов опустился на скамейку, сердито ворча себе под нос.
Аринка пристально оглядела его: низкий лоб, маленькие злые глаза, короткий широкий нос, безобразно большой рот, отвисшая нижняя губа. «Ну и уродина, а ещё обзывается, ну подожди», — зло подумала про него Аринка.
Список уже подходил к концу, его слушала Аринка вполуха, как взгляд её зацепился за девочку, сидящую за первым столом у двери. Очень смуглая, чёрные, вьющиеся волосы сзади схвачены заколкой, лицо такое красивое, а глаза влажные, смоляные. «Ну и красотища», — в изумлении подумала Аринка, вперив в неё восхищённый взгляд.
— Шатерник В.
— Виктория, — тихо и просто проговорила девочка, — мой отец главный инженер кожевенного завода.
— Служащий, — записала Александра Николаевна.
— Да, да, служащий, — охотно согласилась Шатерник.
Аринка очарованно смотрела на неё, не в силах оторвать глаз. Где-то в глубине души шевельнулось: «Вот бы подругу такую!»
После знакомства с классом учительница захотела выяснить, каковы знания её учеников, и задала задачку на три действия. Первой решила Андреева, второй — Шатерник, а третьим — Губанов. Бойцову это задело, руганула себя как следует: «И чего рассусоливала, ведь знала, как решать, могла бы первой подать листок».
Прозвенел звонок, соседка Нюрка первой стремглав вылетела из класса. Аринка с досадой посмотрела ей вслед, хотела с нею поближе познакомиться. Дежурные открыли окна и всех погнали из класса. Все разбежались кто куда: мальчишки — в спортивный зал, девчонки группировались стайками, некоторые чинно прохаживались по коридору. К Аринке никто не подходил, никто с нею не заговаривал, все смотрели на неё удивлённо, с насмешкой: откуда, мол, такая взялась. Она искала глазами Шатерник: может быть, удастся познакомиться? Вот она увидела её, наконец. Взявшись за руки, они с Андреевой неторопливо прохаживались по коридору и о чём-то горячо говорили.
Поборов в себе чрезвычайное смущение, Аринка решилась наконец подойти. Она догнала девочек, несмело пристроилась сбочка и пошла рядом с Шатерник, преисполненная великого счастья. Она мучительно думала, что бы такое сказать необыкновенное, чем бы можно было заинтересовать их. Но вот Шатерник остановилась и, обратившись к Аринке, мягко спросила её:
— Тебе что, девочка?
Аринка сконфуженно заморгала короткими ресничками, невнятно пробормотала:
— Я, ничего, вот иду, хотела...
Что именно хотела Бойцова, Шатерник совершенно не интересовало, она, не дослушав, немного отступила назад и, как бы пропуская её вперёд, вежливо сказала:
— Тогда проходи, пожалуйста.
Аринку словно плетью огрели, она рванулась вперёд и пошла быстро, путаясь в своём длинном платье. Остановилась у окна в конце коридора. «Отогнали, как паршивую овцу от стада», — с горькой обидой подумала она. Нет, никто её не полюбит здесь, никто не захочет с нею дружить, и виной всему она считала свою некрасивую внешность и это нелепое коричневое платье с чёрным передником. Ох, уж эта мамка!
Прозвенел звонок. Поникшая, с тяжестью на душе, она нехотя вошла в класс, села за стол. Резануло по сердцу, что Андреева сидела уже за одним столом с Шатерник. И многие девочки поменялись местами и сдружились. Аринка в сердцах набросилась на Нюрку:
— Куда ты удрала на всю перемену? Я нигде тебя не видела.
— А у меня подружка в шестом «в» учится. Мы с нею с первого класса водимся. Мы с одной деревни, понимаешь?
Даже эта рыжая замухрышка имеет подругу, а она, Аринка, одинока, как лист, сброшенный с дерева и унесённый ветром бог знает куда.
Житьё у тёти Паши
Невесело Аринка шла домой, печальные думы обступили её. Не таким она себе представляла первый день в новой школе. «И зачем я присунулась к ним? Чего прилепилась? Они городские, больно я им нужна», — с неостывшей обидой раздумывала она. Но гордость, которая была в её характере, унаследованная от матери, не дала Аринке пасть духом. Она сказала себе: «Ну и пусть! Там посмотрим, кто кому будет нужен».
Когда Аринка вошла во двор, тётя Паша развешивала бельё на верёвках, спохватившись, притворно запричитала:
— Ой, а я ещё и обеда не сварила, видишь, с бельём провозилась. Ты, Ариночка, поди погуляй в сад с дочурочками, они у меня сегодня целый день заброшены, а я быстренько обедик сварганю!
Аринка переоделась, на столе увидела крошки от капустного пирога, собрала их в ладошку и съела. Разыгрался аппетит, отрезала кусок хлеба от своей домашней буханки, посыпала солью и, запивая водой, перекусила. В жизни ещё такого не было, чтобы она пришла из школы и не села за стол к горячей чашке супа или щей.
Да, здесь не то что дома...
Собрав девочек, ушла с ними в сад. Загляделась на громадное озеро, которое, как опрокинутое зеркало, застыло в оловянной неподвижности. Никогда в жизни Аринка не видела такого обилия воды. Но рождённая среди лесов и полей, она не слишком была очарована им, что-то холодное исходило от него. Ничуть не хочется с ним подружиться. То ли дело лес! Там сама жизнь, уют и тепло!
Побегав с девочками по саду, с удовольствием разделив их игры, не заметила, как отступили школьные невзгоды. Она была ещё в том возрасте, когда понятны и доступны детские игры и забавы.
После обеда тётя Паша страшно куда-то заторопилась.
— Ты, Аринушка, вымой посуду, посмотри за девочками, а я сейчас, соседка больна, так надо ей кое-что сделать, помочь, я сейчас, — скороговоркой проговорила она и тотчас скрылась за дверью.
Аринке надо было делать уроки, но только она разложила тетради и книжки на столе, как Сашуленька и Дашуленька набросились на них.
— Покажи. Дай мне карандаш. Я хочу эту книжку, — наперебой канючили они, хватая всё со стола. Растерявшись, Аринка не знала, что делать, наконец впихнула их в чистую комнату и заперла, дав им игрушки. Но они подняли такой рёв, что Аринка, перепугавшись, что услышит их мать, тотчас выпустила из комнаты. Делать было нечего, уроки отложились, пришлось развлекать девочек.
Уже стало смеркаться, когда пришла тётя Паша. На этот раз не было никакого сомнения в том, что она была крепко «навеселе». Аринка с укором и обидой посмотрела на неё.
— Не смотри на меня так, не смотри! — с какой-то враждебностью сказала она, но тут же улыбнулась хмельной улыбкой: — Ну, как вы тут без меня? Понимаешь, у тёти Фроси день рождения...
— Вы же пошли к больной тётеньке, — с обидой в голосе сказала Аринка.
— Пошла к больной, а попала к здоровой. Меня перехватили. Ха-ха... Как вы, гуси лапчатые, вели себя? — обратилась она к дочуркам.
— Мне надо уроки делать, а они не дают, книжки хватают, тетради рвут, — чуть не плача пожаловалась Аринка, — мешают мне.
Тётя Паша тупо посмотрела на Аринку, потом рассеянный взгляд перевела на девочек и, словно что-то вспомнив, цыкнула на них:
— А ну, тараканы запечные, марш спать.
Девочки нехотя поплелись в спальню. Тётя Паша встала, резко качнулась, но тут же ухватилась за стол. Блуждающим взглядом осмотрелась кругом и, по-утиному переваливаясь с боку на бок, направилась вслед за дочурочками, в дверях недовольно пробубнила:
— Помешали ей, видите ли, мои дочурочки. Ну и сиди, а мы уходим. Мешать вам не будем.
Аринке надо было писать сочинение на тему «Как я провела лето». Она долго грызла карандаш, и перед её глазами день за днём оно проходило. Да разве она проводила его, она в поте лица своего трудилась с утра до вечера. Не было времени вздохнуть и оглянуться кругом, но вот сейчас, оборачиваясь назад, вспоминая это лето, Аринка поняла, что в труде есть своя прелесть и труд может доставить человеку большое удовольствие. Карандаш плясал по бумаге, слова ложились выпукло и стройно в её рассказе. И одна за другой картины всплывали перед её глазами: тут и прохладная речка, манящая в жаркий день, вокруг неё скошенные луга с пьянящим ароматом увядающих цветов; тут и раннее утро с озябшими от студёной росы ногами; и свистящий ветер в ушах от быстрого бега Забавы по просёлочным дорогам, вдоль полей и лугов. Заканчивая своё сочинение, Аринка так и написала: «Я хорошо поработала в это лето».
Учительница русского языка и литературы поставила Аринке за её сочинение «очхор» и прочла всему классу.
— Она очень хорошо чувствует природу, — сказала Елена Владимировна.
И хотя друзей у Аринки в школе не было (она по-прежнему все перемены выстаивала у окна в конце коридора), учиться ей нравилось, каждый день приносил ей что-то новое, интересное.
Обстановка в доме тёти Паши становилась всё хуже и хуже. Привезённую из деревни еду быстренько подобрали, и теперь тётя Паша кормила Аринку пустой картофельной похлёбкой. На ужин картошку жарила, а по утрам вообще ничем не кормила. Она не любила рано вставать. Аринка сама брала кусок хлеба, посыпала солью и запивала холодной водой. Самовар ей некогда было ставить.
Почти каждый день тётя Паша уходила к «больным» подружкам, оставляя девочек на Аринку, а возвращалась поздно вечером. Уроки приходилось делать далеко за полночь.
Однажды, это было в конце недели, Аринка сидела на кухне, склонившись над тетрадями. Дверь резко распахнулась. И тётя Паша в ночной рубашке предстала перед Аринкой:
— Ты всё ещё сидишь? Лидка мне заплатила за жильё и за харчи, а за ликтричество не платила, а лампочка горит и горит — потом за неё денюжку надо платить. — Повернув выключатель, сердито добавила: — Чтоб по ночам не жечь лампочки. — И ушла.
Аринка в темноте собрала книжки и тетрадки, в темноте забралась на печку. Страшная тоска и обида сжала сердце. Что же теперь делать? И пойти не к кому в чужом городе, хотя бы на время, сделать уроки, и в школе негде притулиться, не успеешь выйти, как тут же вторая смена заполняет все классы. Сколько раз уже Аринка порывалась уйти домой, но постоит на развилке дорог и, тяжко вздохнув, пойдёт обратно. Одиночество давило её сильней и сильней. В школе она держалась особняком, ни к кому не подходила, ничьей дружбы не просила. Все перемены стояла, пригорюнившись, у окна.
Аринка решила держаться до приезда Лиды, а там будет видно. Главное, не показать вида, что она пала духом. Она помнила наказ отца: «Как бы ни было худо, дочка, держись до последнего, брыкайся, но не падай духом, уныние плохой помощник».
Сосредоточенная и серьёзная, с нахмуренным лицом, она шла твёрдой походкой в класс, ни на кого не глядя, словно вокруг была пустота. С деловой озабоченностью готовилась к уроку. Но дела с учёбой шли совсем плохо. Домашние задания делать не успевала. Тётя Паша, как только Аринка входила в дом, спешила тут же улизнуть. А когда возвращалась, то гасила свет. Аринка вставала на рассвете и делала уроки на подоконнике. Всё время не досыпала: боясь пропустить рассвет, спала беспокойно. Плохое питание изнуряло её. Она ждала воскресенья. Будет заниматься целый день и все хвосты подберёт. Но в воскресенье пришли гости к тёте Паше, и она заставила Аринку помогать ей: ставить самовар, чистить картошку, накрывать на стол, а потом отправила её с девочками в сад.
Аринка где-то разыскала огарочек свечи.
Когда в доме всё утихомирилось, стала готовить уроки при жалком его освещении.
Вторая неделя началась совсем плохо, два «неуда» получила Аринка, по физике и химии. Отчаянию её не было границ, она совсем померкла лицом, и лишь глаза ещё больше голубели в обрамлении тёмных кругов. Растерянность и безысходность охватили её; Аринка чувствовала, что погибает, и не видела ни просвета, ни помощи.
В конце второй недели тётя Паша пришла от подружек совсем невменяемая. Она шла по двору с растрёпанной косой, доходившей ей до колен, и заунывно пела: «Хороша я хороша, да плохо одета...» Аринка помогла войти ей в дом. Тётя Паша, не удержавшись на ногах, тут же у порога завалилась, как огромная свиная туша.
— Аринушка, девочка моя, я умираю. Сердце у меня, дай капли...
Аринка крутилась возле неё почти всю ночь. Только под утро уснула гулёна, так и не дав Аринке сесть за уроки. Идти в школу не было смысла, это значит ещё схватить «неуд», а может быть, и два. Тем более что Аринка решила: в воскресенье приедет Лида и увезет её домой. Свернувшись калачиком, она лежала на печке и слушала, как заунывно стонет ветер за окном да бузина стучит по стеклу, как бы спрашивая: ну, как ты там? Аринка проснулась в одиннадцать утра. Тётя Паша ещё не выходила на кухню. Это было ещё и лучше, не хотелось ей видеть эту женщину, она, она во всём виновата, что Аринка увязла в «неудах», что её страданиям нет конца. Наконец, пыхтя и кряхтя, выползла тётя Паша на кухню. Увидев Аринку на печи, в испуганном удивлении уставилась на нее.
— Боженька мой, ты никак занемогла? — всполошившись, спросила она.
— Не знаю, — нехотя ответила Аринка.
— Тогда чего ж в школу не пошла?
— Не хочу! — со злой отчаянностью выкрикнула Аринка. — Не хочу, вотысё.
— О-о как! Отучилась, выходит, нечего сказать. Лентяйка!
Аринка задохнулась от обиды и негодования. Колючий комок сжал горло.
— Не лентяйка я, не лентяйка! — с надрывной дерзостью сквозь слёзы проговорила она. И, наглухо укутавшись одеялом, решила не вставать с печки до Лидиного приезда. И как тётя Паша ни звала её к столу, Аринка не отвечала. Временами она чувствовала такую слабость, наверное, от голода, что ей казалось, будто она умирает. «Только бы дожить до завтра, только бы дожить», — твердила она как молитву.
Когда Аринка и ужинать отказалась, тут тётя Паша совсем растерялась, зная, что завтра должна Лида приехать.
— Може, чаю с малиной попьёшь? — предложила она. — Али ещё чего?
— Ничего мне не надо, — уныло ответила Аринка.
Тётя Паша стояла обескураженная среди кухни, не зная, что делать.
Впервые за всё время пребывания у неё Аринки она вдруг почувствовала какую-то ответственность за неё.
— Я к тебе как к человеку, забочусь о тебе, а ты... — с театральной напыщенностью проговорила она. Но Аринка молчала, ещё глубже зарываясь под одеяло. Потоптавшись на месте, она вместе с притихшими девочками ушла к себе в спальню.
Аринка ночь провела беспокойно. Было жарко, в ушах шумело, а голова словно свинцом налита. Она несколько раз слезала и пила холодную воду, судорожными большими глотками. Становилось легче.
Рано утром, когда ещё тётя Паша с девочками спала, приехала Лида. Даже сквозь дрёму Аринка всем своим существом почувствовала, что приехала Лида. Обмирая от радости, смешанной с тревогой, слезла с печи, натянула старенькое платьишко и, чувствуя сильное головокружение, пошатываясь, вышла на крыльцо. Лида была уже во дворе (она знала секрет открывания щеколды) и собиралась крикнуть: «Аринушка, моя горожаночка!» — но что это? Её Аринка не вылетела вихрем, как обычно, не повисла у неё на шее со звонким смехом. Аринка ли это тихой тенью приближалась к Лиде? Лида, полная недоумения и тревоги, смотрела на девочку, узнавала и не узнавала её. Аринка не то что похудела, худеть там было уже некуда, она усохла. Тонюсенькие руки, безжизненно повисшие вдоль тела, поникшие плечи с выпирающими костями-ключицами, а ноги — о, господи — это же не ноги, а две спицы. Как только они держат тело, хотя и худое. И только глаза, ставшие ещё больше, голубели по-прежнему.
Лида, всё ещё ничего не понимая, но чувствуя, что с Аринкой что-то стряслось серьёзное, не помня себя, рванулась к ней навстречу, прижала к себе её худущее тело, торопливо гладила и ощупывала его, будто не могла поверить в то, что это всё-таки Аринка.
— Аринушка, девочка моя, хорошая моя, ты здорова? Скажи, что с тобой?
— Ничего, я здорова, — истаявшим голосом ответила Аринка.
— Тогда говори, что случилось, почему ты так похудела? Али забот много, али учиться тяжело, а может быть, голодаешь? Говори всё начистоту, — уже придя в себя, проникновенно спрашивала Лида.
Аринка в беспомощном оцепенении стояла перед нею, не находя в себе силы сказать то, что раньше ей казалось таким простым: «Лидушка, возьми меня домой. Я не могу здесь жить. И я учусь плохо».
Лида с серьёзной озабоченностью смотрела на сестру и ждала. Она стала догадываться, что с нею произошло.
— Тебе плохо здесь, Аринушка, тебя обижают или в школе не ладится?
Эти душевные слова были как укол в назревший нарыв. Аринка уткнулась головой в Лидину грудь и заревела навзрыд. Слёзы, так долго сдерживаемые, хлынули в три ручья. Судорожно вздрагивая, она говорила, захлёбываясь слезами:
— Лидушка, возьми меня домой. Я не могу здесь больше. Она плохая женщина, я устала от её детей. И в школе я учусь плохо, у меня сплошные «неуды», меня скоро исключат за плохую учёбу. Я хочу домой! Я хочу домой! — уже в каком-то нервном исступлении кричала Аринка, истерично повторяя одно и то же: — Ты не думай, Лидушка, что я буду объедалой, я буду работать, делать всё, что скажете: и прясть, и мамке за скотом ухаживать буду помогать, а летом и жать и косить, я не буду объедалой, Лидушка, возьми только.
— О, господи, что она говорит, что говорит! Ну какая же ты объедала, когда ты ещё ребёнок в своей семье, глупенькая ты моя.
И Лида, уже сама чуть не плача, успокаивала её, гладила, целовала и всё приговаривала:
— Успокойся, мы всё решим, всё обсудим.
Эти слова не обнадёживали Аринку, и она опять твердила своё:
— Я хочу домой, я хочу домой!
— Хорошо-хорошо, поедем домой, только успокойся, — сговорчиво сказала она. Аринка вскинула на неё заплаканные глаза и, веря и не веря её решению, тихо спросила: — Это правда, Лида, поедем, да?
— Поедем, поедем, только расскажи мне всё по порядку и успокойся сама. — Аринка, блуждающим взглядом окинув этот дом и это крыльцо, начала со вчерашнего дня, а закончила своим нелепым платьем. Сердце Лиды наполнилось состраданием и жалостью: «Эк, ведь что девочке пришлось пережить, ну, тять, задам я тебе перцу с твоей роднёй».
Покусывая губы, Лида о чём-то сосредоточенно думала, что-то решала, потом вдруг схватила с телеги корзины с торчащими из них горлышками бутылей и кинулась к дому. Аринка полными ужаса и муки глазами смотрела ей вслед и вдруг, побледнев, как полотно, надрывно закричала:
— Не надо! Не надо! — И упала на телегу, горько заливаясь слезами.
Лида остановилась на крыльце, поставила корзины, собравшись с мыслями, что-то наконец сообразив, подхватила корзины, побежала обратно.
— Иди забирай свои шмотки, поехали, — скомандовала она Аринке. Вид у неё был грозный и решительный, и хорошо, что в эту минуту не попалась на глаза ей тётя Паша, — она ещё всё прохлаждалась в постели.
Аринка, словно очнувшись от кошмарного сна, ещё не веря словам сестры, какое-то время топталась на месте.
— Иди, говорю! Чего шишкаешься, забирай шмотки, — строго прикрикнула Лида.
Аринка, не помня себя от радости, мигом очутилась в доме. Сгребла в кучу немудрёные пожитки, запихала в свой фанерный чемоданчик книги, тетради в ранец и выскочила на улицу с чувством, что она всё это украла, вынесла чужое из чужого дома. Её охватил озноб, у неё стучали зубы:
— Ты чего это? — заметив её состояние, спросила Лида.
— Не знаю, чего-то страшно. Боюсь, тётя Паша заругается.
— Э, милая моя, была тётя Паша, да сплыла. Нет теперь её.
Выехали из ворот, заперев калитку на «хитрую» задвижку, и, когда загромыхала телега мимо тёти Пашиного дома, в окне спальни мелькнуло её одутловатое, заспанное лицо.
Отъехав от дома, Аринка, всё ещё не веря своему счастью, преданно заглядывая Лиде в глаза, спрашивала, затаив дыхание:
— Правда, Лидушка, что едем домой? Не обманываешь? А?
Лида, ещё не придя в себя, насупившись, молчала. А когда Лида повернула лошадь в другую сторону от дороги, ведущей к дому, Аринка всё поняла.
— Ты обманываешь меня, мы не едем домой, — проговорила она разочарованно, жалким голосом и умолкла, как-то сразу поникнув и присмирев. Она уже ни на что не надеялась. Лида подбадривающе похлопала её по руке, дружески улыбнулась ей:
— Ну что ты, право, раскисла? Словно тебя на смерть везут.
Немного подумав, прикидывая, как бы это потолковее сказать, чтобы Аринка поняла, начала так:
— Ты уже большая девочка, Аринка, должна понять, что учиться надо. Учёные люди нужны стране, а неучи — что они могут, сама посуди. Конечно, в таких условиях, как ты находилась, учиться невозможно. Но есть выход, есть! Главное, не падай духом и не вешай головы. Жизнь начнём сначала. Тут мне Костя адрес дал одной старушки, у неё есть комната, посмотрим, что там?
Это извещение не очень обрадовало Аринку. «Хрен редьки не слаще. Какая-нибудь баба-яга, будет ворчать с утра до вечера и гонять по своим делам» — так подумала она.
Аринка не отозвалась на слова сестры, она сидела молчаливая, грустная.
— Не горюй, всё будет хорошо, через две-три недели приеду я, буду тоже учиться на рабфаке, снимем комнату отдельную и заживём. Я тебя в обиду никому не дам. А что «неудов» много нахватала, так это дело исправимое. Ты же девочка способная, всё исправишь.
За разговорами не заметили, как подъехали к нужному дому. Дом большой, добротный, в пять окон на улицу, дубовые ворота на каменных столбах и кольца чугунные вделаны, чтобы лошадей привязывать. Бросив вожжи Аринке, Лида пошла узнавать. Вскоре вернулась довольная, улыбающаяся:
— Ну кажется, то, что надо, идём смотреть.
Аринка, полная любопытства и затаённого испуга, пошла следом за сестрой. Через большую застеклённую дверь вошли в узкий, длинный коридор, в конце его открыли вторую стеклянную дверь, и прямо на пороге их встретила высокая старуха, тонкая и прямая, как оглобля. Аринке показалось, что она ни за что не сможет нагнуться, а если нагнется, то непременно сломается. Лицо у старухи было бледное, продолговатое, с длинным носом, немного загнутым вниз. А рот был такой маленький и сморщенный, словно завязанный в узелок. Глаза пронзительные, немигающие, блёклые и потухшие, как слюда. На длинной, жилистой шее сидела удивительно маленькая головка, как у птицы. Седые волосы серебряным ореолом обрамляли эту головку, аккуратно причёсанную.
Аринке старуха не понравилась, вернее, она испугалась её, когда та стала внимательно оглядывать её своими пронзительными глазами. Лида, заметив состояние Аринки, чуть не взорвалась: «Да что вы её оглядываете, словно покупаете», но вовремя сдержалась.
Старуха развязала свой рот-узелок, изобразив нечто вроде улыбки, спросила:
— Как тебя зовут, барышня?
— Меня зовут Аринка, — смущаясь от такого обращения, ответила она.
— А меня — Алевтина Кондратьевна, вот и познакомились.
— Ага, тётя Аля... Але... — Аринка не знала, как её имя приставлять к слову «тётя». Старуха недовольно поморщилась:
— Все тёти и дяди остались в деревне. Здесь город, и всех, кто старше тебя, надо называть по имени-отчеству. Поняла?
— Ага, поняла, — согласилась Аринка.
Помещение, в котором они все сейчас стояли, было разгорожено шкафами. Между ними — занавеска. Это было жильё хозяйки, там за занавесками. А слева — две двери. Одна была заперта, а вторая — подальше, к окну, и предназначалась для Аринки.
— Иди смотри своё жильё, — сказала Алевтина Кондратьевна, пропуская их вперёд.
Лида вошла первой и сразу по-домашнему поставила корзины на пол, подвинула стул к столу.
— Проходи, Аринка, не бойся, это твоя комната. Теперь ты в ней хозяйка. Иди, иди смелее.
Как только она вошла, сразу увидела своё отражение в большом зеркале от пола до потолка, стоящем у противоположной стены. Слева от него — топчан; окно и стол у окна — справа. Вот и вся комната, вся мебель.
— Ничего, в тесноте, да не в обиде, — сказала Лида и, обратившись к Алевтине Кондратьевне, добавила: — А вы, я полагаю, обижать её не будете.
Хозяйка ещё туже завязала свой узелок-ротик, подумала что-то, а потом вынесла на общее обсуждение:
— Обижать не буду, но если что не так, то скажу. Ещё прошу в день ведро воды приносить и комнату свою самой убирать, а ещё чтоб компании не водить. Одну подружку может привести, а много не надо. Моё жильё-то вот оно рядом. — И она, тряхнув занавеской, скрылась за ней. Принесла ещё один стул для Лиды.
Условия все были приняты безоговорочно. Хозяйка ушла, Лида закрыла дверь и остались сёстры одни, сели за стол, стали закусывать.
— Ну вот, Аринушка, теперь тебе есть условия заниматься, давай учись. Тот, кто плохо учится, тот интерес к учёбе быстро теряет, а без желания какая уж там учёба.
— Ну да, что ты! Конечно, я подтянусь, ещё чего! — испуганно залепетала Аринка, старательно разбирая корзины с едой. От умиления и грусти застилало глаза. Она представила себе, как мамка всё это пекла, а потом они с Варей осторожно, чтоб не помялось, укладывали, и всё это для неё, для Аринки, только чтоб она сыта была и училась. Нехорошо получилось, ах как нехорошо! Но она ведь не виновата. И тут же упросила Лиду, чтоб та не говорила дома о её школьных делах.
— Даю тебе слово, вот увидишь, к твоему приезду у меня даже «уток» не будет, только «гуси» да «лебеди».
Лида улыбнулась:
— Что ещё за гуси-лебеди?
— Так у нас называют, «неуд» — жаба, «уд» — утка, «хор» — гусь, а «очхор» — лебедь!
Мирно побеседовав, плотно подзакусив, Аринка совсем оттаяла, и потянуло её на дрёму. Ночь-то целая прошла в ожидании и тревоге.
Лида погнала её в постель:
— Приляг, поспи немного. Тебе сейчас надо больше спать и есть, чтоб поправиться. Смотри, скоро кости кожу прорвут.
Аринка подошла к топчану, пощупала его, не очень чтоб мягкий, но уж и то хорошо, что можно ноги вытянуть. Благодать-то какая. А то всю ночь скорчившись, как в корзинке, лежишь, коленки у подбородка. В блаженном полусне спросила Лиду:
— А ты чего делать будешь?
— Я-то? — хитро прищурившись, спросила Лида. — К Парасковье Акимовне пойду, по душам поговорить надо, — воинственно сказала она.
Сон у Аринки вмиг улетел, она приподнялась на руках и, глядя на Лиду, с испугом спросила тревожно:
— Зачем? Не ходи! Прошу тебя, не ходи! Не ходи к ней! — почти со слезами воскликнула Аринка, готовая вот-вот расплакаться.
— А чего это ты так переполошилась? Почему это мне к ней не пойти?
— Я боюсь, что она тебя уговорит опять к ней, чтоб опять у ней жить. — И Аринка затряслась, заплакала: — Я не хочу к ней...
— Дурочка ты моя маленькая, — тепло проговорила Лида. — Да кто меня в чём может уговорить. У меня на всё есть своё мнение. У меня с нею, с этой лицемеркой, свой разговор будет, успокойся, постарайся заснуть. — И Лида вышла.
Аринка сразу представила, как и о чём будет говорить Лида с тётей Пашей. Та, бедная, будет вертеться, как таракан на горячей сковороде.
Когда Лида вернулась, Аринка беспечно спала. Чтоб не терять времени, она стала приводить в порядок Аринкино платье. Укоротила его, отпорола этот дурацкий стоячий воротник, похожий на хомут, приталила, рукава вшила на место, отутюжила и повесила на стул. Радости Аринки не было границ, когда примерила это платье, она сразу преобразилась.
— Лида, Лидушка, я теперь такая, как все, как все, — тараторила она, вертясь перед зеркалом. — А можно мне передник не надевать? — с мольбой заглядывая в глаза, спрашивала Аринка.
Лида подумала, а потом сказала:
— А ну его в болото, не надевай.
Растроганная, Аринка бросилась ей на шею.
— Ура! И передник вон! — в радости кричала она.
— Теперь пойдём в баню, а то ты, наверное, собачьей шерстью обросла. Та квашня не подумала о тебе, только и думы о своей утробе.
Было уже четыре часа пополудни, Лида торопилась — и так задержалась.
— Ну, Аринушка, давай прощаться, мне пора. Ты меня не провожай, садись и начинай делать уроки. Завтра тебя спросят, непременно, — говорила Лида, обнимая и целуя сестру.
Но что это? Опять эти страдальческие глаза! И эта жалкая фигурка, такая беззащитно-одинокая, стояла перед нею. У Лиды разрывалось сердце, она не могла смотреть на Аринку.
— Аринушка, птичка моя, потерпи немножко, тебе будет здесь неплохо. А потом будем вместе. Да не смотри ты на меня так!
Но Аринка не слушала её, она уткнулась ей в грудь и залилась горючими слезами. Лида в полной растерянности не знала, что делать.
— Перестань, Аринка. Ну что ты мне душу-то терзаешь? Что с тобою? Сейчас тебе будет хорошо. Займись учёбой, скучать некогда, — сказала Лида и, поцеловав ещё раз зарёванное лицо Аринки, почти выбежала из комнаты. У двери оглянулась.
Аринка, шатаясь, плелась за нею следом.
— Ну зачем ты идёшь? Я же сказала, не ходи, — почти прикрикнула на неё Лида. Но её сердце обливалось слезами от жалости к сестре.
Тихая, понурая, она смотрела на Лиду с мольбой и грустью.
— Я хочу с Забавой проститься, — пролепетала Аринка.
— Ладно, иди прощайся, — махнув рукой, разрешила Лида, а про себя подумала: «Если бы это всё видели Варя с матерью?» Но она тут же решила, что ничего не скажет им.
— Забава, ты меня не забывай, мы ещё с тобой поскачем... — Аринка не договорила, куда собиралась скакать на Забаве, прильнув к её шелковистой шее, затряслась в рыданиях. Животное нетерпеливо переступало ногами и косило на Аринку горячий тревожный глаз. Лошади тоже умеют плакать. Лида, наконец изнервничавшись, уже не владела собой.
— Что ты меня мучаешь и терзаешь! Прекрати, говорю, слёзы лить! Господи, да это же пытка какая-то! Хорошо, пусть будет по-твоему! Садись, поедем! Садись, я говорю! — возбуждённым голосом закричала она и сделала попытку поймать Аринку и насильно посадить её в телегу. Но та шарахнулась в сторону, испуганно заморгала.
— Нет, нет, не надо! Я не хочу, — запротестовала она.
— Тогда чего ты ревёшь, всю душу мне наизнанку вывернула. Аринка, ну зачем ты так? — скорбно проговорила Лида и, к великому изумлению сестры, вдруг сама заплакала.
В эту минуту из ворот вышла хозяйка. Взяв Аринку за плечи, легонько подтолкнула её к калитке, что-то шепнув на ухо ей. Повернув свою маленькую головку в сторону Лиды, сказала:
— Поезжайте, с богом. Всё будет хорошо, не волнуйтесь! — И обе скрылись за калиткой.
Жизнь начинается снова
Аринка плакала не потому, что ей не хотелось учиться, она была полна рвения к учёбе, и не потому, что безумно хотелось домой.
Конечно, хотелось, но и это она перетерпела бы. Она плакала оттого, что чувствовала себя страшно одинокой, заброшенной, никому не нужной. Вокруг её были люди, которым не было никакого дела до неё.
Живя в деревне, в своей семье, она всегда ощущала окружение близких для неё людей. Она всех знала, всех любила и была готова в любую минуту прийти к ним на помощь, и они её тоже любили. Был такой случай: Аринка всё-таки перелезла запрещённую изгородь. И из Старей оказалась в Заходах, в том коварном лесу, который простирается на сотни километров. Не один человек попадал в беду, оказавшись в нём. И, как следовало ожидать, Аринка до того докружилась вокруг ягод, которых там было изобилие, что заблудилась. Объятая ужасом, она металась по лесу то в одну сторону, то в другую... Нет! Пропала изгородь, через которую она перелезла, и теперь ей не попасть в свои родные места. Уже вечерело. Отчаявшись, она влезла на самое высокое дерево и с него увидела лошадь. Лошадь была не из их деревни, своих деревенских лошадей она всех знала. Обрадовавшись живому существу, Аринка бросилась к ней. Села верхом и, не погоняя, дала ей полную свободу. Лошадёнка была замухрыстенькая, смирная, как видно, старая, она решила: раз седок на ней, значит, надо двигать к дому. И вывезла Аринку на дорогу, ведущую в чужую деревню. Слезла она с лошади и помчалась, не чуя ног, к себе домой. А там такое творилось!
Был уже вечер, но вся деревня, всполошённая, гомонила. Искали пропавшую Аринку. Симон с багром прощупал все колодцы. Молодые парни ушли прочёсывать лес. Ивашка с друзьями помчался на речку обследовать дно. Вся деревня на ногах. Только Елизавета Петровна, сменившись лицом, на себя не похожая, неподвижно сидела под окном, уставив безумный взгляд перед собою.
Аринка, увидев такую суматоху, сама было хотела принять участие в розыске кого-то, как вдруг почувствовала, что её хватают со всех сторон, прижимают, целуют. «Так вот же она! Нашлась! Вот она!» — кричали обрадованно со всех сторон. Тут Аринка поняла, что искали её.
Симон, очутившись рядом, тяжело дышал, словно загнанный, он смотрел на дочь счастливыми глазами. Лицо его как-то странно морщилось, не то он готов был заплакать, не то улыбался и всё пытался что-то сказать и не мог вымолвить слова. Зато брат Ивашка, дерзко растолкав всех, предстал перед Аринкой со злющими, сверкающими глазами, чуть не с кулаками набросился на нее: «Ты, крыса! Куда запропастилась?! Мамка с тятей чуть не умерли со страха, думали, что ты утопла или в лесу заблудилась! Тебя за это дело вздуть как следует надо! У, крыса водолазная, доберусь я!!!» — «Что ты, что ты, Ивашка, как можно», — вступилась Варя и, обняв Аринку, повела скорее к матери. Та, увидев живой и невредимой свою меньшую, свою извечную заботу и печаль, охнула, встала, схватилась за сердце, опять села. Её бледное лицо на глазах старело. Потом она пошла тихо, держась за стену дома.
Аринка оробело и даже с испугом смотрела на всех. Вот, оказывается, как её любили! Какой переполох из-за неё поднялся, подумать только! Аринка, чрезвычайно потрясённая этим событием, долго не могла заснуть вечером.
А в городе — хоть умри, пропади, утони, удавись — никто не спохватится, никому нет дела до тебя. Тягостное чувство своей ненужности угнетало её.
Ей непременно надо было, чтобы кто-то любил её, чтобы она была кому-то дорога. И чтобы у неё тоже был кто-то, о ком бы она думала, заботилась. А как же иначе! Человек не может быть одинок!
Вот потому и плакала Аринка, что её сердце не могло мириться с одиночеством.
Алевтина Кондратьевна привела её в комнату, успокоила, но и пожурила немножко: мол, большая девочка, нехорошо, до слёз сестру довела.
— И чего разревелась? — выговаривала Алевтина Кондратьевна. — Испугалась?
— Нет-нет, я вас не испугалась, — поспешила заверить её Аринка, смутившись, добавила: — Я просто по дому соскучилась и по мамке с тятей.
— Ну, ну, — неопределённо проговорила хозяйка, опять завязала свой ротик в узелок и вышла из комнаты прямая и негнущаяся, гордо неся свою маленькую птичью головку.
Потом хозяйка принесла ей большую пачку журналов «Нива», ещё каких-то красочных книжек, альбомов. Аринка жадно набросилась на такую красоту, доселе не виданную.
Окончательно успокоившись, Аринка ещё раз перекусила, запила молоком и с хозяйской придирчивостью осмотрела свою комнату-конурку. Осталась вполне довольной, ничего, жить можно. Уже смеркалось, зажгла свет. На потолке с тусклым освещением сиротливо висела голая лампочка без абажура. Окно сразу выделилось тёмным провалом, словно яма. Аринка занавесила его платком.
С деловитой озабоченностью разложила на столе все книги и тетради, не зная, за что браться. А тишина-то какая, никто их не хватает, не вырывает из рук, не мешает сосредоточиться. Горы свернуть можно! Просмотрела расписание и решила заняться только завтрашним днём. По истории «неуд» — надо учить историю, спросят обязательно. Склонилась над книгой, но оказалось, что загородила свет головой. И так и сяк примерялась — всё равно темно. Уже хотела передвинуть стол, но вошла хозяйка, неся в руках другую лампу. И как только она догадалась?!
— Вот с этой лампой тебе будет лучше заниматься, — сказала она, воткнув вилку в штепсель. И, погасив верхний свет, тихо удалилась.
Аринка обмерла от восторга. Приятный зеленоватый свет уютно разлился по всем столу, освещая только книги. Сразу стало лучше думаться.
Вокруг было тихо-тихо, только за дверью иногда шаркали мягкие шаги хозяйки, да часы в её комнате мелодично вызванивали время. Аринка занималась сосредоточенно и вдумчиво, материал укладывался в голове легко и быстро. Память как губка впитывала в себя прочитанное.
Она сидела долго, столько, сколько надо было, чтобы усвоить хорошо материал. Часы пробили одиннадцать, у хозяйки погас свет. Аринка испуганно прислушалась. Ей показалось, что сейчас войдёт Алевтина Кондратьевна и, как тётя Паша, погасит у неё свет. Но никто не входил. Мирная, спокойная тишина царила вокруг. Кажется, и ей пора ложиться спать. Немножко страшно: новый дом, новые люди, новая постель. Она решила приоткрыть дверь — как бы приблизиться к людям. «А главное, надо думать о чём-то хорошем, о доме, о своих близких», — настраивала себя Аринка...
— Барышня, Арина, вставай! — Рано утром лёгкий стук в дверь и голос хозяйки разбудили её. Аринка, уже отвыкшая от беззаботного утреннего сна в чужих людях, мигом проснулась: «Точно, пора».
— Я щас! Уже встаю, — живо откликнулась она. А про себя улыбнулась: «Барышней называет, чего надумала».
Тщательно умывшись холодной водой, хорошо позавтракав своим домашним, Аринка совсем повеселела. А когда надела платье, отглаженное, укороченное, ладно сидящее на ней, пришла в восторг. Без стоячего воротника шея её стала более тонкой и длинной, зато кружевной белый воротничок, который связала Варя, освежал и украшал Аринку. Теперь она уже, конечно, не «фефёла». Правда, журавлиные ноги её с узловатыми коленками, полностью теперь открытые, доставили ей некоторое разочарование. Вон у Шатерник какие ноги, не то что у неё! Какие уж есть. Зеркало добросовестно отразило все преимущества её туалета и недостатки внешности, но всё же оставило её в хорошем расположении духа.
В школу она шла, как на бой, но шла смело, уроки знала назубок, и это придавало ей какую-то задорную отвагу. «Я им покажу сегодня. Лида права, кто плохо учится, того и учителя не любят и товарищи не уважают». Она докажет им всем, что она хоть и деревенщина, но не хуже их всех!
На этот раз она вошла в класс свободно, легко, даже немного с вызовом, беззаботно помахивая ранцем. Девчонки с нескрываемым любопытством и вниманием смотрели на неё. Как ни странно, но сегодня они её заметили и нашли в ней необыкновенные перемены, не только чисто внешние, но и внутренние, — это был другой человек. Многим показалось, что она сегодня нахально самоуверенна.
— Чего это она? Никак воображать вздумала? — кто-то было шикнул на неё.
— «Неудов» набрала, а нос задирает, ха-ха-ха! — съехидничал другой.
Ничего, она и не такое слышала: «Эй, фефёла, куды идёшь, пришла откэля». Пусть говорят, мокрому дождь не страшен. Главное — выдержка, быть спокойной. Только детдомовец Захар Воронов никогда не дразнил её, а, наоборот, смотрел на неё с сочувствием. Ему хотелось заговорить с нею, но она почему-то шарахалась от него. Это обижало его, он отходил в сторону.
Начался урок геометрии. Александра Николаевна, как всегда, подтянутая, элегантно одетая, неторопливо вошла в класс. С лёгкой улыбкой на губах проницательным взглядом мгновенно окинула весь класс и каждого в отдельности, как это она умела делать. Взяв журнал со стола, открыла его.
— Отсутствующие есть? — спросила она.
— Нет, все на месте, — ответил дежурный.
— Хорошо. Начнём урок, — проговорила Александра Николаевна и, придерживая очки у виска, посмотрела в журнал, выискивая кого спросить.
Аринка замерла в ожидании, не дышала, только сердце часто-часто билось: «Вот возьмёт и спросит сейчас её», и только это она подумала, как услышала:
— Сейчас пойдёт к доске... Бойцова.
Аринка мгновенно вскочила и пошла быстрой лёгкой походкой к доске. Длинное платье уже не связывало путами её ноги.
Александра Николаевна доброй улыбкой встретила её появление у доски, про себя отметив изменения, произошедшие во внешнем облике Аринки. Эта деревенская девочка положительно нравилась ей, что-то непосредственное, открытое и сердечное исходило от неё. А глаза такие чистые и ясные, как само небо.
— Ну-с, Бойцова, учила ты теоремы? — не гася улыбки, спросила учительница.
— Учила, — твёрдо отрезала Аринка.
— Все учила или по выбору?
— Все, до единой, — не моргая, отчеканила она.
— Ну что ж, посмотрим. Тогда докажи теорему номер три.
Аринка повернулась к доске, какую-то минуту подумала, потом, дробно стуча мелком, нарисовала треугольник, обозначив его латинскими буквами, опустила перпендикуляр из вершины «В» и твёрдо, уверенно начала говорить, что дано и что надо доказывать:
— Теперича будем доказывать.
Только произнесла она это, как дружный хохот грохнул за её плечами. Аринка стремительно обернулась, ничего не понимая, обескураженно смотрела то на класс, то на Александру Николаевну, ища ответа, чем был вызван этот хохот.
— Тихо, ребята, тихо! — повышенно строгим голосом обратилась она к классу и, подойдя к Бойцовой, мягко сказала: — Бойцова, голубушка, надо говорить не «теперича», а теперь. Ты не виновата, у вас в деревне все так говорят, но ты ТЕПЕРЬ будешь знать, как надо говорить. Как?
— Теперь, — прошептала Аринка.
— Фефёла, она и есть фефёла, — хохотнул Губанов.
— А вот это нехорошо. Давать прозвище своим товарищам, поднимать на смех за неправильно сказанное слово — это непорядочно и не по-товарищески, — строго сказала Александра Николаевна.
— А чего я-то? Чего я-то? — взвился Губанов.
— Помолчи, Губанов! О тебе разговор будет особый, — одёрнула его Александра Николаевна и, обратившись к Бойцовой, сказала: — Продолжай, я слушаю.
Аринка вмиг оживилась, её радовало то, что учительница заступилась за неё. Бойко стуча мелком по доске, она чётко, понятно доказала теорему. Умолкнув, ждала вопроса.
— Очень хорошо, Бойцова. Садись, — сказала Александра Николаевна и поставила отметку в журнал.
Но Бойцова не торопилась идти на место, она, как видно, вошла во вкус:
— Если хотите, я могу и ещё теорему доказать.
— Хватит, Бойцова, а то другим ничего не останется. Я вижу, что ты добросовестно занималась, садись.
— Ага, — согласилась Аринка, — добросовестно. — И, тщательно вытерев доску, пошла на своё место.
Внутри всё ликовало и пело: как хорошо жить, как весело, когда тебе ставят хорошие отметки. Едва сдерживая свой радостный порыв, опустив счастливые глаза, она сидела смиренно и скромно, как и подобает победителю. Украдкой окинула взглядом класс. Наткнулась на чёрно-смоляные глаза Шатерник — та улыбнулась. Ещё бы, старосте всегда приятно, когда хорошо учатся, с этими «неудачниками» одна морока, подтягивай их, помогай, а вот Аринка без чьей-либо помощи взяла и сама подтянулась. Но как бы там ни было, улыбка Шатерник пришлась по душе Аринке. Впрочем, это ничего не изменило, в перемену она, как всегда, в одиночестве коротала время, стоя на площадке у лестницы или у заветного её окна, а как хотелось побегать! Но не будешь же бегать сама за собой?
Последним уроком была история. Аринка не очень любила этот предмет. И чего ворошить прошлое, оно прошло и не вернётся. Всякие цари, короли, войны и бесконечные даты, даты. В таком-то году было то-то, а вот в этом году было то-то. Но что делать, учить надо. И Аринка сейчас, стоя у окна, пробегала страницы учебника по истории.
Учитель истории, Фёдор Семёнович Пыжов, был невысокого роста, лысый, нижняя губа выпиралась вперёд, что делало выражение его лица вечно недовольным, даже капризным. Густые рыжие брови щетиной нависали над глубоко сидевшими глазами, маленькими, но очень зоркими и внимательными. От них невозможно было скрыться. Они всё видели, казалось, даже и под землёй видели, что творится. Фёдор Семёнович был нетороплив в движениях, никогда не повышал голоса, но если делал замечание, то такое, что нарушитель сидел, как ошпаренный.
Уроки он вёл очень интересно, особенно когда говорил про войны, про баталии. Казалось, что он сам там был и видел всё собственными глазами.
Как и ожидала Аринка, Фёдор Семёнович первой вызвал её:
— Бойцова нам расскажет об отмене крепостного права. Прошу.
Этот материал Аринка знала, говорила чётко, бодро, без запинки. Фёдор Семёнович, откинувшись на спинку стула, сидел в удобной позе, словно отдыхал. Его рука, покрытая рыжим пушком, на столе выстукивала пальцами в такт словам Бойцовой. Лицо его было довольным, он любил, когда ученик знал материал. И вдруг Губанов крикнул:
— Фёдор Семёнович, а Бойцова по книжке читает! — И, прижавшись к столу, язвительно косился на Аринку.
Аринка остолбенела, она остановилась на полуфразе с открытым ртом и широко распахнутыми глазами.
— Это неправда! Губанов врёт! — воскликнула она. И глаза её в смятении забегали по лицам товарищей, как бы призывая их в свидетели своей невиновности, ища в них поддержки. Но класс молчал, все смотрели на Фёдора Семёновича и ждали, что будет? Он нехотя встал, его губа недовольно выпятилась вперёд, Фёдор Семёнович не любил, когда его обманывали, в таких случаях он был беспощаден. Учитель направился к Бойцовой.
И в тот момент, когда он подходил к её столу, Нюрка Морозова, её соседка, подсунула учебник истории, открытый именно на странице, которую рассказывала Бойцова. Она даже этого не заметила, так как смотрела в упор на подходившего Фёдора Семёновича. Когда он увидел эту книгу, Аринка тоже удивлённо уставилась на неё. Она обмерла, что-то дрогнуло внутри, лицу стало жарко. «Я пропала, — только и подумала она. — Ну, Нюрка, погоди!»
Положение было отчаянным. Фёдор Семёнович взял книгу, как-то брезгливо подержал её в руке и, поставив ребром на стол, спросил сумрачно:
— Это правда, Бойцова, что ты читала по книжке?
— Нет, это неправда! — стойко ответила Аринка. — Это мне Морозова сейчас подсунула её. — Аринка смотрела открыто и честно на Фёдора Семёновича, отдавая полностью себя на его суд.
Он какую-то минуту стоял, склонив голову набок, словно прислушиваясь к чему-то, потом, дёрнув плечами, отрывисто бросил:
— Продолжай, — и пошёл к столу, унося с собой книгу. Но сидел уже не в той свободной позе, а в напряжении, сердито нахмурившись. Аринка только этого и ждала. Она собралась с мыслями, сосредоточилась, кровь отхлынула от лица, сердце утихомирилось.
— Вот я и говорю, — бойко продолжала она, — крестьян освободили от рабства, а земля-то осталась у помещика. А крестьянин без земли никак не может. Земля — это его жизнь. И опять он пошёл в кабалу к тому же помещику! И стал работать на него.
— Хватит, Бойцова, — сказал Фёдор Семёнович, и его тонкие губы растянулись в улыбку. — Ты, что ли, сама из деревни будешь?
— Да, я дочь крестьянская.
Учитель, повертев ручкой над журналом, поставил отметку «хор».
— А теперь продолжит Губанов, — хмуро сдвинув брови, сказал Фёдор Семёнович, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, он ждал.
Губанов пришибленно стоял и молчал. Его губа отвисла башмаком.
Было ясно, что он урока не знал. Но Фёдор Семёнович всё ждал, вопросительно глядя на него.
— Тебе ничего не хочется добавить к тому, что сказала Бойцова? — спросил учитель. — Тогда скажи, что ты знаешь о Парижской коммуне?
Губанов промямлил:
— А вы меня прошлый раз спрашивали, и я вам всё ответил, — вдруг ни с того ни с сего ляпнул он. — Вы, что ли, забыли?
Фёдор Семёнович удивлённо вскинул лохматые брови, уставился на Губанова.
— Как же, как же, очень хорошо помню, — легко согласился он. — А ты что же, учишь уроки только тогда, когда должны тебя спросить? Садись. — И Фёдор Семёнович поставил Губанову «неуд» в журнал.
Тот, всё ещё не веря такому обороту, продолжал стоять.
— Садись, садись, Губанов. Огорчил ты меня безмерно. Уроки надо учить всегда, всегда! — назидательно сказал Фёдор Семёнович.
Назар шлёпнулся на скамейку и, обернувшись, «одарил» Бойцову зловещим взглядом.
«Вот дурак», — подумала про него Аринка, тут же вспомнив пословицу: не рой другому яму, сам в неё влетишь. Как раз так и получилось.
— А теперь мы попросим Морозову рассказать то, что не смог Губанов? — спросил Фёдор Семёнович.
Нюрка вяло поднялась, толкнула Аринку в бок, мол, выручай, но та отодвинулась на самый край, показывая полную непричастность к происходящему. К тому же учитель терпеть не мог подсказок и беспощадно ставил «неуды» тому, кто подсказывал. Морозова долго и тяжко пыхтела и что-то невнятное лепетала. Фёдор Семёнович, подперев рукой щёку, терпеливо слушал её, но в усталом и флегматичном взгляде его было видно недовольство. Морозова еле-еле налепетала на «уд». Радёшенька была, словно «очхор» получила.
Прозвенел звонок, Нюрка нацелилась было бежать к своей подружке, как дорогу ей загородил Воронов. Сказал весомо и строго:
— За такие дела тебе надо бы хорошую взбучку дать! Я, жаль, за спинами не видел твой фортель, а то бы встал и вот этой книгой по башке твоей прошёлся. — И отправился прочь своей неторопливой, вразвалочку, походкой, оставив в испуганной растерянности Морозову и в полном недоумении Бойцову.
Тут же и Шатерник накинулась на Нюрку:
— Ты знаешь, как это называется, девочка? Это подлость! Тебе не стыдно? Какая же ты дрянь после этого.
Морозова вертелась, как на горячей сковороде:
— А чего я, чего сделала? Я просто так положила ей книгу. Я и не видела, что он идёт к нам. Вот ещё! — И она захныкала, завсхлипывала.
— А ты молодец, Бойцова, две отметки сегодня хороших получила. Так, пожалуй, все «неуды» свои исправишь, — сказала Шатерник. — Я рада за тебя. Этак из слабых в сильные попадёшь.
Аринка, польщённая, горделиво повела плечами, как-то загадочно улыбнулась и смело сказала:
— А я и не собираюсь оставаться в слабых. Теперь я ни одного «неуда» не получу. Вот увидишь!
— О, это прекрасно! — с удивлением отозвалась Шатерник и побежала разыскивать Андрееву.
Аринка с откровенной завистью посмотрела им вслед. Они взялись за руки, так по-дружески тепло стали о чём-то говорить.
Новый друг
Впервые за всю учёбу в этой школе Аринка шла домой с просветлённой душой. Её бой выигран, главное, поверить в себя, надо сказать в таких случаях: «Я могу, я сделаю». Только жаль, что некому рассказать о своей победе, некому нести свою радость. Кто бы вместе с нею порадовался?! Впрочем, она всё это прибережёт до приезда Лиды, уж там разговору будет. На целый день хватит.
Открыв вторую стеклянную дверь, ведущую в комнату хозяйки и её, она тут же на пороге наткнулась на незнакомую пожилую женщину. Она стояла у открытой двери, той самой, на которой вчера висел маленький замочек. Женщина была в красивом шёлковом халате, по которому разлетелись райские птицы в красочном оперении, а по подолу, распустив веером хвосты, «ходили» павлины с маленькими хохолками на голове. Вот это халат!
Лицо женщины было тяжёлым, с крупными чертами; мясистый нос с горбинкой, большие выпуклые глаза, двойной подбородок. Вежливо поздоровавшись с незнакомой толстой женщиной, Аринка быстро прошмыгнула в свою комнатёнку. Женщина с радостью встретила Аринку, словно ждала её давно и вот наконец дождалась. Она поковыляла вслед за Аринкой, без приглашения вошла в её комнату, тяжело опустилась на стул, закрыв его полностью своим рыхлым телом и широким халатом. Доброжелательно сказала:
— Давай знакомиться, я твоя соседка. Меня зовут Мария Георгиевна. А тебя Ариночка, кажется? Мне Алевтина Кондратьевна говорила. — И, не дождавшись ответа, продолжала: — Это очень хорошо, что ты здесь поселилась, я люблю детей, вот в таком возрасте. Я думаю, мы с тобой подружимся. А? Как ты думаешь?
Аринка стояла перед ней навытяжку и отчуждённо разглядывала её. От последних её слов чуть не прыснула. «Вот нашлась подруга. И чего приволоклась, ведь я её не звала», — ершась, думала она.
— Да ты чего стоишь-то? Садись, — приветливо говорила Мария Георгиевна, продолжая изучать незнакомую девочку. Аринка нехотя повиновалась. «Ишь раскомандовалась, будто я у неё в комнате, ведь это комната моя». Её настроение ярко отражалось на её лице, поэтому Марии Георгиевне она показалась диковатой, не очень любезной. «Ну что делать, дитя природы, из деревни, ещё не обтесалась».
Аринка сидела на стуле напряжённо, словно аршин проглотив, и сурово смотрела на гостью. «И чего сидит, чего сидит, я есть хочу, а она сидит», — думала Аринка, прислушиваясь к бурчанию в своём желудке. Но вот Мария Георгиевна, словно вспомнив что-то, шумно обрадовалась, губы её расплылись в широкой улыбке.
— Ты, наверное, есть хочешь? А у меня есть куриный суп, — сообщила она заговорщицким тоном, — сейчас мы будем обедать. — И, тяжело подняв своё грузное тело со стула, заторопилась к выходу.
— Я не хочу супу, спасибо, у меня есть своя еда, мне вчера сестра привезла из дома, — заговорила Аринка, — у меня и пироги есть и молоко.
Обернувшись в дверях, Мария Георгиевна с тёплой усмешкой сказала:
— Вот и хорошо, это у нас будет на второе, а первое — суп. Супы надо есть обязательно, иначе разовьётся болезнь желудка от сухомятки.
Аринка, совсем сбитая с толку, ещё не разобравшись в своём отношении к новой знакомой, не знала, как поступить: есть её суп или нет? А вдруг он с домашней лапшой? И что она вообще за человек? А вдруг надоедливая, будет сидеть целыми днями у неё и мешать заниматься. Чай, старуха, делать-то нечего.
Пока она раздумывала, Мария Георгиевна уже вошла с кастрюлей и двумя тарелками. Аромат шёл из кастрюли обалденный, и Аринка решила похлебать супчику. И — о чудо! Он таки был с лапшой.
Не желая остаться в долгу, она вынула и положила все свои припасы на стол: копчёный лещ, пироги, молоко.
— Сегодня у тебя, так сказать, новоселье. Не успела прийти, как гости в доме, — приговаривала Мария Георгиевна, наливая суп и нарезая хлеб. Аринка быстренько сбегала на кухню, помыла руки.
Уселись чинно, как и подобает гостям, только кто у кого был гость — осталось неизвестным. На второе ели леща, а на третье — яблочный пудинг. Аринка такого никогда не едала. Насытившись, она оттаяла и стала смотреть на Марию Георгиевну более доброжелательно. Ей не терпелось поговорить, так сказать, выплеснуться, ведь такой был день! Но как начать, она не знала, а потом, может быть, старому человеку вовсе не интересно слушать о её школьных делах. Но Мария Георгиевна словно подслушала её мысли, с какой-то девчоночьей нетерпеливостью спросила:
— Ну, а теперь расскажи, как прошёл день в школе? Какие отметки получила? Тебя спрашивали или нет?
Аринка даже подпрыгнула, с гордостью отрапортовала:
— По геометрии — «очхор», по истории — «хор»!
— Молодец какой! — с неподдельным восхищением воскликнула Мария Георгиевна.
Аринка, видя её заинтересованность, продолжала:
— Я бы и по истории получила «очхор», но меня Морозова подвела.
И она поведала всё как было. Мария Георгиевна так сочувствовала Аринке, охала, качала головой, возмущалась и, наконец, совсем рассердилась.
— Ах какая дрянь эта твоя Морозова, как можно? Просто предательница. А Губанов твой тоже разбойник порядочный, — не переставала возмущаться Мария Георгиевна и, выслушав до конца всю историю, убеждённо сказала: — Очень хороший педагог, наблюдательный и справедливый, но до полной справедливости он всё-таки не дотянул.
— Как так? — удивилась Аринка.
— А так. Он должен был поставить тебе «очхор», если ты так знала хорошо материал. А он за людскую подлость снизил тебе отметку. Нечестно.
Аринка восторженными глазами смотрела на свою новую знакомую и всё больше находила её симпатичной. А как всё понимает, словно сама учится в школе, а главное, сочувствует ей и входит в её положение.
К концу разговора Аринка поняла, что в лице Марии Георгиевны нашла единомышленника, человека умного и справедливого.
Когда она собралась убирать со стола, Аринка тут же отстранила её:
— Не надо, я сама, я сама.
Сбегала на кухню, всё помыла, отдала чистое в руки Марии Георгиевны.
Та наблюдала за проворным руками Аринки и думала: «Этой девочке никакой труд не страшен».
Потом с заговорщицким видом притянула к себе Аринку и доверительно сказала:
— Вот мы с тобой и познакомились. — И, видя Аринкины повеселевшие глаза, хитровато добавила: — А признайся, ты вначале меня встретила в штыки? Волчонком смотрела, ведь так? Наверное, думала, чего это старуха ко мне привязалась? Хотя бы уходила скорее? А? — подтрунивала она над Аринкой.
— Нет, я так не думала, — слукавила Аринка, но, чтоб было ближе к правде, откровенно призналась: — Я же вас не знала тогда, мы были чужие, вотысё.
— А теперь мы свои, правда? — И обе рассмеялись.
— Ну, я пойду отдохну перед работой, а ты садись уроки делай. — Она тяжело поднялась со стула, пошла в свою комнату.
— А вы разве работаете? — изумилась Аринка. Про себя подумала: «Что может делать такая старуха? Разве такие больные и пожилые люди работают?» — и, не стерпев, спросила, идя за нею вслед: — А где же вы работаете?
Мария Георгиевна, опершись рукою о косяк двери, сказала голосом, в котором была искренняя удручённость:
— Я — пианистка, играю в кино, даю музыкальное сопровождение фильму. Конечно, это не то, что я хотела, но что делать? А теперь пойду набираться сил, отдохну. Весь вечер, три сеанса надо играть, а ты иди занимайся. Я буду ждать завтра тебя с нетерпением, смотри не подкачай, — и, улыбнувшись Аринке устало и немного грустно, она ушла в свою комнату.
«Вона чего, — огорошенно подумала про себя Аринка и с упоением прошептала: — Пианистка». Образ Марии Георгиевны вознёсся до необыкновенной высоты. И интерес к ней увеличился вдвое. На этот раз, кажется, ей повезло, в её жизнь вошёл необыкновенный человек. Во всяком случае так хотелось думать Аринке.
Уроки на ум не шли, события сегодняшнего дня выбили её из колеи, и мысль, как назойливая оса над вареньем, всё время кружилась вокруг соседки: кто она, почему снимает комнату, а не имеет своего дома? Есть ли семья у неё, дети, внуки, муж? Всё это интересовало Аринку. Наконец сбросив с себя не дававшие покоя мысли, взялась за уроки. Стала учить «Песнь о вещем Олеге».
Было около семи часов вечера, когда в комнату к ней заглянула Мария Георгиевна, такая нарядная, парадная, что Аринка не выдержала и, всплеснув руками, воскликнула:
— Какая вы красивая! И стали совсем, ну совсем не старая!
Действительно, чёрное из добротной шерсти платье делало её фигуру тоньше, а белый кружевной шарф укрывал её двойной подбородок, освежая и без того очень нежный цвет лица.
— Занимаешься? Ну молодец. Поздно не засиживайся, главное, всегда выспаться. Ну я пошла, — проговорила она приподнято, возбуждённо и, как Аринке показалось, очень весело, словно она шла на бал, на вечер. Аринка тотчас вспорхнула со стула, благо, есть возможность немножко развлечься, и, кося шаловливый глаз на Марию Георгиевну, сказала:
— Я вас проведу, немножко, до калитки только, можно?
— Нет-нет, не надо! — почти с испугом сказала Мария Георгиевна. — Не надо, сиди и занимайся, — и лицо её стало сразу серьёзным и как будто обиженным.
Не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла.
Аринка растерянно смотрела на неё, ничего не понимая, но всё же пошла на расстоянии за нею.
Она увидела, как Мария Георгиевна взяла из угла коридора палочку и, очень сильно опираясь на неё, вышла на крыльцо. Сквозь стеклянную дверь Аринка увидела, как она сходила со ступеней, как осторожно опускала свою толстую ногу-тумбу и лицо её в этот момент принимало напряжённо-страдальческое выражение, а когда становилась на ногу, то вздрагивала, словно она на гвозди наступала. У Аринки похолодело внутри, словно она вместе с нею испытывала эти муки.
Она вбежала в свою комнату, сдёрнула с гвоздя жакеточку, на ходу надела её и выскочила на улицу. Мария Георгиевна, преодолев пять ступеней, стояла, прислонившись к каменному столбу ворот, и отдыхала. Увидев Аринку, улыбнулась вяло и виновато.
— Ну зачем ты идешь, я сказала, сиди и занимайся, — укорила она девочку.
— Нет! Я провожу вас, я помогу вам! — воскликнула Аринка и, приспосабливаясь к медленному шагу своей спутницы, приказным тоном добавила: — Опирайтесь на меня! Хорошенько опирайтесь!
— О господи! На что там опираться-то, одни кости, — пошутила Мария Георгиевна, но всё же слегка прислонилась к Аринке.
— Ну и что, что кости, всё равно я сильная! И кости у меня крепкие!
— Не надо баловать меня, детынька, я привыкла. Мне полезно двигаться. При моей болезни нельзя ложиться, если я лягу, то уже не встану, — и, подумав, прибавила: — Мне бы до весны дотянуть, а там...
— Что там? —испуганно подхватила Аринка.
— Ну, это тема для большого разговора. Как-нибудь потом. Вот мы и дошли. Беги домой, а я уже доползу.
Оценка справедливости
На другой день первым уроком была физика. Аринка была уверена, что её спросят, ведь в журнале стоял «неуд». Прозвенел второй звонок, вошёл Дмитрий Иванович быстрым, деловым шагом. Все встали, приветствуя его, но он, ни на кого не глядя, лишь небрежно махнул рукой. Встал за своим столом. Его стол возвышался на две ступеньки и растянулся во всю ширину класса. За этим столом делались физические опыты.
Дмитрий Иванович, коренастый, среднего роста и средних лет мужчина. На его коротком прямом носу, как седло на спине, лежали очки, с такими толстыми стёклами, что глаза его были круглые и большие, как у совы. Поэтому его и прозвали Филином. Одевался он очень небрежно, всегда в мятом костюме, несвежих рубашках.
Но предмет свой знал прекрасно. Материал по физике излагал просто и очень интересно. На его уроках была тишина. Если кто отвлекался, хотя бы на минуточку, он принимал это как личное оскорбление, тут же набрасывался на нарушителя и требовал повторить слово в слово, что он сказал. И горе тому, кто не мог этого сделать, «неуд» беспощадно ставился в журнал. Поэтому Аринка на его уроках сидела как мышь, боясь шевельнуться.
Аринка ещё не совсем определила: нравится ей учитель или нет? Пока, скорей всего, она его просто очень боялась. Сегодня она знала, что её спросят, и была готова отвечать, уж если не «лебедя», то «гуся»-то схватит обязательно: занималась добросовестно.
— Бойцова, — вызвал Дмитрий Иванович, — расскажи, что ты знаешь о трёх законах Ньютона, — и его глаза, круглые, большие, не моргая впились в Аринку.
Ха! Что она знает? Да она даже знает про то яблоко, которое в саду свалилось ему на голову, и что из этого потом получилось. Бойцова отвечала уверенно, бойко, обстоятельно.
— Довольно. Садись, — сухо проговорил Дмитрий Иванович, держа ручку наготове. С тревожно бьющимся сердцем Аринка ждала отметку. И, к своему великому огорчению, увидела, как он поставил в журнал «уд». Она, подавленная и разочарованная, опустилась на скамью. Горькая обида до боли, до слёз захлестнула её. Ну почему он так несправедлив? И физика стала ей сразу ненавистна.
— А почему «уд», ведь она хорошо отвечала? — спросил кто-то громко. Все зашушукались.
— Для «очхора» она рожей не вышла, — ещё громче сказал ядовито детдомовец Воронов.
Аринка, красная, словно опалённая, низко наклонила голову.
Дмитрий Иванович быстро вскинул лицо и посмотрел на Захара. Тот спокойно, даже несколько вызывающе, выдержал его взгляд. Но Филин промолчал. Захар понял это молчание, язвительно ухмыльнулся...
Следующую спросил Веру Фомину. Эта кудрявенькая, беленькая девочка-ангелочек что-то робко и невнятно мямлила про себя. Дмитрий Иванович всячески задавал ей наводящие вопросы, буквально клещами тащил из неё каждое слово.
— Ну что же ты, Верочка, робеешь, ты же знаешь урок, — терпеливо подбадривал её учитель, чуть ли не рассказывая весь материал за неё. — Ну вот видишь и ответила, — довольно сказал он и поставил «уд»!
— И тоже «уд»! — ещё раз беспощадно поддел его Воронов.
Глаза под очками Дмитрия Ивановича блеснули жёстко и холодно, и он посмотрел на Захара долгим взглядом.
— После урока зайдёшь ко мне! Как сидишь?! Чего развалился?! — с несдерживающей досадой закричал он.
— Пожалуйста, — беззаботно ответил Воронов и нехотя изменил позу.
Водился за Дмитрием Ивановичем один большой порок. Любил он окружать себя любимчиками. И произведённого в этот титул он уже называл не по фамилии, а только по имени. Многие из его любимчиков докладывали ему обо всём.
Как заведующему учебной частью, ему хотелось знать обо всём, что творилось в классе на других уроках. Самым большим его любимчиком и главным фискалом был Губанов. Об этом знал весь класс.
На последнем уроке литературы Аринку тоже вызвали, и она блестяще рассказала стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Ещё один «лебедь», распластав крылья, лежал в журнале против её фамилии.
К концу урока, когда оставалось несколько минут до звонка, Елена Владимировна читала ребятам стихи Тютчева, Фета, Блока. А как читала! Ученики слушали её с открытыми ртами. Аринка будто погружалась в упоительную музыку слов, в их плавную складность и невольно поддавалась очарованию поэзии. Это Елена Владимировна научила её любить стихи.
Особенно она любила стихи про природу: «Люблю весну в начале мая...» или «Ночь, весенней негою дыша...» Аринка пришла к выводу, что про природу надо говорить либо стихами, либо в песнях. Природа — это удивительное чудо.
Домой она бежала подпрыгивая. Теперь ей было кому нести свою радость и печаль.
В дверях, как и вчера, её встретила Мария Георгиевна. В руках у неё была чашечка молока с накапанным в него йодом — такое лекарство прописали врачи.
— Ну как? — нетерпеливо спросила она.
— «Очхор» по литературе! — радостно возвестила Аринка и тут же скрылась в своей комнате. Про физику она пока умолчала.
— Я что-то не пойму, а что же ты про физику не говоришь? — спросила Мария Георгиевна, идя за Аринкой следом. — Спрашивали тебя или нет? — И, озабоченно вглядываясь в её лицо, ждала ответа.
Аринка судорожно проглотила кусок пирога, запила молоком.
— Я больше физику учить не буду! Вотысё! Баста! — вдруг с озлоблением сказала она. — Я так ему ответила, так ответила! А он мне только «уд» поставил! Теперь назло ему не буду учить физику. Буду лепетать всякую ерундистику. Всё равно «уд» поставит, так чего и учить, спрашивается? Назло ему не буду учить! Вотысё!
И тут Аринка поведала Марии Георгиевне про несправедливость Дмитрия Ивановича.
Мария Георгиевна молчала, обдумывая сообщение Аринки:
— Это самое плохое в педагоге, когда он несправедлив. Но несмотря ни на что, ты физику должна учить. Да, да!
— Нет, не буду! — твёрдо отрезала Аринка. — Я его ненавижу и учить не буду. Вотысё!
— Успокойся, ишь развоевалась. Давай поговорим серьёзно, отнесёмся к этому вопросу по-деловому, — урезонивала её Мария Георгиевна. — Ты не ему, а себе зло сделаешь. Он физику знает, а вот ты будешь с «неудом» ходить и числиться в плохих ученицах. Запомни, учителя приходят и уходят, а наука остаётся. Нынче Дмитрий Иванович, а через месяц или год будет другой учитель по физике. И что? А ты ничего не знаешь, прохлопала физику. Ты для кого учишь? Для себя или для педагога? Кому знания нужны? Тебе они нужны, запомни это. Ты учишь не для отметки и не для учителя, а прежде всего для себя.
Проговорив всё это, Мария Георгиевна испытующим взглядом уставилась на Аринку, пытаясь узнать, хорошо ли она это всё усвоила.
— Ладно, буду учить, — нехотя, как бы приневоленная, пробубнила она. — Но только всё равно его ненавижу, вотысё! Не люблю несправедливых! — тихо проговорила она, вложив в эти слова всю обиду свою.
— Вот и хорошо! — искренне обрадовавшись, сказала Мария Георгиевна. — Я знала, что ты всё поймёшь. Говори, по какому у тебя ещё предмету остался «неуд»? — поинтересовалась она.
— Остался по немецкому и по географии.
— Завтра что?
— Немецкий. Надо зубрить слова, склонения. Я не понимаю грамматику.
— Удивляюсь, как вас странно учат! Разве когда ребёнок начинает говорить, его учат грамматике? Его учат просто говорить. А когда он будет в совершенстве говорить, тогда надо заниматься грамматикой. Мне было пять лет, когда со мной начали говорить на иностранном языке, а уже в гимназии, зная язык, я начала усваивать грамматику. Так что я тебе помогу в немецком языке, не горюй. Сделаем так: один час в день станем «лопотать» на немецком, никаких грамматик. В школе изучай грамматику, а дома разговорную речь. Идёт?! — предложила Мария Георгиевна и улыбнулась, увидев, как изменилось Аринкино лицо.
— Это правда? Вы знаете немецкий язык? — спросила она удивлённо. — Вот это да!
— И не только немецкий. И французский, и английский.
Аринка стояла ошарашенная, не зная, что сказать; Мария Георгиевна в её глазах поднялась на недосягаемую высоту.
— Так ты перекуси, и начнём заниматься, пока есть время, — сказала Мария Георгиевна и тем самым привела Аринку в «чувство», а сама вышла на минутку к себе.
В течение часа Аринка узнала, как будет по-немецки комната и всё, что находится в ней: пол, стены, потолок, двери, картины, стул, стол; открой окно, закрой дверь, подвинь стул, подай книгу.
— У тебя прекрасная память, деточка. Этак мы с тобой за зиму начнём говорить по-немецки, — похвалила её Мария Георгиевна. — Главное, учи слова. Десять-пятнадцать слов в день — уже хорошо. На сегодня хватит, я иду отдыхать, а ты ещё повтори, что мы с тобой говорили.
Да, дела! Аринке повезло крепко. И в её голове молниеносно созрел план: «Начнётся немецкий урок. Нина Прохоровна, учительница немецкого языка, начнёт вызывать учеников склонять этот несчастный глагол: их хабе, ду хает. Будут путать, будут врать, тогда Аринка поднимет руку и на немецком языке обратится к ней: «Разрешите, я отвечу урок».
Что будет?! Весь класс замрёт в удивлении. Сама Нина Прохоровна будет смотреть на неё, как на древнее ископаемое. И тут же ответит ей по-немецки: «Да, конечно, пожалуйста». Аринка скажет: «Данке шон». А может быть, кто-то забудет закрыть дверь и тогда она спросит — конечно, тоже по-немецки: «Разрешите, я закрою дверь».
Аринка сразу представила, как Назарова губа отвалится башмаком, хоть подставку ей ставь. А Шатерник разве не будет удивляться? Она ведь лучшая ученица у Нины Прохоровны и иногда с нею перекидывается по-немецки.
Но уж если Аринка такое задумала, то так и будет. Она утрёт им всем нос. А главное, докажет, что она хотя и «деревенщина», и «фефёла», но не глупее и не хуже их всех.
Стычка с Губановым, дружба с Вороновым
В пятницу произошло событие из ряда вон выходящее. Первым уроком была алгебра. Александра Николаевна вызвала Губанова к доске, задала ему алгебраическую задачу. Он довольно бойко начал её решать, вскоре решил, ответ получился «2аб».
Но тут Бойцова заявила:
— Александра Николаевна, Губанов неправильно решил задачу, ответ должен быть «три аб».
— Да? Сейчас проверим, — сказала она и, придерживая очки у виска, стала внимательно смотреть на доску. — Да, что-то ты напутал, Губанов.
Губанов всё стёр и написал заново, но опять получился ответ «2аб».
Тогда Александра Николаевна велела Бойцовой подойти к доске и помочь Губанову найти ошибку. Аринка тщательно вытерла доску и вновь написала всю задачу. Её решение было с ответом «3аб», за что получила «очхор», а Губанов «уд».
Полыхнув злобным взглядом на Бойцову, он тихо прошептал:
— У, выскочка.
Аринка не преминула ответить на это насмешливым жестом: схватила себя за нижнюю губу и безобразно оттянула. Он понял намёк, его от злости чуть не вывернуло наизнанку. Аринка, довольная произведённым впечатлением, села за стол, полная смирения.
Камни, которые когда-то кидал Губанов в неё, теперь будут лететь обратно. Таков закон жизни.
В перемену он подскочил к ней, в его груди всё клокотало, он петухом наскакивал на Аринку, не зная, с чего начать: то ли вздуть как следует, то ли «обласкать» «хорошим» словом?
Та недоуменно таращила на него глаза и, якобы ничего не понимая, спрашивала:
— Ты чего это, Губанов? Что тебе надо?
— Ты, фефёла, смотри у меня! Не вылезай, когда тебя не спрашивают! А то я тебе покажу! Я тебе припомню!
В эту минуту сзади оказалась Шатерник. Улыбаясь, она спросила Губанова насмешливо:
— Что ты собираешься ей показать? И что она должна помнить? — И уже презрительно сказала ему: — Что ты, Губанов, всем угрожаешь? Всех стращаешь, всем прозвища даёшь. Что ты из себя строишь?! Противно смотреть на тебя.
Губанов резко повернулся к ней и, кипя ещё не остывшим гневом, грубо швырнул ей в лицо:
— А ты не суйся, головешка! Не твоё дело, черномазая кукла! Твой номер восемь, после спросим!
Шатерник побледнела, словно ей в лицо плюнули. Глаза её ещё больше почернели, она ими заморгала быстро и как-то жалостно.
Аринка вмиг поняла, что ей надо делать. «Ну подожди», — бушевало у неё в груди. Житья не стало от его обидных кличек. Это Вику Шатерник, самую красивую девочку, назвать головешкой? Только за то, что она смуглая. «Я тебе щас дам!!!» Раздув ноздри, шумно вобрав в них воздух, она бросилась догонять Губанова, вот она уже с ним поравнялась и, немного опередив, дала ему подножку. Чего-чего, а это она умела делать: Ивашка научил. Губанов шлёпнулся на пол, распластавшись как жаба, но тут же вскочил и со всей яростью налетел на Аринку. Хотел уже ударить её, но Шатерник, подбежавшая в эту минуту, встала между ними:
— Не смей руки распускать! Это она тебе за меня отомстила, ведь правда, Бойцова? Это тебе за «головешку».
— Ага! И за тебя, и за себя, и за всех! Чтоб не обзывался, не дразнился! — И, не гася в себе воинственного духа да ещё видя в Шатерник поддержку, она всё больше распалялась. Аринке вдруг страшно захотелось подраться, и именно сейчас, и не с кем-нибудь, а с Губановым, до чего же он ей насолил, что сил больше нет!
Сжимая и разжимая сухенькие кулачки, она прикидывала, как лучше бить его, кулаками или ногтями вцепиться. Но Шатерник всё время сдерживала её, заслоняя собой.
— Подожди, Бойцова. Мы сначала поговорим по-хорошему, без драки, — остужала она её пыл. — Вот так, Губанов. Если ты и дальше будешь так себя вести, этаким царьком, всеми повелевать, давать клички и прозвища, угрожать, то мы пообрежем твой язык и тебе дадим прозвище! Подумай хорошенько.
— Да-да, да ещё какое. Ой-ё-ё! — встряла Аринка.
На какое-то мгновение Шатерник задумалась. А собственно, какое она может дать ему прозвище, чтоб как можно больнее кольнуло его?
Аринка, поняв её замешательство, тут же выпалила, с необыкновенным воодушевлением и азартом, даже с наслаждением:
— ГУБОШЛЁПОМ будем тебя звать! Вотысё!
— О! — в восторге воскликнула Шатерник.
Это удивительно меткое прозвище сразило Губанова. Он знал свой недостаток, ненавидел его, и только этого не хватало, чтобы весь класс напоминал ему об этом. Он замер в оцепенении.
— Ну как? Нравится тебе твоя новая кличка? — издевалась Шатерник. — Значит, не Губанов, а Губошлёп! Здорово ты, Бойцова, придумала. — И, мстительно сощурив глаза, спросила: — А ей нравится, как ты её прозвал? Меня окрестил сейчас. Так как? Утихомиришься?
Глаза Губанова, злобой налитые, уничтожающе смотрели на девчонок, он готов был их съесть, разорвать на части. Ему хотелось их как следует поколотить. Только как? Шатерник — староста класса, да и отец у неё главный инженер завода, «шишка». Потом шуму не оберёшься. Сдерживая в себе кипящий гнев, глухим голосом проговорил:
— Только попробуйте. Я вам такое устрою, всю жизнь помнить будете!
— А что? Задело за живое? Значит, не нравится? — взахлёб затрещала Аринка.
Но Шатерник опять сдерживала её:
— Успокойся, Бойцова, не входи в раж.
— Куда не ходить? — переспросила она.
— Так, значит, людям можно ходить с кличками, а сам не хочешь? — язвительно-насмешливым тоном продолжала Шатерник. Она, как видно, решила доконать Губанова. — Ведь это несправедливо, Губанов. А?
— Так и знай, нас зови как хочешь, а мы тебя — Губошлёпом, вотысё! — лихо подтвердила Аринка. И опять она возгорелась сладостной мечтой подраться, никак она не могла унять себя. По-бравому выставив свою узкую, костлявую грудь, пошла на Губанова. Тот, доведённый до отчаяния, уже не владел собой, что есть силы толкнул Аринку.
— Уйди ты от меня! Ещё, зараза, пристала! — яростно выдохнул он.
Она, не в силах удержаться на ногах, всем телом ударилась об угол стены. Удар пришёлся по виску и скуле. Тоненькая струйка крови побежала по щеке. Тут же подскочила к ней перепуганная Шатерник, несколько девочек обступили её, помогая встать, потянули Аринку в медкомнату.
— Надо йодом залить, — суетилась Шатерник.
Но прозвенел звонок. Прижимая платок к разбитой скуле, Аринка направилась в класс.
— А ну его, ещё щипать будет. Не хочу, — беззаботно отмахнулась она.
Губанов, увидев залитое кровью Аринкино лицо, в панике сбежал в физкультурный зал и спрятался там в нише. И вдруг заметил, что к нему, с суровым выражением лица, подходит детдомовец Воронов. Губанов насторожился, подтянулся, не моргая уставился на него.
— Ты чего это? Чего это? — оторопело проговорил он, показывая всем своим видом, что нисколько не трусит.
Воронов уставился ему в лицо холодным взглядом, потом всей пятернёй сгрёб его за грудки и рванул на себя так, что рубашка Назара затрещала по всем швам. В этом рывке Губанов по достоинству оценил силу Воронова, недаром тот в спортзале поднимал самые тяжёлые гири. Приблизив Губанова к себе, он жарко задышал в испуганное лицо его.
— Если ещё раз ты, подхалимная рожа, тронешь хоть пальцем эту пичужку, или, как ты её зовёшь, «фефёлу», получишь хорошую выволочку от меня, так и знай! Ты понял, что я сказал?! — внушительным тоном проговорил Воронов.
С силой оттолкнув Губанова, Захар пошёл прочь. Губанов дрожащими руками торопливо стал оправлять рубашку на себе, зло крикнул Воронову вслед:
— Подожди, приютская морда! Я тебе припомню, так и знай!
Захар вздрогнул, живо обернулся и, прищурив тёмные глаза, в которых заплескались и ярость, и обида, и горечь, смело пошёл на Губанова.
— Что ты сказал?! Как ты меня назвал?! Повтори, как ты меня назвал?! — зловеще говорил он, бледнея.
Губанов стрелой помчался в класс. Тяжело дыша, плюхнулся на своё место и замер. Прозвенел второй звонок. Вместе с Александрой Николаевной вошёл Воронов, своей неторопливой, качающейся походкой. Когда она оглядела внимательно весь класс, ей показалось странным, что Бойцова, которая всегда встречает её открытым восторженным взглядом, на этот раз упорно смотрит в окно.
— Бойцова, а что ты там интересного увидела? Скажи нам, мы тоже посмотрим, — проговорила она, не отрывая настороженных глаз от Аринки.
«Заметила-таки, вот глазастая», — подумала Аринка и села прямо, низко опустив голову.
— А ну-ка, ну-ка, посмотри на меня! — Александра Николаевна вплотную подошла к Бойцовой. — Это что такое?! Кто тебя? — перепугалась Александра Николаевна.
Расшибленная скула Аринки вздулась, глаз, закрытый отёком, едва видел. Рана, хотя и не кровоточила, но выглядела ужасно в свежезапёкшейся крови. Аринка нехотя встала, неопределённо пожала плечами, показывая всем своим видом, что, в сущности, причин для волнения нет.
— Так всё же что случилось, ты можешь сказать? — допытывалась Александра Николаевна.
Аринка покосилась на Губанова. Тот, грудью навалившись на стол, весь сжался. Он ждал, что сейчас Бойцова, как и подобает девчонке, расхнычется и начнёт ябедничать. Но Аринка, к полной неожиданности не только его, но и всего класса, сказала:
— Я сама расшиблась. Бежала-бежала и прямо ударилась об угол. Вотысё.
— Да? Это интересно. А где же у тебя глаза были в это время? Что, ты не видела угла? А? — не успокаивалась Александра Николаевна.
— Разрешите мне сказать, — вдруг выступила Шатерник. — Бойцову толкнул Губанов. Она не удержалась на ногах и ударилась об угол.
— Так, всё понятно, — холодно проговорила Александра Николаевна. — Губанов, это правда? За что ты толкнул Бойцову? Да так сильно, что у неё лицо всё в крови?
Губанов поспешно вскочил, какую-то минуту молчал, собираясь с духом. Потом, подобрав свою отвисшую губу, заговорил быстро и озлобленно:
— А чего ж она мне подножку подставила? Я тоже полетел на пол и мог бы разбиться сам или нос расшибить. Что, я буду терпеть от этой фефё...
— Бойцова, это правда, что говорит Губанов?
— Правда! — отрезала Аринка. — Но я не зазря, а за дело! Вотысё!
— Да? Я не знала, что ты такая бедовая. У тебя прямо бойцовский характер. А за какое дело ты дала ему подножку? — озадаченно спросила Александра Николаевна, разглядывая Аринку.
— Потому что он всем прозвища даёт. Всех дразнит плохими словами. Значит, за дело схлопотал!
Александра Николаевна задумчиво прохаживалась вдоль столов, потом сокрушённо сказала:
— Как это нехорошо. Что за манера называть людей не полным именем, а по кличкам, по прозвищу? Не стыдно тебе, Губанов, так обращаться к своим товарищам? — Помолчав, прибавила: — Смотри, у девочек язык острый, как бы они тебя не поддели, будешь тогда и ты ходить «меченый».
Услышав такое, он заёрзал, заволновался, а вдруг сейчас эта фефёла ляпнет. Бойцова видела его нервное состояние и, лукаво косясь на него, как бы хотела сказать: «А вот возьму и скажу». Но Аринка молчала, она поняла, что на Губанова накинута узда и он теперь будет другим, хотя бы из боязни, чтоб его не прозвали Губошлёпом.
Аринкино молчание оценила и Шатерник, она обернулась и с радостным изумлением посмотрела на нее, одобрительно кивнув головой.
— Итак, всё. Конфликт исчерпан, начнём занятие. Губанов, ты все уяснил, что я сказала? Бойцова, иди в медкомнату, пусть смажут рану.
— Ништо. В перемену сбегаю. Я не хочу пропускать урок, — отмахнулась Аринка и села на место.
Губанов же сидел пришибленный. Он понял, что на него надет намордник, а его нутро не хотело мириться с ограничениями. Но где-то в глубине души он всё же оценил поступок Бойцовой. Она оказалась с непонятным для него характером. Он, пожалуй, так не смог бы поступить со своим недругом.
В перемену Бойцова побежала вниз в медкомнату. Ранку обработали, немного пощипало, но она перетерпела. Наклеили белый крест из пластыря. Она пулей вылетела из медкомнаты и тут же наткнулась на Воронова. Зачем он здесь, может быть, у него зубы заболели или живот? Аринка осторожно хотела его обойти стороной. Всё-таки она его побаивалась, как-никак приютский, растёт без родительского надзора. Да и вид у него какой-то, вечно замкнутый, смотрит на всех исподлобья, лучше с ним дело не иметь, а держаться подальше, решила Аринка. Но он упрямо встал перед нею, загородив собой дорогу.
— Ты чего это? — растерянно спросила она.
— Очень больно? — вдруг спросил он, сочувственно разглядывая пластырь на её скуле.
— He-а, я терпеливая. А что? — спохватившись, задала она вопрос.
Захар неловко переминался с ноги на ногу, явно желая ей что-то сказать, но не решался. Он ещё раздумывал. Хотя её сегодняшняя потасовка с Губановым и мужественное поведение при ответах на вопросы Александры Николаевны уже не вызывали сомнений: конечно, она стоящая девчонка и ей можно доверить тайну. А у него была тайна.
Аринка терпеливо и выжидательно смотрела на Воронова. Была возможность близко рассмотреть его: высокий широкий лоб, густые тёмные волосы зачёсаны набок. Чёрные брови вразлёт, прямой и короткий нос. Губы пухлые, с ямочками по краям, а глаза чёрные-пречёрные, внимательные и строгие. Аринка пришла к положительной оценке: «А он мальчик ничего, вполне симпатичный. Только одет неважно, но что делать, он не сынок состоятельного папаши».
— Послушай, Бойцова... — снова заговорил Воронов и опять уставился на неё.
У Аринки плеснулась шальная мысль: а не вздуть ли он её хочет? И она тут же, сжав кулаки, приготовилась к обороне, одновременно посматривая по сторонам, куда бы дать дёру. Но он как стена навис над нею.
— Ты чего это? — спросила она, придавая своему голосу беспечный тон, тем самым гася внутреннюю тревогу. И бог знает, куда бы унесла её разыгравшаяся фантазия, если бы Захар не заговорил.
— Ты вот что, — сказал он с угрюмой враждебностью, — больше не бойся Губанова. Теперь он не посмеет тебя тронуть. И «фефёлой» звать не будет. Я давеча поговорил с ним «по душам». Не бойся.
— А я и не боюсь! — бойко отпарировала Аринка. — Видали мы таких! — И, глядя ему в самые зрачки, задорно добавила: — Я вообще никого не боюсь. — И, придавая особый смысл этим словам, она выжидательно замерла. Лишь ресницы тревожно затрепетали. Понял ли он намёк?
— Ну, неужели так-таки никого и не боишься? — удивился Захар и вдруг улыбнулся. Лицо его моментально преобразилось, стало открытым и доброжелательным.
Аринка, видя эту перемену, тоже улыбнулась.
— Только мышей и крыс боюсь. До страсти боюсь! — призналась.
— А у нас в детдоме тоже все девочки мышей боятся. Теперь мы кошку завели, а у неё родились котята.
— Ну ладно, я пошла! — Её так и подмывало уйти поскорей; не терпелось показаться всем.
— Послушай, — сказал Воронов, осторожно коснувшись её руки. — Ты умеешь молчать? Я кое-что хочу тебе показать. Но только никто не должен знать. Никто! — Он напряжённо глядел на Бойцову.
— Кто, я? Молчать? — с жаром выкрикнула Аринка. — Да чтобы у меня глаза лопнули! Умру, но никому не скажу, если надо! Вотысё!
— Тише, чего ты орёшь-то, — одёрнул её Захар. — Давай отойдём к свету. — Они подошли к стеклянной двери парадного входа: им давным-давно никто не пользовался, здесь было светло и тихо, ребята не забегали сюда.
Воронов торопливо вынул из кармана своих стареньких брюк бумагу, свёрнутую трубочкой, и, разворачивая её, один лист сунул Аринке:
— Гляди и говори, кто это?
Аринка нацелилась одним глазом, склонив голову набок, как курица, отвела бумагу подальше, какую-то минуту молчала, потом охнула:
— Батюшки! Так это ж Филин! Он! Точно он!
Захар поспешно вырвал лист, подсунул другой.
— А это? — с замиранием спросил он.
— Так это ж Александра Николаевна. Точно, она!
Со стороны казалось, будто они играют в игру угадайку, один показывает, другой угадывает.
— Всё! Так ты считаешь, что они все похожи на себя? — затаённо спросил.
— Ещё как похожи! Как есть живые. А скажи, кто их нарисовал?
Захар, робко улыбнувшись, смущённо опустил голову.
— Я, — чуть слышно проговорил он.
— Ну да! Врёшь! — наотрез не поверив, выдохнула Аринка.
— Правда. Зачем мне врать? Зачем мне тебя обманывать?
Аринкин глаз засветился торжеством и удивлением.
— Вот здорово! — звучным голосом сказала она и была полна желания сейчас же бежать и всем рассказать об этом чуде. Но вспомнила обет молчания и возгордилась тем, что Воронов для такого великого дела, как показ своих рисунков, выбрал именно её.
— А вот ещё посмотри, — не без робости сказал Захар и подал Аринке лист с затаённой улыбкой. — Кто это?
Аринка глянула и застыла с полуоткрытым ртом. Она судорожно глотнула и словно в испуге прошептала:
— Кажись, я.
— Что значит «кажись»? Ты что, сама себя не узнаёшь? — с обидой спросил Захар. Спохватившись, Аринка тут же оговорилась:
— Так я же себя не знаю, редко смотрю в зеркало. Я же некрасивая, а тут нарисовано будто и ничего, симпатичная девочка. — Теперь она уже неотрывно смотрела на лист бумаги, на котором, «кажись», была она.
— А можешь ты мне отдать эту картинку? — несмело спросила она.
— Это не картинка, это портрет называется, — поправил её Воронов. — Возьми, если нравится. Только никому, как уговорились!
— Ни боже мой! Я же дала слово, — твёрдо уверила Аринка. — А скажи, ты сам научился или тебя кто научил так рисовать? — спросила Аринка, всё ещё веря и не веря в такое чудо.
— Я, как помню себя, всё время рисовал. Рисовал на песке, на стене, мелом, углём, на досках и даже на берёсте. Аркадий Семёныч, наш директор детдома, всё это приметил и на день рождения купил мне краски, альбом, кисточки. И с этого началось. Для меня Аркадий Семёныч как родной отец. Он меня пятилетним подобрал в пустой избе. Отца на войне убило, а мать от тифа умерла. Так он меня всё время с собою таскал, под телегой вдвоём спали. А потом в детдом определил, а вскоре сам стал директором этого дома. Он очень хороший человек и любит детей. А свои дети и жена его все умерли от тифа. Он совсем один... — В голосе Захара звучала такая нежность и тепло к своему директору, что Аринка поняла: любит он его как родного отца. А она-то думала, что приютский, безродный. Какой же он безродный, когда рядом с ним такой хороший, заботливый человек. — А теперь вот занимаюсь с нашим учителем рисования, с Осипом Петровичем, — продолжал рассказывать Воронов. — Он приглашает меня к себе домой, а иногда мы ходим в лес и на озеро, рисуем природу с натуры. Он учит, как правильно подбирать краски, как находить и располагать натуру. — Помолчав, мечтательно добавил: — Может быть, я после средней школы поеду в Ленинград в Академию художеств поступать. Осип Петрович говорит, что у меня есть данные.
Аринка недоуменно таращила глаза. «А я-то его чуть ли не бандитом считала, вот тебе и приютский», — думала она, и ей стало страшно стыдно, что она шарахалась от него, когда он пытался заговорить с нею.
— Как-нибудь я попробую нарисовать тебя красками. У тебя ведь очень выразительные глаза. А глаза в лице — это всё! Но для этого надо, чтоб ты мне попозировала.
— Чего от меня надо?! — испуганно встрепенулась она. — Как ты сказал?
— Ну, посидеть спокойно, не двигаясь.
— А, это можно, запросто, — охотно согласилась Аринка.
Прозвенел звонок. Свернув в трубочку портрет, они отправились на второй этаж. Встретив Бойцову с пластырем на скуле, Андреева с Шатерник участливо спросили:
— Ты что так долго? Больно было? Наверное, зашивали?
— Ага, зашивали, всё это время шили и шили. Вот такой иглищей зашивали. — И, раскинув руки, Бойцова показала, какая это была «иглища».
Андреева и Шатерник недоуменно переглянулись, с сомнением посмотрели на Бойцову.
— Ты что? Раны зашивают вот такими малюсенькими иголочками, полукругленькими. Я видела, мне руку зашивали, — авторитетно заявила Андреева.
— Да? Может быть, и такими. У меня глаза-то были закрыты, — покладисто согласилась Аринка.
В класс она вошла героем, в почётном сопровождении Андреевой и Шатерник.
Все ребята оторопело уставились на её белый пластыревый крест на распухшей скуле. Бойцова, вскинув голову, неторопливо прошествовала на своё место. Только жаль ей было, что путь этот очень короткий. Ей хотелось идти, идти до бесконечности, под взглядом этих растерянно-сочувствующих глаз.
После уроков Андреева и Шатерник предложили проводить Бойцову: боялись Губанова, как бы он «не намылил ей шею». Но Аринка, хотя и была польщена таким предложением, категорически отказалась:
— Ещё чего! Видали мы таких! Я и не боюсь его ничуть!
— О-о-о-о! Ты такая храбрая? — восхищённо воскликнула Шатерник и с любопытством посмотрела на неё. Подстёгнутая такой оценкой, Аринка решила сразить их.
— Ха! Да я в деревне схвачу двух мальчишек за шиворот, стукну их лбами и расшвыряю их в разные стороны, да... — Она хотела что-то ещё сказать, но вовремя спохватилась и застыла в беспокойном напряжении. «Поверили или не поверили?» — мелькнуло в голове.
— О-о-о-о! — проговорила Шатерник.
— Неужели? — вторила ей Андреева, и обе довольно странно переглянулись. — Тогда наши услуги ни к чему, — с двусмысленной ухмылкой сказала Андреева. — Идём, Вика. До свидания, Бойцова.
— До свидания, — с грустным разочарованием сказала Аринка, совершенно не понимая, зачем она отказалась от их проводов? Она же так мечтала об их обществе. Наконец, зачем она натрепалась о мальчишках? Да никогда в жизни она никого лбами не стукала. Что это? Опять её понесло? Должно быть, и правда это болезнь у неё такая. Вспомнились слова Симона: «Люди-то смеяться над тобой будут. Скажут, не все дома у девки, без царя в голове живёт, коль всё время врёт». Нет, так невозможно жить. Ведь может быть такое, что сам себе вредишь, сам себе в тягость.
Но, подумав хорошенько, она всё же нашла для себя оправдание: всё правильно, пусть не думают, что она трусиха. А потом она доказала им, что она не так уж и нуждается в их обществе. Аринка помнила, как они отшвырнули её от себя в первый день в школе. Короче, чего теперь себя корить, что случилось — то случилось. Она быстро побежала домой, опасливо оглядываясь по сторонам. И тут увидела: на той стороне улицы неторопливо шёл Воронов. Его куцый пиджачок распахнут, руки всунуты в короткие брючонки. Зачем он идёт здесь? Ему же совершенно не по пути? И тут она поняла, что он идёт за нею, охраняя её от Губанова. От этой мысли ей так стало радостно на душе! Кажется, у неё появился друг. Хороший настоящий друг! Она со всех ног устремилась к дому. Не терпелось всё рассказать Марии Георгиевне.
Что за дети?
Мария Георгиевна, увидев Аринку в таком виде, охнула, всплеснула руками и засуетилась возле неё:
— Боже мой, боже мой, что случилось? Кто тебя так расшиб?
— Никто! Я сама расшиблась, — твёрдо отрубила она. — Сама! Вотысё!
— Не может быть! Это кто-то тебя ударил. Это что же за безобразие творится в вашей школе? — негодовала Мария Георгиевна. Видя такое её расстройство, Аринка созналась во всём. Вздёрнув нос, отважно добавила в конце:
— Со мной, брат, шутки плохи, видали мы таких!
Совершенно сбитая с толку, Мария Георгиевна растерянно cмотрела на Аринку, не в состоянии оценить происшедшее. «То ли она наговаривает на себя, то ли она действительно озорница», — подумала про себя.
— Это нехорошо. Ты девочка и должна вести себя скромно. Я не ожидала в тебе таких воеводских наклонностей, — укоряла её Мария Георгиевна, — ты меня огорчила.
Но Аринка была ещё в том разгорячённом состоянии, когда «воспитательные» слова на неё не действовали. Она продолжала ершиться:
— Ишь как! Мне, значит, всё терпеть от него и ещё молчать?! Я и так долго молчала. Мой тятя говорит: в обиду себя не давай, иначе залягают. Другу — хлеба краюху, а недругу — оплеуху.
— Ах, боже мой! Что за дети пошли? — Мария Георгиевна, как бы ища сочувствия или поддержки, обратилась к стоявшей на пороге Алевтине Кондратьевне: — Вы послушайте, как она рассуждает, что говорит. Ну что за дети? Пришла вся разбитая, в синяках. С мальчишкой подралась! Каково?
Хозяйка хотела что-то сказать, но раздумала, ещё туже завязала свой ротик-узелок и удалилась прямая, несгибаемая.
Мария Георгиевна обескураженно посмотрела ей вслед и тоже ушла в свою комнату, явно огорчённая, сознавая своё полное бессилие перед такими детьми, как Аринка.
Та, оставшись одна, тотчас спохватилась: кажется, в чём-то она опять переборщила. Ей хотелось, чтоб Мария Георгиевна оценила по заслугам её «подвиг» и одобрила, а получилось наоборот. С убитым видом, с повинной головой она пошла к Марии Георгиевне и ещё больше расстроилась, когда увидела, что та наливает капли из пузырька.
— Мария Георгиевна, вы не расстраивайтесь, — начала Аринка, — я больше не буду с мальчишками драться. А насчёт скулы, так мне и не больно ни чуточки, всё пройдёт, на мне как на собаке всё заживёт. Мне и Воронов говорит, что с этим злодеем Губановым связываться не стоит. Он может дружков своих науськать, и они меня отдубасят по первое число.
Мария Георгиевна выслушала её с большим вниманием, сказала озабоченно:
— Да, да, ни в коем случае не связывайся с мальчишками. Это хорошо, что ты сама понимаешь. Все они драчуны и негодники, — и тут же, насторожившись, быстро переспросила: — А кто это Воронов? Что это ещё за Воронов?
Аринка хитро прищурила свой здоровый глаз.
— Сейчас я кое-что вам покажу, — таинственно прошептала она и шмыгнула в свою комнату. Через минуту вернулась. — Вот. Посмотрите! Это же я! Мой портрет! — торжественно изрекла она.
Мария Георгиевна отвела подальше от глаз лист бумаги и замерла.
— Прекрасно, — сказала она, — великолепно схвачен характер, и сходство поразительное.
Аринка зарделась. Вот какой у неё друг появился!
— А кто же он? Кто его родители? — спросила Мария Георгиевна, всё ещё держа портрет в руках и любуясь им.
— Нет у него родителей, он детдомовский.
— Ах, боже мой, какая жалость! А директор детдома знает о его способностях? Знает, что у него такой талантливый питомец есть?
— Знает, знает. Он ему краски покупает на свои деньги.
— Это хорошо. Может, он будет настоящим художником. В нём есть искра божия. Только надо развивать её. Много работать, быть одержимым в своём деле. Искусство ленивых не любит.
Аринка жадно ждала, что она ещё скажет про Воронова, ей приятно было слышать такие отзывы о нём.
Вечером, когда она проводила Марию Георгиевну на работу в кино, обратно летела на рысях, опасливо поглядывая по сторонам. А когда дошла до своего дома, умерила шаг, отдышалась и, дёрнув плечами, вызывающе сказала неизвестно кому, скорей всего себе:
— Подумаешь, видали мы таких! Я и не боюсь вовсе!
Кто такая Мария Георгиевна?
Бывает в жизни так: встретятся два незнакомых человека, поговорят час-другой и покажется им, что они очень давно знают друг друга. Так случилось с Марией Георгиевной и Аринкой.
В тот день, когда Аринка не встретила, как обычно, Марию Георгиевну у порога своей комнаты, тяжкое предчувствие охватило её. Вбежав к себе, бросив ранец на стул, жакетку — на другой, она на всех парах хотела влететь к Марии Георгиевне, но хозяйка остановила:
— Не ходи туда. Там доктор.
У Аринки упало сердце, она оторопело остановилась у двери и застыла, как часовой на посту. Надо было дождаться выхода доктора, спросить обо всём. Вскоре вышел и он. Держа в руках рецепт, спросил:
— Кто сходит в аптеку?
— Я! Я схожу! — с готовностью отозвалась Аринка.
Доктор, седенький старичок, глядя из-под очков, любезно осведомился:
— Вы будете родственница больной?
— Да! — решительно ответила Аринка, нимало не смущаясь своей лжи.
— Тогда, милочка, потрудитесь зайти ещё вот по этому адресу, там возьмёте пакет с сухими травами.
— Хорошо. Я всё принесу, — сказала она и, не отрывая от доктора встревоженного взгляда, тихо спросила:
— Она не умрёт?
— Ну зачем же. Нет, нам пока это не угрожает, — дружелюбно улыбаясь, проговорил он. — Впрочем, мы все смертны...
— Пожалуйста, полечите её получше, я вас очень прошу, чтоб она скорее поправилась, — умоляюще проговорила Аринка, почти перебивая его.
Доктор, приподняв очки, смерил её заинтересованным взглядом.
— Придётся. Раз так просите, придётся, — и, похлопав Аринку по плечу, успокоил её: — Всё будет хорошо, не волнуйся. — Поклонившись, торопливо удалился.
Вскоре умчалась и Аринка. А когда вернулась и вошла в комнату Марии Георгиевны, то увидела её, хотя и лежащей в постели, но вполне в хорошем состоянии. Она встретила Аринку ласковой улыбкой, иронически усмехнулась:
— Видишь, а мы соизволим возлежать. Нам немножко занемоглось.
Аринка с подозрительным сомнением посмотрела на неё. «Храбрится или действительно ничего страшного», — подумала она про себя.
Мария Георгиевна, увидев озабоченный вид её, спросила:
— А что, детынька, никак ты и вправду встревожилась за меня? Я слышала твой разговор с доктором. Спасибо тебе.
Аринка подошла к постели, села молча на краешек стула. В её глазах была такая печаль, что Мария Георгиевна, тронутая до глубины души, ласково проговорила:
— Ты хорошая, добрая девочка. Будь всегда такой. Доброму человеку легче живётся, чем злому.
Лицо её сделалось печальным. Она что-то вспоминала или просто размышляла. Аринка не мешала ей. Потом, бросив невесёлые мысли, Мария Георгиевна обратилась к Аринке заинтересованно:
— Ну как дела в школе-то? Какие отметки, что по немецкому?
Аринка, вмиг оживившись, полностью поверив, что Марии Георгиевне не так уж и плохо, ответила горячо и с задором:
— По немецкому «очхор»! Я их всех уложила намертво, когда обратилась к немке по-немецки. У той свалилось пенсне с носа, а она и не заметила. Смотрит на меня и не знает, что говорить, а я ей опять по-немецки: «Пожалуйста, я вас слушаю». Поставила в журнал «очхор» и ничего не спросила. «Очхор» и всё тут!
— Молодец! Вот видишь, и я на что-то сгодилась, — искренне радовалась Мария Георгиевна, но тут же, меняя тон, проговорила строгим и решительным голосом: — Ты у меня будешь знать немецкий язык, как свой. Через два месяца я буду говорить с тобой только по-немецки. А сейчас десять слов в день учи. — Мария Георгиевна устремила взгляд вдаль, словно пытаясь увидеть то далёкое далеко, где будет жить Аринка, и, почём знать, может быть, ей пригодится немецкий язык. Почём знать?
— Ой, как это здорово! Я буду стараться, Мария Георгиевна, очень стараться. Только вы не болейте, пожалуйста, — прощебетала Аринка.
Мария Георгиевна сказала:
— Пусть тебе хоть это останется памятью обо мне. Может быть, и вспомнишь когда добрым словом меня. — Она закрыла глаза и вяло проговорила: — А теперь я хочу отдохнуть, а ты иди уроки делай. А потом придёшь ко мне, мы поговорим.
Вечер Аринка провела у постели больной. Напоила её липовым чаем, дала лекарство, а потом, поудобнее устроившись возле неё, попросила рассказать о себе.
— Ну что же тебе рассказать? — задумчиво проговорила Мария Георгиевна.
— Как вы были маленькой или такой, как я, девочкой, — подсказала Аринка.
— Вот меня часто спрашивают, и хозяйка наша об этом говорит, да и ты, наверное, подумываешь, как это, мол, Мария Георгиевна, образованный человек, дожила до старости, а у самой ни кола ни двора. Живёт одна-одинёшенька в маленькой каморке, и то не в своей, а наёмной? Говорят, молодость дана для того, чтобы устроить свою старость. Но молодость и для другого даётся. Я много ездила по белу свету, много повидала стран, людей, мне есть что вспомнить. Я никогда не стремилась к обогащению, потому что вещи порабощают человека. А я хотела быть свободной. Есть люди... — Мария Георгиевна задумалась. — Спроси у них, где они были, что видели, чем жили, кому добро сделали? Вся их жизнь — это копить пожитки. Их жизнь — стоячее болото.
Аринка с пытливым интересом слушала Марию Георгиевну, а та, оживившись, стала говорить всё более вдохновенно:
— Я окончила в Петербурге консерваторию, стала неплохой пианисткой. Аккомпанировала одной знаменитой в то время певице. Мы с ней и разъезжали по всему свету. Она очень хорошо пела, нас засыпали цветами, оглушали аплодисментами. Однажды, когда мы были в Швейцарии и давали там концерты, в тысяча девятьсот пятом году, в России произошло страшное событие. Рабочие пошли к царю с просьбой, а он их встретил шквальным огнём.
— О, я знаю, знаю, стихотворение есть такое, — порывисто перебила Аринка. — «Их были тысячи, они молитвы пели и шли сказать царю, как горек их удел. Их залпом встретили, их шашками рубили...» Это стихотворение я читала со сцены у нас в деревне.
— Совершенно верно, — продолжала Мария Георгиевна, — мы узнали об этом из газет. Певица моя отнеслась к этому хладнокровно, её интересовала только слава и деньги. А я очень взволновалась и была буквально потрясена. И вот как-то после концерта к нам за кулисы пришёл молодой человек с цветами. Заговорил по-русски. Как я была рада услышать родную речь. Оказалось, что он из Петербурга, эмигрант. В то время много было людей за границей, они скрывались там от царского правительства, от тюрем и ссылок. На другой день он ждал меня у выхода и тоже с цветами, с моего разрешения пошёл провожать. А когда он узнал, что мы скоро возвращаемся в Россию, то попросил меня захватить маленькую посылочку и передать в Петербурге на вокзале. За ней должен был прийти мужчина с тремя красными розами, только ему можно было отдать ту посылочку. Я взялась выполнить это поручение. Так состоялось моё первое знакомство с настоящим революционером. Я стала своего рода связной. Провозила в шляпных коробках с двойным дном и более серьёзный багаж. Это была нелегальная литература, то есть запрещённая в России. Где бы мы ни были, во Франции, в Германии, во мне везде нуждались. Всё делалось от имени моего первого знакомого революционера, а имя его было простое — Тит. Люди приходили и говорили: «Мы от Тита». Впоследствии я опять встретилась с Титом, он очень много говорил о революционерах, о Марксе и марксистах, о Ленине. Об их борьбе за светлое будущее, о борьбе с царским режимом. Как-то он пригласил меня в свой марксистский кружок. Впечатление было огромно. У меня словно пелена спала с глаз. Я увидела жизнь совсем другую, в которой важны не обогащение, не деньги, не забота о своей персоне. Есть цель более благородная и нужная — это борьба за лучшую жизнь на земле, за всех обездоленных и угнетённых, за их счастье. И с тех пор я стала марксисткой. Взялась за работу с большим рвением, с риском и опасностью для себя выполняла любое задание. Меня, как и других революционеров, могли посадить в тюрьму или сослать в Сибирь. Но это нас не страшило. Сколько наших товарищей томилось в ссылках, в тюрьмах. Они, возвращаясь оттуда, опять принимались за своё дело. Понимаешь, Ариночка, это были люди особого сорта, особой породы. Они боролись не за деньги, не за славу, они боролись за ИДЕЮ. Почти все из них были бедными людьми. И вот когда совершилась революция в тысяча девятьсот семнадцатом году в России, когда настала победа, тогда мы все вздохнули свободно. Наш труд не пропал даром.
Тогда мы вернулись на Родину. Мы с Титом были уже мужем и женою. Я оставила свою аккомпаниаторскую работу. Стали вместе восстанавливать культурную жизнь в городе. Я заведовала отделом культуры в Петрограде.
Аринка осмелилась спросить:
— А где сейчас ваш муж?
Мария Георгиевна как-то погрустнела, лицо её замкнулось. Аринка была уже и не рада, что выскочила с этим вопросом. Мария Георгиевна горестно сказала:
— Его нет в живых. Он погиб в гражданскую войну в Сибири, в боях с Колчаком.
Аринке как-то хотелось выразить ей своё сочувствие, но она не знала, что сказать. Тихо коснулась руки женщины и нежно погладила. Мария Георгиевна, с трудом оторвавшись от своих тяжких дум и воспоминаний, вновь обратилась к Аринке:
— Моя девочка, жить для людей, для их счастья — это большая радость. И я ни о чём не жалею. Моя жизнь принадлежала великому делу, и я безмерно счастлива, что и моя доля есть в этом деле. Только вот я думаю о грядущем поколении, о вас: сможете ли вы оценить это всё?! Нас окружают злые силы, всё может случиться, и сумеет ли ваше поколение защитить свою Родину, отстоять завоевания Октября? Мне почему-то кажется, что сможет! Если потребуется! — уже более решительно сказала она. Мария Георгиевна умолкла. Аринка в смятении смотрела на неё, не зная, что и сказать.
— Конечно, сможет! — убеждённо повторила она.
— Я работаю не потому, что мне нужны деньги, — заговорила опять Мария Георгиевна. — У меня хорошая пенсия, но не работать я не могу. Ещё древние говорили: «Жизнь — это движение». Пока силы есть, хожу потихоньку. Этот городок дорог для меня как память детства. Здесь жила моя бабушка, и я маленькой девочкой иногда с матерью приезжала сюда. В Ленинграде есть дом для старых революционеров, теперь больных и слабых, вроде меня. Там есть все условия для спокойной, беззаботной жизни. Меня зовут всё время туда. А я вот, старая, всё ещё скриплю, бодрюсь, но этой весной, наверное, уеду. Всему есть предел, — уже отрешённо сказала она.
Аринка после таких слов почувствовала себя растерянной и несчастной. Потерять Марию Георгиевну было для неё большим горем.
— Ну уж, чего там уезжать-то, — совсем пав духом, заговорила она. — Я, что ль, не помогу. Буду водить на работу и с работы приведу. А может, вас возить бы на чём? Хоть бы на тележке какой. Я бы могла!
Мария Георгиевна, растроганная до слёз, погладила Аринку по щеке:
— Ты славная, добрая девочка, спасибо тебе. Но ты не горюй, мы ещё поживём. У нас целая осень и зима впереди, это много. А теперь давай-ка спать, уже поздно. Дай мне лекарство и иди.
— В случае чего, вы мне в стенку стучите, — наказала Аринка, хотя сама не была уверена, что от этого стука проснётся.
Долго, очень долго не могла заснуть Аринка, всё думала о Марии Георгиевне.
Аринка в гостях
В воскресенье Мария Георгиевна попросила Аринку сходить на базар, купить молока и яблок. Долго она ходила по молочным рядам, подставляя крышку бидона каждой молочнице, и просила налить молока для пробы. Нет, у этой молоко снятое, а у этой разбавлено, у той с кислинкой. Наконец напала на то, что надо: и свежее, и цельное, неразбавленное.
— Ишь ты, маленькая, а разбирается, — судачили про неё молочницы.
С яблоками тоже было нелегче. Целый базар, а какие купить?
— Покупай, девочка, очень хорошие яблочки, — предлагали наперебой.
— А откуда я знаю, что они хорошие? — лукаво спрашивала Аринка.
— Возьми попробуй, за пробу деньги не берём.
Аринка выбрала самое лучшее яблоко, попробовала.
— Очень вкусное, — сказала она. — А откуда я знаю, что они все такие вкусные, может быть, мне просто попалось такое, а остальные плохие?
— Да откуда ты взялась такая привередливая? Все яблоки одного сорта.
— Я за деньги покупаю, а не задаром беру, потому и хочу хорошие купить.
Стали торговаться. Мужик не уступал, 50 копеек мерка, и всё тут.
— А я тогда к другому пойду, раз такой жадина, там дешевле куплю.
— Тьфу, вот ведь какая несговорчивая девка попалась. Ладно. Бери.
Аринка была счастлива, она выторговала пять копеек. Расскажет Марии Георгиевне. Та, наверное, похвалит её за экономность и хозяйственность.
Она хотела уже бежать домой, как вдруг нос к носу столкнулась с Шатерник.
— О! — приветствовала та своим неизменным «о». — Что ты здесь делаешь? А, вижу, покупками занимаешься.
— Да. Марии Георгиевне вот купила молока и яблок, — радостно ответила Аринка.
К ним подошла женщина, очень миловидная и совсем молодая.
— Познакомься, Бойцова, это моя мама. Мы похожи, нет?
Аринка вежливо поклонилась, но она не знала, что в таких случаях надо говорить. Посмотрела на ту и другую и просто ответила:
— Нет, вы не похожи. Ты красивее, Вика... — Но, чувствуя, что сказала не то, тут же выправила положение: — Мама твоя тоже красивая, только у неё глаза не чёрные, как у тебя.
Мать Шатерник рассмеялась:
— Боже, какая непосредственность. Вика, твои акции поднялись. Радуйся.
Аринка смутилась: кажется, опять попала впросак. Какие «акции» поднялись у Шатерник?
— Так я пойду, до свидания, — заторопилась Аринка, чувствуя себя неловко, и быстрым шагом пошла прочь. Мать с дочерью о чём-то посовещались.
— Бойцова, подожди минутку, — окликнула её Вика.
Аринка остановилась, нехотя пошла навстречу к ней.
— Мы с мамой приглашаем тебя сегодня к трём часам в гости. Придёшь?
Окончательно смутившись, Аринка стала отнекиваться. Но мама Шатерник, взяв её за руку, с мягким укором проговорила:
— Когда приглашают в гости, отказываться неучтиво. Мы ждём тебя.
— Ты слышала, Бойцова, что сказала мама? Отказываться неучтиво.
Под напором такого настойчивого приглашения Аринка сдалась.
— Хорошо, я приду, — коротко ответила она, ещё толком не разобравшись, правильно она делает или нет.
— Наш дом за базаром, каменный, самый большой. Вход с улицы. Поняла? — сказала Вика и наградила Аринку самой чарующей улыбкой.
Как только они скрылись из виду, Аринка помчалась во весь дух, придерживая бидон на расстоянии от себя, чтоб не расплескать молоко. «Я приглашена в гости, я иду к Шатерник в гости!» — хотелось ей громко крикнуть всем. Запыхавшись, не помня себя, влетела к Марии Георгиевне в комнату без стука, затараторила на одном дыхании:
— Вот молоко, вот яблоки, вот пять копеек сдачи, а мне некогда, я...
— Постой-постой! — ничего не понимая, остановила её оторопелая Мария Георгиевна. — За тобой гнался кто-то? Что случилось? Ты же сейчас взорвёшься. Успокойся, отдышись, отдохни.
— Отдыхать-то некогда, меня, чай, в гости пригласили, надо собираться.
— Вон оно что?! В гости? Это хорошо. Кто же тебя пригласил, если не секрет? — с улыбкой спросила Мария Георгиевна.
— Сейчас на базаре повстречала Шатерник с мамой, они меня и пригласили. Её мама сказала: если, мол, не придёшь, то обидимся. Так вот, делать нечего, надо идти, — утвердительно проговорила Аринка и, возбуждённая, выскочила из комнаты.
Мария Георгиевна считала своим долгом помочь ей в сборах, заковыляла за ней следом.
Сразу встал вопрос, в чём идти.
В этом коричневом платье, в котором она ходит каждый день в школу? Не подходит.
— У тебя больше ничего нет? — спросила озабоченно Мария Георгиевна.
— Ничего, — увядшим голосом пролепетала Аринка. Не бывать ей в гостях. Безысходная грусть охватила её. Мария Георгиевна с жалостью смотрела на неё и не знала, чем помочь. Ведь за полтора часа не сошьёшь платье?
— Ну неужто так ничего и нет? — уже в сердцах спросила она, как бы тормоша Аринкину память. И тут Аринка мигом подскочила, бросилась к своему фанерному чемоданчику, вытащила его из-под топчана, закричала радостно:
— Есть! Как же, есть! Мой парадный костюм, в котором на первомайскую демонстрацию я ходила! Вот он: белая кофта и чёрная юбка в складку.
— Прекрасно! Чего ещё надо, — разглядывая дотошно костюм, проговорила успокоенно Мария Георгиевна. — Чёрное с белым, самый благородный костюм.
В течение часа шли сборы: гладился костюм, умывалась тщательно Аринка, чистились замухрыстенькие ботиночки. Когда, наконец, она предстала перед Марией Георгиевной, та не проявила большого восторга.
— Да, неплохо, но понимаешь, деточка, нет торжественности, — что-то ещё соображая, обдумывая, говорила Мария Георгиевна, пристально вглядываясь в Аринку, — какой-то не хватает детали!..
Торопливо заковыляла в свою комнату и принесла оттуда шёлковую ленту, чёрную в белый горох, приложила к Аринкиной груди и тут же радостно воскликнула:
— Вот чего не хватало! Понимаешь, деточка, деталь в костюме — это главное. Шарфик цветной, брошь, бант — всё это делает платье нарядным, броским. Посмотри, — сказала она, повернув Аринку к зеркалу.
Та, увидев себя в зеркале, ахнула. Ну что за Мария Георгиевна, да нет ей цены! Чёрный бант в белый горошек, распластавшись на белой блузке, сделал её парадной, нарядной, просто неузнаваемой!
— Теперь ты, как говорят французы, «леги артис», то есть в той форме, которая положена по данному случаю. Только вот причёска твоя... Что-то надо придумать. Эти зализанные волосы с железной гребёнкой...
Поколдовав над Аринкиной головой несколько минут, Мария Георгиевна наконец была довольна. Она радовалась, довольно шустро передвигалась из своей комнаты в Аринкину. Со стороны можно было подумать, что не Аринка в гости идёт, а она. Ей искренне захотелось Аринку показать в лучшем виде. В последний раз взыскательным глазом оглядев её с ног до головы, Мария Георгиевна осталась довольна.
— Только, пожалуйста, следи за собой, — напутствовала она. — Ешь неторопливо, аккуратно. Глазами не води по сторонам. Когда говорят взрослые, не перебивай, смотри им в глаза. А главное, я прошу тебя, детынька, не очень ты увлекайся разговорами, короче, не сочиняй, не фантазируй. Больше молчи и слушай. Хорошо?
— Нет-нет! — твёрдо заверила Аринка. — Я буду хорошо себя вести.
Накинув жакеточку и повязав платком голову, Аринка потеряла свою парадность. «Но ведь там она разденется», — успокоила себя Мария Георгиевна и уже собралась её проводить, как на пороге вспомнила и ахнула:
— Боже мой! Кто же в гости идёт с пустыми руками? Надо же цветы!!! Алевтина Кондратьевна, вы здесь? — обратилась она к занавеске.
Та сразу шевельнулась, и хозяйка появилась между шкафами.
— Видите, девочка собралась в гости, надо цветы, естественно. Не можете ли вы из своего сада дать, я заплачу, сколько будет стоить.
Хозяйка взяла садовые ножницы и, не говоря ни слова, пошла в сад. Через короткое время она вернулась с огромным букетом цветов. Внутри него горели пламенем оранжевые хризантемы, пышно обрамляли их белые и сиреневые флоксы. Аринка ахнула: царский букет! Она порывисто подскочила к Марии Георгиевне и чмокнула её в щёку:
— Вы самая хорошая!
По улице она шла быстрой, деловой походкой. В её осанке была гордая торжественность, а цветы она несла в вытянутой руке, как зажжённый факел. На встречных прохожих она бросала взгляд полный таинственного значения. Никто не знает, куда она идёт, а идёт она к самой Виктории Шатерник. У дома Аринка перевела дух, немного постояла, успокаивая волнение. После звонка дверь тотчас же открылась, словно там за дверью ждали этого звонка.
— О-о-о! — воскликнула Шатерник, устремив восхищённый взгляд на букет.
— Это тебе, — просто сказала Аринка и вручила цветы. Вика уткнула в них своё лицо.
— Ах, какая прелесть! — ещё раз сказала она. — Идём, идём, не бойся, Бойцова, у нас все свои, — подбадривала она гостью.
— А я и не боюсь, — самоуверенно отозвалась Аринка, шагая за хозяйкой.
— Раздевайся. Вешай куда хочешь. Вешалка большая.
Аринка сняла жакеточку, в её рукав всунула платок и после недолгого раздумья повесила на самой середине вешалки. Подошла к большому зеркалу, тут же стоявшему, причесала волосы, поправила бант.
— О-о-о-о! Какая ты нарядная. И эта причёска тебе больше к лицу, — похвалила Шатерник.
Дверь из передней была завешана тяжёлой портьерой. Вика отодвинула её и пропустила впереди себя в комнату Аринку.
— Проходи, располагайся где хочешь. Скоро придёт мама. Кстати, зовут её Евгения Павловна. Запомнишь?
— Ага, запомню, — ответила Аринка.
Комната, в которую она вошла, поразила её своей красотой: мягкая мебель, диван, портьеры на высоких окнах, всё это было в одной золотистой цветовой гамме. По углам высокие тумбы, а на них мраморные головы. На стенах в золочёных рамах картины, да такие красивые, что Аринка сразу взглядом приковалась к ним. Справа от двери в углу большой чёрный рояль. Посреди комнаты стол, под белой скатертью, уставленный посудой. Аринка застыла в немом восхищении, не в силах двинуться с порога.
— Красотища-то какая! Богато живёте! — восторженно прошептала она. У неё даже голос пропал, ей казалось, что в этой комнате можно говорить в благоговейном полутоне. Видя её состояние, Вика рассмеялась:
— Всё это богатство не наше. Это дом бывшего хозяина завода, и вся обстановка тоже его. Мы уедем через год, и всё здесь останется. А возьмём мы с собою только свои чемоданчики. Но, говорят, мебель эту скоро заберут в краеведческий музей. Так что мы будем сидеть на табуреточках и деревянных скамеечках. Но нам это не в диву.
Мы с папой ездим по таким захолустным местам, что, бывает, в вагонах и палатках живём. Мы впервые в такую роскошь попали. Проходи, ну чего ты стоишь? Садись вот в это кресло, оно очень удобное.
Всё это проговорила Вика беззаботно, весело и тем самым сняла напряжение. Аринка присела в кресло, которое указала хозяйка, но только на самый краешек, и чинно сложила руки на коленях. Следила, как Вика устанавливала цветы по вазам.
— Цветы надо ставить всегда в разные вазы, по сортам. А где ты взяла такие роскошные цветы? — спросила она у Аринки.
— У моей хозяйки большой сад, и когда она узнала, что я иду в гости, дала их мне. Вернее, их попросила Мария Георгиевна для меня.
В это время из другой двери вышла Евгения Павловна. Аринка тотчас вскочила. Вика замахала на неё руками:
— Ты чего это, Бойцова? Мама же не учительница, и мы не в школе, сиди.
— Проходите к столу, сейчас будем обедать, — сказала Евгения Павловна, раскладывая ножи, вилки и ложки. — Вика, неси хлеб и ухаживай за гостьей.
— Ты слышишь, Бойцова, мне велено за тобой ухаживать. Ты у нас сегодня гостья. Иди вот сюда. Будешь сидеть со мною рядом, — командовала Вика.
— Что ты зовёшь её по фамилии? Разве у неё нет имени? — спросила мать.
— Мы в школе все друг друга зовём по фамилии, так уж привыкли. Ты как хочешь, Бойцова, чтоб я тебя по имени звала или по фамилии?
— Мне всё равно. Хоть горшком назови, только в печку не ставь, — равнодушно отозвалась Аринка и тут же смутилась, заметив, как мать и дочь переглянулись. «Сморозила-таки», — зло подумала про себя она. У них в деревне обычно так говорили. И чего она ляпнула?
— Так всё же как тебя звать? — поинтересовалась Евгения Павловна.
— Аринкой меня зовут.
— Чудесное имя! — горячо одобрила Евгения Павловна. — Значит, Рина!
Аринка сразу заважничала и, верно, оттого, что она не Аринка, а Рина в этом доме, села в кресло поглубже, утвердилась более надёжно. Перед нею на столе стояла плоская пустая тарелка, справа от неё лежали нож и ложка, а слева — вилка. «Чего это они врозь лежат», — подумала Аринка и сложила всё вместе справа. Но когда увидела, что по всему столу у всех тарелок вилки лежат слева, водворила свою вилку на место. «Значит, так надо», — решила она. В эту минуту, опять же из той двери, вышел мужчина, не очень старый, но и не молодой, смуглый, с красивым лицом и богатой, вьющейся шевелюрой. Аринка сразу определила, что это отец Шатерник.
— А у нас гости, — просто и весело проговорил он. — Это хорошо, я люблю гостей, — и сел напротив Аринки. Та чинно приподнялась и вежливо поклонилась. Так велела Мария Георгиевна приветствовать всех старших.
— Папа, это та самая Бойцова, про которую я тебе говорила, — отрекомендовала Вика. — Арина — дочь крестьянская, она так про себя говорит.
— Очень приятно, наслышан про тебя, будем знакомы. Я Максим Гаврилович. Арина — хорошее русское имя, незаслуженно забытое всеми.
Аринка млела от таких слов. В дополнение ко всему вдруг комнату заполнил необыкновенный аромат, от внесенной миски с супом. Но то был не суп, а что-то такое неизвестное, так заманчиво дразнящее и возбуждающее аппетит.
— О-о-о, у нас сегодня суп харчо! Браво, тётя Наташа! — вскричала Вика. — Ты даже не представляешь, что это за еда, язык проглотишь, — обратилась она к Аринке.
Женщина, которая поставила миску, была грустно-задумчива, вся в чёрном и на Аринку не обратила никакого внимания, сразу стала разливать суп по тарелкам. Не зная, что делать, Аринка хотела было встать, поздороваться, но потом раздумала: раз не заметили её, то чего в глаза лезть. Да и никто как-то не обратил на это внимания.
— А вот и ещё член нашей семьи. Борис, мой старший брат, — провозгласила Вика.
Молодой человек лет семнадцати, такой же смуглый и красивый, как отец и Вика, небрежно кивнул в сторону Аринки и сел на своё место рядом с отцом.
Все взяли ложки, стали есть неторопливо, аккуратно, хлеб отламывали от ломтя маленькими кусочками. Тогда Аринка решила: чего за каждым разом его ломать. Взяла сразу нащипала кусочков и сложила этакой пирамидкой возле своей тарелки, даже очень удобно — бери по штучке и клади в рот. Увидев «пирамидку», Вика прыснула. Отец строгим взглядом осадил её. Но чуткая Аринка поняла свой промах. Тогда она решила покончить с этим разом, покрыла ладонью всю пирамидку, сжала в кулак и пихнула в рот. Вот и дело с концом. Жевала медленно и аккуратно, как они все.
— Тебе прибавить, девочка? — сухо обратилась тётя Наташа к Аринке.
— Нет, спасибо, я больше не хочу. — Суп ей не понравился.
— Что ты, Бойцова! Это ж такая вкуснятина. Азиатское блюдо, баранина с перцем и томатом! — подначивала её Вика. Но Аринка отказалась. Зато картошку тушёную с мясом ела с удовольствием. А когда съела, то кусочком хлеба вытерла всю тарелку, и крошки, которые были на столе, она подобрала все до единой и положила в рот.
Максим Гаврилович с задумчивой грустью наблюдал за нею. Потом, не выдержав, сказал:
— Вот, дети, я хочу обратить внимание ваше на одну вещь. Эта девочка из деревни, я увидел, как она бережно обращается с хлебом. Она даже все крошечки подобрала со стола. Это не жадность, это — священнодействие, это великое почтение к хлебу. Такое присуще только крестьянину, человеку, который добывает этот ХЛЕБ!
Аринка чинно опустила веки. Она оказалась в центре внимания, её хвалили.
— Папочка, мы тоже будем подбирать крошечки, спасибо Бойцовой, она нас этому научила, — задиристо и с иронией протрещала Вика.
— Нет, дочка, вы ничего не поняли и вряд ли поймёте в этом. Правильно я говорю, Арина — дочь крестьянская? — весело обратился он к Аринке.
— Правильно. Хлеб очень тяжело достаётся, — серьёзно, по-взрослому сказала Аринка. — Я-то знаю, сама его жала.
После обеда старшие женщины стали убирать со стола, отец удобно расположился в кресле с газетой, Борис полуразвалился на диване с журналом, а Вика села за рояль и, небрежно ударив по клавишам, сказала:
— Гостей положено развлекать. Хочешь, я тебе сыграю что-нибудь?
— Очень хочу, — обрадовалась Аринка, — а ты петь умеешь?
— О-о-о, ты оказывается пение любишь?! — не без удивления проговорила Вика. — А что именно ты хотела бы послушать?
— Летом к нам в деревню приезжала из Ленинграда девочка, и вот она мне пела песню. Очень она мне понравилась: «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня тёмно-голубые».
— О-о-о, тогда это по части Евгении Павловны. Мама! Иди-ка сюда, — позвала Вика мать. Та подошла и, уже зная, в чём дело (она слышала разговор), порылась в кипе нот, выбрав нужные, установила на пюпитр и села за рояль.
Аринка села на краешке стула и положила руки на колени. Вот раздались первые аккорды. Евгения Павловна запела. Аринка замерла, полная внимания и восторга. Конечно, Евгения Павловна лучше пела, чем когда-то Нонна, у той голосок был похож на звенящий ручеёк в лесу, а у Евгении Павловны — на бурное течение глубоководной реки. Грудной голос приятного тембра звучал смело, уверенно, звуки его лились привольно и просторно. Голос переплетался со звуками рояля, а иногда и сливался с ним совсем.
Перед глазами Аринки распахнулись некошеные луга, покрытые цветами, и эти самые тёмно-голубые колокольчики, которые падали под резвыми ногами её Забавы. И ветер свистел в ушах, лихо трепал её волосы. А над головой великий простор неба, её неба. И всё вокруг её, её! Песнь умолкла. Аринкино восторженное волнение было заметно для всех. Максим Гаврилович, отложив газету, с чрезвычайным любопытством устремил свой взор на Аринку. И совершенно убеждённо сказал:
— Я говорил и говорю, что истинные таланты, люди тонкой души и чуткого сердца, идут от ЗЕМЛИ. Вот вам наглядный пример. Виктория, ты вспомни, кто из твоих московских, да и вообще городских подруг слушал эту песню так? Кто? С таким трепетным волнением? Никто! Шевельнулось ли у них что в сердце? Да ни черта не шевельнулось!
Борис, развалившись на диване, листая журнал, с рассеянной раздумчивостью сказал:
— Это, верно, ей по духу близко. Она же из деревни.
С улыбкой Евгения Павловна обратилась к Аринке:
— А какие ты песни ещё любишь? Спою-ка я тебе одну песенку, знаю, что она тебе понравится. — И, лукаво подмигнув ей, запела: — «Между небом и землёй песня раздаётся...» Узнаёшь, про кого я пою? — мимоходом спросила Евгения Павловна.
— Как же, очень люблю жаворонка, — радостно ответила Аринка и опять углубилась в слушанье песни. Какой прекрасный у неё сегодня день!
В заключение Евгения Павловна весело спела: «Тройка мчится, тройка скачет, только пыль из-под копыт...» Аринка блаженно улыбалась. Чарующие звуки голоса проникали в самое сердце, отчего делалось радостно и вместе с тем хотелось плакать. От чего бы это?
Когда закончили музицировать, Евгения Павловна спросила Аринку:
— Ты, наверное, очень любишь лошадей? Ты не боишься их?
— А чего их бояться, я на лошади сижу, как на стуле, мне и не страшно нисколько. Потому что я их очень люблю, больше всего на свете.
Как-то так получилось, что Аринка оказалась в центре внимания. Ей задавали вопросы, она отвечала. С каждым разом смелее.
— А ты кого больше любишь: отца или мать? — спросила Евгения Павловна.
— Я тятю больше люблю. Он сильный и храбрый. Он плечом воз с сеном поднимает. Он меня на охоту берёт и на рыбалку. И стрелять меня научил.
— Да? Это интересно! А ты кого-нибудь убила в своей жизни? — оживившись, спросил Максим Гаврилович.
Глаза у Аринки вмиг зажглись, и та неведомая, таинственная сила, которой она была совершенно неподвластна, подхватила её и понесла.
— А я медведя убила, — вдруг брякнула она, даже для себя совершенно неожиданно. И с боязливым любопытством прошлась взглядом по всем слушателям.
— О-о-о! — искренне испугавшись, воскликнула Вика.
Борис, отложив журнал, смерил Аринку ироническим взглядом.
— Новый Мюнхаузен в юбке, — пробубнил он.
— И как же это было? Это очень интересно, — спросил Максим Гаврилович, подавшись вперёд и глядя на неё сощуренными, улыбающимися глазами. Аринка почувствовала в эту минуту прилив вдохновения. Её внутренний голос, голос разума, должен бы сразу закричать, завопить: «Остановись! Не надо!» Но голос этот не подавал признаков жизни. И Аринка, как конь без узды, понеслась.
— Объявился медведь в деревне, стал телят резать. Это не дело. Вот все к моему отцу, он охотник: так, мол, и так, надо медведя уничтожить. Вот мы все втроём и пошли: брат, тятя и я. У Ивашки рогатина, а у меня и тяти ружьё. У нас два их.
Все затаили дыхание и слушали с большим напряжением, только Борис смотрел в потолок с насмешливым выражением.
— И вот, значит, я стою за деревом, — воодушевлённо продолжала Аринка, — ружьё на сук положила, мне тяжело его держать. Вдруг вижу, медведь встал на задние лапы и идёт прямо на тятю, а он не видит, спиной к нему стоит. Я прицелилась да как трахну — и медведь наповал!
Максим Гаврилович крякнул и почесал за ухом.
— Да, дела, храбрая девочка, ничего не скажешь.
Вика, округлив глаза, перебегала с одного лица на другое, не зная, как всё это воспринимать.
Когда-то в детстве, когда Симону было лет тринадцать, был с ним такой случай, он много раз его рассказывал Аринке, и вот теперь она пересказала этот факт, только уже действующим лицом была она сама. Но она не чувствовала угрызения совести в своём вранье. Ведь медведь был? Был! Его убили! Убили! А какое это имеет значение, кто его убил? Аринка или её отец, будучи в её возрасте? Никакого.
И поэтому она с совершенно спокойной совестью взирала на своих слушателей, довольная произведённым впечатлением.
Лишь Борис с насмешливой ухмылкой спросил:
— Ты одного медведя убила?
— Да, только одного, — просто ответила она, не заметив его издёвки.
Максим Гаврилович смотрел на неё с улыбкой. Медведя её, конечно, он поставил под сомнение. Если отец её охотник, то много рассказывает всяких охотничьих небылиц, значит, это всё идёт от него. Но даже если она и врала, то такое врать — тоже нужна смелость. И поэтому она всё больше и больше ему нравилась.
Вскоре принесли самовар, и все сели чай пить. Максим Гаврилович, как бы вскользь, спросил Аринку:
— А что, у вас в деревне ещё нет колхоза? Сейчас ведь идёт всеобщая коллективизация.
— Нет, у нас ещё нету, но, говорят, скоро будут записывать в колхоз.
— А как твой отец относится к колхозу, он пойдёт в колхоз?
— Мой тятя говорит, что сообща, конечно, сподручнее, но если все по-честному будут работать.
— Да, твой отец, как видно, хороший хозяин и говорит правильно. Надо работать по совести... — Максим Гаврилович о чём-то задумался, озадаченно сдвинув брови.
Потом пили чай с яблочным пирогом. После чая Вика принесла большой альбом фотографий, там была вся их семья во всех возрастах и в разных местах пребывания. И в каких только краях они не были? Почти всю страну объездили. Максим Гаврилович был большой специалист по кожевенной промышленности.
В седьмом часу Аринка засобиралась домой.
— Мне надо проводить Марию Георгиевну на работу, — призналась она.
— Терпеть не могу старых барынь, вечно они окружают себя слугами, — съязвила Вика, словно назло Аринке.
— Какая же она барыня, если даже больная работает? А потом, ты же ничего не знаешь о ней. — И, понизив голос, придав ему таинственность, сказала: — Она революционеркой была, в тюрьмах сидела, в ссылке была, и Ленин за руку её выводил от... туда...
Аринка поняла, что она окончательно завралась, ведь Мария Георгиевна ничего этого не говорила ей. Ну и что, что не говорила! По крайней мере теперь не станут называть Марию Георгиевну барыней. За неё постояла Аринка.
— До свидания, — стала прощаться Аринка со всеми.
Первой к ней подошла Евгения Павловна и по-прежнему с милой улыбкой сказала ей:
— До свидания, Арина, приходи к нам почаще, ты мне понравилась.
К её словам присоединился и Максим Гаврилович. Он отложил газету и тоже подошёл проститься с Аринкой:
— Заглядывай к нам, Арина — дочь крестьянская. Твоё общество будет полезно нашей дочери, а то она уж больно городская.
— Нет, ваша Вика дружит с Андреевой, а я ей не пара, — просто созналась она. — Вы мне тоже очень понравились, до свидания. Спасибо за угощение. У вас всё было очень вкусно. — Она не забыла похвалить обед, про это ей напоминала Мария Георгиевна.
Весь вечер Аринка не могла заниматься и казнила себя за этого дурацкого медведя. Ну почему она не стала считать до ста? Ну зачем она распустила свой дурацкий язык? Что они подумали о ней? Да, конечно, никто не поверил ей. Тогда что они думают о ней? О, господи! Шатерник завтра расскажет Андреевой, а та Зуевой, этой сплетнице, ну и пошло, пошло! Лучше бы она не ходила в эти гости. А вообще было хорошо. А как пела Евгения Павловна! Её голос она слышит и сейчас, сидя одна, в своей каморке. Она прикрывает глаза, и голос проникает в самое сердце и звенит, как жаворонок, как тот жаворонок.
Вспоминая всех и продолжая ещё пребывать в их обществе, она как бы со стороны увидела и себя. Как будто ничего, всё было более-менее прилично, только вот этот медведь?! Вот что значит жить «без царя в голове», вспомнились ей слова и наставления Симона. Досадуя на себя, она решила завтра же во всём признаться Вике. Сказать, что просто пошутила.
А когда наступил завтрашний день, её душу словно заледенило. «Что я наделала», — с ужасом думала она, плетясь в школу, сутулясь, словно мешок с песком несла. И ни одной спасительной мысли не пришло в голову.
Долго стояла у раздевалки и ждала Шатерник. Аринке хотелось её перехватить, чтобы она не успела повстречаться с Андреевой. Вот пробежали оживлённые Фомкина с Тюлиной, вразвалку неторопливо прошагал Воронов, буркнув на ходу «здорово», вот протопал ненавистный Губанов. Вскоре появилась Шатерник. И как только она вышла из раздевалки, Аринка сразу встала перед нею:
— О, Бойцова, здравствуй! — бросила она небрежно и заторопилась по лестнице.
Аринка, загородив собою дорогу, растерянно залепетала:
— Послушай, Шатерник, я хочу тебе что-то сказать... Понимаешь, — начала она сникшим голосом.
Шатерник остановилась и пытливо уставилась на неё.
— Что ты хочешь сказать мне? — с добродушной готовностью выслушать её спросила Шатерник. Аринка подняла на неё взгляд полный тоски и смущения.
— Я хочу тебя попросить, хочу попросить, — язык её заплетался, — не говори никому, что я у вас вчера была в гостях, хорошо?
У Шатерник брови встали домиком:
— А что тут такого? Разве ко мне зазорно ходить в гости?
— Да нет. Не зазорно. Я просто хочу тебя попросить, чтобы ты никому не говорила, что я медведя убила. — Аринка смотрела на Шатерник глазами великой мученицы, до чего ж ей тяжело было об этом говорить.
— О-о-о, вот оно в чём дело. Я понимаю тебя, Бойцова, — сочувственно улыбаясь, проговорила Вика. — А признайся, Бойцова, — проговорила она заговорщицки-тихим голосом, — ведь ты всё это нам наболтала. Ведь никакого медведя не было, и никого ты не убивала. Но ты не волнуйся, я никому ничего не скажу. Мне просто интересно знать, зачем ты такое болтаешь? — В её чёрных глазах засветилась лукавая насмешка.
Аринка вскинула на неё побледневшее лицо. В её расширенных зрачках загорелся упрямый вызов. Забыв обо всём на свете, словно грудью став на защиту кого-то, она неистово бросила Шатерник:
— Неправда! Был медведь! Был! И я его убила! Был медведь! Был! Вотысё!!!
Вика глядела на неё с боязливым любопытством и даже отступила на шаг от удивления.
— Ну был, так и был. Чего ты из кожи-то лезешь. Вот раскипятилась! — обидчиво проговорила Шатерник и, обойдя Аринку, быстро побежала по лестнице. На площадке остановилась, перегнувшись через перила, сказала: — Не волнуйся, Бойцова! Я никому ничего не скажу. Меня и папа вчера просил об этом, — со значением сказала она, вкладывая особый смысл в слово «об этом».
Растерянная, Аринка стояла на лестнице, плохо соображая, что ей сказала сейчас Шатерник. В эту минуту она была занята тем, что утихомиривала себя. Когда она находилась во власти своей фантазии — никакие силы не могли с ней справиться. Она верила в абсолютную реальность выдуманного, точно это и в самом деле была правда. Когда всё-таки её выводили на «чистую воду», уличали во вранье, то это было для неё великим горем: рушились своды её прекрасной мечты. А возможно ли жить без мечты? Ведь мечта, как тень, она идёт либо впереди человека, либо позади его, но всегда неотступно, всегда рядом, иначе и жить невозможно.
Постояв немного на лестнице, направилась в класс, пыталась разобраться, почему поссорилась с Шатерник. Только этого не хватало. Не успели наладиться хорошие отношения и вдруг на тебе! И всё её характер. Надо подойти к Шатерник и попросить извинения. Но ей навстречу шла сама Вика, добросердечно улыбаясь, словно между ними ничего и не произошло, и торжественно сообщила:
— Сегодня к нам придёт пионервожатая!
Пионервожатая Наташа
После уроков пришла в класс молоденькая девушка, коротко остриженная, курносенькая, с большими синими глазами и белозубой улыбкой. Аринке сразу же вспомнился их пионервожатый Яша. Черноволосый, кудрявый, с цыганским лицом. И ей стало почему-то грустно.
— Меня зовут Наташей, — сказала она и улыбнулась так радостно и открыто, словно сама обрадовалась, что её зовут Наташа. — Я ваша пионервожатая, давайте знакомиться. Прежде всего поднимите руки, кто из вас пионеры?
Аринка поспешно вскинула руку. После неё несколько человек также подняли руки.
— А у меня и галстук есть, я всё время его ношу в сумке, — хвастливо проговорила Аринка и, быстро порывшись в ней, вынула аккуратно сложенный алый лоскутик. Он лежал у неё на вытянутой ладони, как только что сорванный цветок. И тут же опустила голову, стыдясь своего порыва.
— Это очень хорошо, — одобрила Наташа. — Но почему же ты носишь галстук в сумке, а не на себе?
— А чего ж я одна-то, никто не носит, а я одна буду?
— Как твоя фамилия и где тебя принимали в пионеры? — спросила Наташа.
— Я Бойцова, из деревни Зеленино, меня там и в пионеры принимали, — с гордостью сказала Аринка и с вызовом посмотрела на всех, потому что это высокое звание она отстояла.
Наташа заулыбалась обрадованно:
— Вот это здорово! В деревне тоже есть пионеры. И они идут в город за знаниями. Кстати, а как ты учишься?
— У меня только один «уд» по физике, остальные «хоры» и «очхоры».
— Это прекрасно! Ну а что же по физике-то не дотянула?
Аринка неловко молчала.
Наташа переписала всех пионеров. Семнадцать человек из тридцати. Это не густо. По ходу записи она знакомилась с пионерами, узнавала об их учёбе, поведении. А вот когда она дошла до Губанова, Воронов встал и мрачно заявил:
— Надо ещё подумать, достоин ли он быть пионером?
— У него поведение совсем не пионерское, — пропищала Смирнова Лиза, широколицая, большеротая девочка, которой Губанов дал кличку Жаба. От этого прозвища Лиза страшно страдала.
— Да, да, — ретиво встряла в разговор Аринка. — Всех обзывает, всем прозвища даёт. Разве пионер может так себя вести?
Шатерник после долгого раздумья сказала нечто такое, что огорошило всех.
— Тут даже не только это. Есть одно очень серьёзное обстоятельство, которое просто не совместимо со званием пионера.
При этих словах Наташа насторожилась, лицо её стало серьёзным и озабоченным. Она знала отца Губанова, дружила со старшим братом Назара, Сашей. Хороший честный комсомолец, и вдруг его брат... Озабоченно сдвинув брови, Наташа глянула на притихшего Губанова.
— А всё же, в чём заключается его недостойное поведение?
— Я об этом скажу при сборе отряда, только пионерам, — отрубила Шатерник по-взрослому.
Наташа чувствовала себя неловко, словно присутствовала при чём-то очень постыдном и некрасивом. С укоризной глянула на Губанова. Он, взъерошенный, как петух после драки, сидел с мрачным видом.
— А я знаю, про что Шатерник не хочет говорить, знаю, — выскочил вдруг Миша Авосин, по кличке Авоська.
— Интересно, что же ты знаешь? — спросила Наташа. Но зря спросила, лучше бы не спрашивала.
Авосин шмыгнул носом, хитровато сощурил глаза:
— Губанов фискал! Из-за него завучу Дмитрию Ивановичу всё известно, что творится у нас в классе. Назар ему всё передаёт!
— Почему у нас перестали быть пятиминутки стихов? Учительнице запретил Дмитрий Иванович, говорит, это в программу не входит. А кто сказал? Губанов ему сказал. А по истории почему нам больше не рассказывают о разных полководцах: Кутузове, Суворове?.. Нам так было интересно. Запретил Дмитрий Иванович. А откуда он узнал? От того же Губанова. Губанов — предатель по отношению ко всему классу, — сказал сурово Воронов.
Тут страсти разгорелись. Каждый говорил своё! И все разом.
— Хватит, ребята, хватит, — примиряюще сказала Наташа. — Сейчас давайте выберем председателя отряда.
Все пионеры как один проголосовали за Воронова. Аринка была в восторге, она Воронова по-настоящему считала своим другом, радовалась за него, как за себя.
А Губанов прикинулся равнодушным, безучастным ко всему происходящему, но всё же не мог скрыть озадаченности и беспокойства. Ему было над чем задуматься.
Когда улеглись все страсти и наступила тишина, Наташа сказала:
— Ребята, пионеры, к вам моё слово. И не только моё, а слово нашего правительства. Дело в том, что до революции в нашей стране было очень много неграмотных. А наша задача — чтоб ни одного неграмотного в Советском Союзе не было! Школ для взрослых не хватает. Поэтому правительство обращается к вам, пионерам, с просьбой помочь решить эту задачу по ликвидации неграмотности в нашей стране. Вы будете ходить на дом в удобное для ваших учеников время и будете, начиная с букваря, учить их грамоте.
В течение учебного года каждый пионер должен обучить одного человека грамоте. Борьба с неграмотностью — большое и трудное дело, и предстоит сделать его — вам.
С этого дня все пионеры стали называться культармейцами. Аринка была счастлива. Она почувствовала свою нужность, свою полезность для людей. Шутка ли сказать, дело государственной важности, так Наташа и сказала. То-то Мария Георгиевна обрадуется! Отныне Аришенька её — культармеец, то есть боец по ликвидации неграмотности, учительница взрослых.
Вот она получила адрес, имя и фамилию своей ученицы: Харитонова Варвара Степановна, 37 лет, рабочая. Подумать только, человек прожил столько лет неграмотным. Это же как слепой, как глухонемой. И Аринка, ещё не видя своей ученицы, прониклась к ней жалостью и участием. Вспомнились слова Симона: «Это большое счастье — сделать кого-то счастливым».
Только одного опасалась Аринка: будут ли желать эти «ученики» учиться? А вдруг скажут: «И без учебы проживём»? Аринка поделилась с Наташей своими сомнениями.
— Со всеми проведены беседы, все хотят учиться и будут стараться, — ответила Наташа.
С того дня, когда у Аринки опять заалел пионерский галстук на груди, она почувствовала себя как бы вновь родившейся, нужной для большого дела, которое ей поручили.
Со своим классом по-настоящему Аринка так и не сдружилась, слишком много перенесла от него обид и унижений. Шатерник относилась к ней хорошо, но подругой не стала.
Зато теперь есть надёжный друг Наташа, их справедливый судья и защитник. А когда был общешкольный сбор пионеров, она познакомилась с девочками из 6 «а» и 6 «в». Не успеет прозвенеть звонок на перемену, как уже в дверях толпятся девчонки и вызывают её.
Аринка наконец почувствовала, что она крепко сидит «в седле». И теперь уж никакая сила не выбьет её из этого «седла». Потому что она не одна! За её спиной друзья, пионеры. Соломинку легко сломать, а попробуй сноп переломить!
Прошло десять лет. Аринка осталась верна своей мечте. Окончив школу, а потом сельскохозяйственный институт, вернулась домой. Стала работать агрономом в родной деревне.
Жизнь колхоза налаживалась.
Но 22 июня 1941 года началась война. Мирный труд пришлось прервать. Одно-единственное желание охватило всех советских людей — прогнать врага со своей земли. Во что бы то ни стало! Прогнать, заплатив за это, если понадобится, даже самой высокой ценой, ценой собственной жизни.
Решение Арины
В середине сентября погнали колхозный скот в глубь страны. Лошадей всех забрал партизанский отряд. Только старенькие три клячи остались на подхвате в деревне.
В глубине лесов, за рекой, в окружении непроходимых болот, располагался партизанский отряд. Возглавлял его секретарь райкома Иван Тимофеевич Кедров, участник гражданской войны, человек бывалый, всеми уважаемый. Его любили за исключительную добросовестность и отзывчивость.
С очень усталыми глазами от бессонных ночей, сидел он сейчас в сельсовете, в комнате, где царил полный беспорядок. Перед ним стояла Арина Бойцова, строгая и подтянутая.
— Бойцова, ты всё хорошо продумала? — задал вопрос секретарь. — Ты учти, ведь это война. В тылу врага. Это очень серьёзно и опасно. А у тебя маленький ребёнок. Ты прежде всего мать, — урезонивал он её.
— У моего ребёнка есть вторая мать, это моя мама, она для неё лучше, чем я. И я всё продумала, Иван Тимофеевич. Я решила, значит, так и будет! — твёрдо и убеждённо сказала Арина и впилась в Кедрова требовательным и настойчивым взглядом.
Секретарь не торопился с ответом. Он думал. Организуя свой партизанский отряд «Борец», он подбирал людей острожно, очень требовательно относился к ним, выявляя в них слабые и сильные стороны. Честно говоря, Арина не вызывала в нём каких-либо сомнений, но с высоты своих пятидесяти шести лет он чисто по-отцовски жалел её. Партизаны — это те же воины. Они сражаются, а значит, и погибают. Иван Тимофеевич хмурился, прикидывал и так и этак.
Люди были нужны позарез, но он всё-таки пытался отговорить её:
— Ты хороший агроном, Бойцова. Я считаю, будет лучше, если ты с семьёй выедешь в глубь страны. Твоя специальность и там нужна, пользы принесёшь не меньше. Россия велика, и всё наша Родина.
Арина гневно сверкнула глазами:
— Я здесь родилась, здесь выросла, здесь моя семья, тут всё моё! И я никуда не уеду отсюда. Я — то растение, которое не приживается на чужой земле.
Кедров недовольно поморщился, потёр мочку уха, хотел что-то ещё возразить, но Арина не дала ему и рта открыть:
— Если вы не возьмёте меня в отряд, я буду бороться одна, своими средствами! Вот и всё! — с дерзкой решительностью почти выкрикнула она.
Секретарь после такого её решения, явно устрашённый им, сдался.
— Ну, ну, не горячись, ишь партизанка какая, — умиротворённо заговорил он. — Но учти, пыл свой поумерь и характер огневой остуди. Дисциплина и ещё раз дисциплина. Никакой отсебятины! Поняла? Один неверный шаг может погубить не только тебя одну, но и весь отряд, — с нарочитой серьёзностью говорил он, глядя прямо ей в глаза.
— Да, да. Я всё понимаю. Я буду самым дисциплинированным воином, даю вам своё комсомольское слово! — сказала она строго, как под присягой.
— Вот и хорошо, что всё поняла, — одобрил секретарь.
— Спасибо вам, Иван Тимофеич, вы во мне не ошибётесь! — с уже просветлённым и радостным лицом сказала Арина.
— Теперь поговорим о деле. Завтра из города будет выезжать последний эшелон с людьми, зерном и скотом. Отсюда ты будешь сопровождать обозы и под предлогом, что эвакуируешься со всеми вместе, не возвращаясь в дом, прибудешь вот сюда. Взгляни на карту, — секретарь ткнул пальцем в точку, — смотри, вот здесь наш лагерь, за болотом.
Арина стала рассматривать карту и с радостным изумлением воскликнула:
— Ба! Так это же любимые места охоты моего отца. И я здесь бывала не раз. Вот здорово!
Иван Тимофеевич довольно улыбнулся:
— Это хорошо, что знаешь, значит, и объяснять не надо, как туда попасть.
— Не надо, не надо. Я все выходы и входы там знаю.
— А мшистую дорогу ты тоже знаешь? — полюбопытствовал он, лукаво прищурив глаза.
— Через болото? Ну как же не знаю? Даже её историю знаю. Дед Батан рассказывал. Там в наполеоновское нашествие тоже партизаны были. Они-то и проложили через болото эту дорогу. Валили туда брёвна, хворост, в виде плота что-то сделали. Потом это всё заросло мохом, и стала она называться мшистой. Но главное коварство в этой дороге то, что она не прямая, а зигзагообразная. Незнающий, где надо поворачивать, обязательно провалится в болото.
— Ну молодец, совсем хорошо, даже историю дороги знаешь, — похвалил Кедров. — А вот здесь у нас стоит заслон, — опять склонившись над картой, сказал он. — Тебя спросят: «По грибы или за клюквой идёте?» Ответишь: «Рябину красную ищу». — Тут Иван Тимофеевич пронзительно уставился на Арину. Смотрел долго, серьёзно. Ведь он в эту минуту доверял ей святое святых, жизнь людей доверял. Потом проговорил очень строго: — Ни одна живая душа не должна знать, что я тебе сейчас сказал. Ты меня поняла? — И опять этот взгляд остропронзительный, испытующий. — Отныне ты в ответе за нас всех, а мы — в ответе за тебя. Таков закон партизан, — сказал он и мрачно умолк.
Арине показалось, что секретарь словно сомневается в правильности своих действий. В её душе появилось смятение: «Неужели он не уверен во мне?», и, угадав течение его мыслей, она тревожно спросила:
— У вас есть какие-то сомнения? Вы чем-то обеспокоены?! Это не относится ко мне?
— Нет, нет, Бойцова, ты тут ни при чём, — быстро встряхнувшись, проговорил он. — У меня много других забот. А кстати, куда ты свою семью определяешь? Фашисты беспощадны к семьям партизан.
— Отец с мамой и дочкой на хутор в Залесье уезжают. Там отцовская сестра живёт. Это далеко от большака. Туда враги не сунутся.
— Это хорошее место. — Помолчав, осторожно спросил: — От мужа есть вести?
Арина печально вздохнула:
— Нет, ничего нет.
Иван Тимофеевич с сочувствием покачал головой.
— Крепись, не вешай голову. Может быть, Захар жив, но в окружении. Жди и надейся, не падай духом, и всё будет хорошо, — участливо сказал он и пожал ей руку. — До встречи. До благополучной встречи.
Они расстались.
Свиря
В середине октября, ранним промозглым утром в деревню ввалилась фашистская орда. Тотчас же бешено застучали в окна:
— Эй, матка, отворяйт тверь, живо, шнель, шнель.
Улица наполнилась незнакомой, лающей речью.
Торопливо зажигались огни в домах, раскрывались двери, а те, что были на запоре, немцы вышибали прикладом. Вламывались в избу по пять-шесть человек, а если изба просторная, то и по десять натискивались, начинали сразу грубо и бесцеремонно хозяйничать. Обстоятельно располагаться, как у себя дома. Разувались в переднем углу, развешивали свои носки у печки, ненароком заглядывали в неё и всё, что там было съедобного, вытаскивали на стол. Всем гуртом набрасывались на еду.
Хозяев нагло выталкивали за дверь.
— Эй, убирайсь вон, вон! Бистро, шнель! — орали они.
Перепуганные люди хватали на ходу детей, кое-какие тряпки, одежонку и уходили из своего дома. Собирались в банях, амбарах, овинах. Как только рассвело, всех жителей деревни в приказном порядке потребовали к сельсовету. Люди шли, понуро опустив головы, с тревогой глядя друг на друга, немо вопрошая: «Что теперь будет с нами?»
На высоком крыльце, том самом, которое служило трибуной, стояли три фашиста в чёрных, блестящих плащах. Все подтянутые, чисто побритые, выхоленные, уверенные. Их высокомерный пренебрежительный взгляд мрачно скользил по людям, стоящим на почтительном расстоянии от них. Один, белобрысый, пучеглазый, с худощавым лицом и длинной, отвисшей челюстью, о чём-то совещался с рядом стоявшим, полноватым и в очках, судя по всему, большим начальником. Получив одобрительный кивок, худощавый начал говорить осипшим, как видно простуженным, голосом:
— Я буду говорийт, а ви будет слюшать меня. Подходить блише, я есть болной, голос есть плёхой.
Толпа шевельнулась, немного приблизилась и опять застыла.
— Ми есть непобедимая армия! — Тут он поднатужился и более хрипло выкрикнул: — Великая Германий! — Выкатив и без того выпученные глаза, он окинул толпу вопрошающе-стерегущим взглядом.
Люди с холодным и мрачным видом стояли окаменелые, молчаливые.
Сипатый продолжал:
— Ми пришёль сюда, штоб сделайт новый порядок! — Он надувался, как свиной пузырь, и голос его звучал властно и самоуверенно. — Ви долшен нам повиноватса, помогайт нам боротса с портисанам, тогда ми будем вас нагрошдать. Ви всё понимайт, што я говору? — на повышенных нотах спросил он.
Толпа молчала.
— А чего ж не понять, всё понятно, — задорно выкликнул за всех Свиря, юрко вынырнув откуда-то из толпы. И встал у самого крыльца-трибуны. Его длинный, острый, как заточенный карандаш, нос нацелился на говорившего. Сняв старенькую шапчонку, задрал голову, браво выставил ногу, показал всем своим видом высшую степень внимания.
Все трое с настороженным удивлением уставились на него. Свиря был не здешним. Несколько лет назад он приехал из дальнего хутора сюда, вступил в колхоз. Ему дали земли участок на краю деревни, он перевёз сюда свою неказистую избёнку, колхоз помог поставить её. И зажил своей семьёй: с женой Евфросиньей, некрасивой и длинной, на голову выше его, и двумя девочками-близнецами, необщительными, тихими, наверно, оттого, что выросли на хуторе вдали от людей и детского общества.
Свиря как-то сразу не полюбился всем. Он ни с кем не мог ладить, ни с кем не мог ужиться. Всё было не по нему. И без конца всех поучал: как надо работать, хотя сам работал без особого рвения, как надо воспитывать детей, хотя его дети не были образцом для других.
Свиря был всем недоволен: законами, начальством, порядками в колхозе. А выступать на собраниях любил! Не останови — до утра будет говорить. Но говорил бойко и речисто. И всех беспощадно критиковал, начиная с начальства и кончая рядовым колхозником. По его понятиям, все были жулики, воры и авантюристы. Честных людей для него не существовало на земле. Каждого оглядывал с дотошной подозрительностью. Его глазки, маленькие, чёрненькие, как гвоздики, смотрели на всех колюче и ехидно. Один глаз косил, откатывался в сторону, как бы подсматривая, что делается сбоку. Его никто не называл по имени-отчеству, уж больно мудрёное оно было, незапоминающееся: Евлампий Дормидонтович Свирин. Со школьной скамьи прилипло к нему имя-прозвище Свиря, так и осталось до сих пор, даже жена Евфросинья так называла.
Свиря был неказист: маленького росточка, узкоплеч, в общем невзрачный мужичонка, но страшно самолюбив. Ему безумно хотелось власти, чтоб уж на законном основании командовать людьми и поучать их. Но его заветному желанию — быть председателем колхоза или сельсоветом управлять — не дано было осуществиться. Никто его на эти должности не выбирал. Тогда он стал ещё более невыносим: сварлив, придирчив, озлоблен. Ему всё время хотелось доказать, что он способен на большие дела, чем рядовой колхозник. Он ещё ИМ покажет себя!
Вот и сейчас хотел он отличиться перед всеми: вот, мол, я какой, вы все дрожите перед ними, а мне — ничто. Буду говорить как с равными, плевать я хотел!
Пусть знают Свирю!
Говоривший посмотрел на плюгавенького мужичонку с оттенком высокомерного пренебрежения. Свирю аж огнём обожгло, но он стоически выдержал этот взгляд с деревянно-почтительным выражением лица.
Сипатый нахмурился и продолжал:
— Я хошю вам сказайт: если хоть один волос от голова упадет с нашего сольдат от ваших портисан, ми будем вас вешайт, один черес три шеловек. Понятно, што я сказайт?
— Нет, не понятно! — резко заявил Свиря.
— Што не понятно? — неприязненно спросил сипатый.
— А то не понятно, при чём тут мы, господин офицер? Вы и вешайте того партизана, который ухлопает вашего солдата. А ещё лучше, если вы этот приказ объявите партизанам, чтобы они знали, что мы своей шкурой будем расплачиваться за их действия, — сказал Свиря и, ухарски вскинув голову, скользнул торжествующим взглядом по толпе: мол, ну, как я, ваш Свиря?
Сипатый передёрнул плечами, насторожился, прищурив водянистые глаза, ядовито спросил:
— А у вас, знашит, есть портисаны? Говори, не бойся.
— И скажу! Чего мне бояться? Есть партизаны, господин офицер! Есть!
Все замерли в недоумении от этой выходки Свири. «Вот он червяк в капусте, вылез наконец!» — негодовали в толпе.
— А где ваши портисаны? — спросил сипатый. — Мы даём болшой наград, кто будет нам помогайт ловить портисан!
— Это конечно! За такое дело, само собой, награда полагается, — деловито утвердил Свиря, но, напустив на себя необычайно умный и даже озабоченный вид, как бы сочувствуя фашистам, ответил с ухмылкой: — А вот где партизаны, сказать не могу. В лесу, конечно, где же им быть. Но адреса своего нам не оставили. Може, там, — он указал рукой на юг, — а може, там. Леса наши огромадные, на тыщи километров тянутся, поди узнай. И эти леса битком набиты партизанами, их кишма кишат там...
— Что есть «киша кишма»? — резко оборвал его сипатый, явно недовольный ответом Свири.
— Это значит, господин офицер, что их, как муравьёв в муравейнике. Ведь вся Россия на дыбы встала и в партизаны подалась. У них от самой Москвы тайные ходы, подземные, наделаны. Идёте, к примеру, вы...
— Ти што, нам сказки надумаль говорийт! Пугать нас надумаль?! — резко оборвал его сипатый, выходя из себя. — Мы есть храбрая нация. Непобедимая армия великой Германии, понятно? — В голосе его звучала властность и самоуверенность, близкая к угрозе.
Свиря спохватился: кажется, лишку дал, переборщил. И, желая исправить своё не совсем выгодное положение, смотрел на фашистов преданными глазами.
— О, да, господин офицер, это правда, ваша нация храбрая, иначе не пошла бы на Россию, — учтиво заговорил Свиря.
Эти слова пришлись по вкусу, сипатый торопливо переводил, они оттаяли и самодовольно улыбались.
— А ти не глюпый мушик, ти верно говорить, — с двусмысленной ухмылкой одобрил переводчик.
Тут Свиря осмелел. Вот он настал — его звёздный час! Он докажет, на что он, Свиря, способен, пусть все видят, и, приняв довольно развязный вид, сказал:
— Господин офицер, Германия ваша, наверное, большая страна, и армия её что надо, иначе не завоевали бы пол-Европы. Но, господин офицер, — тут голос Свири зазвучал предостерегающе и твёрдо, — но ведь и Россия-то огромнейшая страна, не то что европейские страны. Россию просто так не одолеть. У нас ведь не только армия, у нас ещё и партизаны есть. Россию победить — это вам не хухры-мухры!
Переводчик озадаченно заморгал:
— Ти можешь говорийт по-рюски, что есть «хухры-мухры»?
Свиря едва удержался от смеха, скорчив виноватую мину, сказал елейным голосом:
— Извините, господин офицер, я и говорю по-русски. А вот вы, господин офицер, не очень петрите в русском языке.
Переводчик, опять сражённый непонятным словом, остервенело набросился на Свирю:
— Что есть «петрите», ти што, издевайся надумаль?!
Стоявший рядом с ним высокий фашист с точёным носом и высоким лбом осуждающе посмотрел на переводчика и сказал на своём языке:
— Господин Бауэр, почему вы не переводите? Вы говорили, что изучали русский язык, а я вижу, что вы недостаточно хорошо его изучили.
— Я изучал русский язык по Толстому и Пушкину, а они говорят на каком-то тарабарском языке, — огрызнулся Бауэр и, считая виноватым во всём Свирю, набросился на него: — Ти есть ошень храбрий мюшик, но много говорийт лишку. Ти што, нас пугать надумаль, ми типя сейчас пах-пах, и нет типя. — И он показал пальцами, как бы нацелившись и нажимая курок. Солдаты, стоявшие по бокам крыльца с автоматами наготове, тотчас тряхнули ими.
И тут из толпы с испуганно-перекошенным лицом выскочила Евфросинья. Заслонив мужа собой, жалобно взмолилась:
— Господа немцы, господа немцы! — задыхаясь от волнения, заговорила она. — Вы не слушайте его, он такой, с придурью, недопечённый, шалопутный. — И, вцепившись в мужа, потащила его от крыльца. — Идём, дурень, чего трепешься, они тебя как собаку прикокнут.
Но Свиря грубо оттолкнул её:
— Оставь меня, жена! Я желаю говорить с господами офицерами. Не мешай!
Но Евфросинья не унималась, с ещё большей силой тащила его, призывая к благоразумию и одновременно кляня его на чём белый свет стоит.
— Ты что, совсем очумел! Чего буркалы-то выкатил, недотёпа! Пустозвон ты, балаболка ты этакая, твой поганый язык до крючка доведёт, — обливаясь слезами, урезонивала она Свирю.
У переводчика отвалилась челюсть: разрази его гром, чтоб он понял хоть одно слово этой женщины. Странный этот русский народ, всё в нём непонятно: и характер, и язык...
Люди смотрели на Свирю с ужасом: вот дурак, что он думает?
Это ведь не колхозное собрание. До чего доведёт его болтовня? Такой прыти от него никто не ожидал. Все глядели на него с боязливым любопытством и ждали, чем всё это кончится. А Свиря закусил удила и пёр напропалую. Была не была, на миру и смерть красна, как видно, решил он. А может быть, он наслаждался тем, что находится в центре внимания. А может быть, у него было что-то своё на уме, никому не известное? Во всяком случае, он не отступал.
Освободившись от цепких рук своей жены, почтительно поклонился «господам офицерам», поправил свой пиджачишко и виновато-любезным тоном заговорил:
— Прошу прощения! Глупая женщина! Что с неё взять? Она решила, что вы хотите меня расстрелять. А за что?
Тут Свиря вполоборота повернулся к жене, которая стояла рядом, заливаясь слезами и готовая самоотверженно разделить судьбу с непутёвым мужем.
— Немцы что они, звери какие, набросятся ни с того ни с сего и давай стрелять? Ни за что ни про что? — И, круто повернувшись к фашистам, сказал: — Я правильно говорю, господа офицеры?
Сипатый торопливо переводил. Очкастый, по всему было видно, что это начальник гарнизона, хитровато сощурил глаза и, с насмешливой, злой ухмылкой глядя на Свирю, сказал:
— Ти есть болшой шельма, ошень хитрий мюшик, но не дурак. — И, погрозив ему пальцем добавил: — Война не быфает куманной, запомни это!
Все трое о чём-то стали совещаться.
Переводчик отчаянно тряс головой, выражая полное несогласие. Но очкастый жестом руки отмёл все возражения и приказал передать Свире:
— Нашалник гарнисона наснашает типя староштой. Ти будешь помогать нам, великой Германии. Ти дофолен? — передал сипатый.
— О нет, господин офицер, я на эту должность не пойду, не согласен! — с отчаянной твёрдостью ответил Свиря. — Они меня, — он показал пальцем на людей, вокруг стоящих, — заживо сожрут. — Они меня ненавидят, я знаю.
— Ошень карошо, ми бутем типя люпить, ха-ха! — И переводчик засмеялся едким смешком.
— Всё равно не пойду в старосты, — настойчиво повторил Свиря.
— Пошиму не кочешь нашим бить шеловеком? — настороженно спросил немец.
— А потому, господин офицер, что сегодня я — староста, а завтра — труп. Придут ко мне партизаны и ухлопают меня, уйдут в лес — их Митькой и звали. Ищи ветра в поле.
— Аха! — обрадовался переводчик. — Знашит, есть портисан, которой софут Митькой. Так я поняль типя?
Свиря ухмыльнулся про себя. «Этот толмач ни чёрта не смыслит в русском языке», — подумал он и, что-то лихорадочно соображая, решился:
— Да, да, Митькой.
Какая-то девчонка-подросток в толпе громко хихикнула, отчего тут же получила хороший подзатыльник от матери.
— Молчи, дура стоеросовая, коли ничего не понимаешь.
— А какой он из сипя, этот Митька? — допытывался фашист.
Свиря, воспламенённый этой выдумкой, с жаром отвечал.
— Митька-то? — плутовато ухмыльнувшись, переспросил он. — Во! — Он поднял руки выше головы. — Два метра роста, плечищи — во! Ручищи — во! В одной руке автомат, в другой граната, а за плечами пулемёт. Для Митьки нет ни часовых, ни запоров, кого захочет ухлопать, сделает это в два счёта. Не поймать его. Вынырнет как бес из-под земли. Я очень его боюсь, — озираясь по сторонам, тоскливым голосом проговорил Свиря.
Офицеры зябко передёрнули плечами, их глаза беспокойно зашарили по толпе, как бы выискивая этого великана «Митьку». Очкастый ухмыльнулся:
— Не бойся. Ми татим типе охрану. И ти бутешь ловить портисан «Митьку». Я наснашаю типя старошта, — раздражённо проговорил очкастый. Чувствовалось, что ему уже всё это надоело, тем более заморосил дождь, задул ветер. Они подняли воротники своих плащей.
— Ваша власть, господа офицеры. Раз приказываете, то я подчиняюсь, — смиренно проговорил Свиря. — Но партизан ловите сами. У вас оружие, полицаи, солдаты, вот и ловите. А я что — с голыми руками. — Что-то ещё соображая, Свиря осторожно спросил: — А на какое время я должен быть старостой? И ещё, позвольте узнать, надолго к нам пожаловали? — брякнул вдруг он неожиданно для самого себя, и его глаз-гвоздик испуганно замер не мигая. Евфросинья прикрыла рот рукой, чтоб не закричать, и застыла от ужаса.
Переводчик хмыкнул. Очкастый с презрительным недоумением посмотрел на Свирю. Стёкла его очков зловеще блеснули.
— Ми пришёль сюда навешно! Понятно? А ти будешь работайт, пока я хошю!
Люди в толпе стояли отчуждённые, мрачные и, казалось, безразличные к его словам. К негодованию очкастого, никто не реагировал на то, что перед ними офицеры непобедимой великой Германии. Хорошо, он это припомнит им!
— Всех отправить на окоп рыть. Все должны работайт. Ти, старошта, головой отвешаешь. А теперь все уходить! Марш!
Люди зашевелились, стали расходиться. На Свирю смотрели кто враждебно, кто с сожалением и укоризной. Евфросинья оглядывала всех виновато-жалкими глазами, ища сочувствия. Люди жалели её. Она потопталась возле мужа и растерянная, подавленная поплелась за всеми. А Свиря шёл рядом с фашистами, горделиво вскинув голову. Его короткие ножки шустро семенили, не попадая в такт широким шагам долговязых немцев. Говорил Свиря вежливо, но без лакейского подобострастия, храня в себе человеческое достоинство. Он ещё им покажет себя!
Кому им, было известно только пока Свире.
Партизанский отряд
Вначале он был небольшим, всего шестьдесят восемь человек. В их действиях, ещё не очень уверенных, не было опыта, той дерзости и удальства, которые порой решали успех операции. Но с каждым разом задания выполнялись всё более удачно: то порезали провода, нарушив связь, то взорвали несколько автомашин с горючим или живой силой — всё это придавало силы, смелости сделать ещё больше и больше. Уничтожать врага, гнать его со своей земли!
В отряде собрались самые разные люди по возрасту (от четырнадцатилетних подростков до седовласых пожилых людей) и по роду занятий. Тут были и учителя, и агрономы, и партийные работники, и служащие разных учреждений. Потом люди, хлебнувшие горе горькое, пошли к партизанам целыми семьями. Отряд стал увеличиваться. Жили в землянках, сами рыли их, утепляли, ставили печки, создавали, по возможности, удобства.
Все были при деле. Женщины готовили незамысловатую пищу, стирали бельё для партизан-воинов, ухаживали за скотом. Ребятня собирала хворост, мох для утепления. Все работали без недовольства, знали: чтобы вернуться вновь домой, в свои тёплые дома, надо прогнать врага, а для этого требуется борьба с ним не на жизнь, а на смерть.
Днём велась учёба по овладению оружием. Надо было метко стрелять, ловко и далеко бросать гранаты, суметь быстро подложить мину, чтобы в трудный момент не растеряться, найти ловкий манёвр. Один молодой колхозник из соседнего колхоза, Петухов Егор, владел редким искусством: метал ножи-кинжальчики. Все разведчики стали его учениками: кому как не им порой надо иметь бесшумное оружие. Арина, восхищённая руками Егора, тоже решила во что бы то ни стало овладеть этим мастерством. Но у неё плохо получалось. Нож ложился «лепёшкой». Она досадовала, сердилась на свои руки, но не отступала. Упрямо метала эти непослушные ножи. И вот победа! Научилась, подчинила нож своей воле. При удобном случае похвалилась Кедрову:
— Ещё одним видом оружия овладела. — И она тут же продемонстрировала ловкость своих рук.
— Молодец! Настырный ты человек, Бойцова. — И, обращаясь к комиссару отряда Астахову, похвалил: — Добьётся своего всегда, и чем труднее дело, тем сильнее желание.
Комиссар одобрительно улыбнулся.
— Всякий вид оружия в войне рано или поздно пригодится, — сказал он.
Арина прикидывала в уме: автомат, пистолет, винтовка и ножи — всем этим она владеет в совершенстве. Вот как бы до станкового пулемёта добраться да мины научиться закладывать. Но Иван Тимофеевич и слышать не хотел.
— Есть группа минёров, и этого достаточно. Это не для твоего характера. Ты сама, как мина, того и гляди, взорвёшься, — шутил он. — А научиться стрелять из пулемёта — это можно. Вдруг замена понадобится, никогда не мешает в запасе пулемётчика иметь.
Зиму встретил партизанский отряд довольно хорошо оснащённым. Захватили несколько машин с продовольствием и оружием. Наладилась связь с Большой землёй. Сбросили с самолёта радиста, теперь они уже не чувствовали себя одинокими, затерявшимися в лесу.
Самолёты доставляли продукты, медикаменты, забирали тяжелораненых. Фашисты увеличивали охрану складов с боеприпасами, а склады всё равно летели в воздух. Шоссейную дорогу берегли как зеницу ока — это главный Смоленский тракт, ведущий к Москве. И на этой дороге рушились мосты, взрывались целые автоколонны. Непостижимо!
Партизаны всюду. Но подойти к ним было невозможно: топкие болота, даже зимою местами не замерзающие от горячих родников, дремучие, непроходимые леса надёжной оградой заслонили их. Покружат вражеские самолёты над лесом, сбросят бомбы куда попало и улетят ни с чем. Не везти же обратно их на базу.
Жизнь у фашистов была тревожной и опасной, партизаны подстерегали их на каждом шагу и мстили им по самому высокому счёту.
Как-то в лагерь приволокли «языка» с документами, и довольно важными. А кто их переведёт, кто допросит фашиста, ничегошеньки не понимавшего по-русски? Командир с комиссаром ломали голову: что делать?
Арина, услыхав об этом, явилась сама к ним в землянку-штаб, сказала:
— Дайте мне эти документы, я посмотрю, и «языка» сюда приведите. Я когда-то довольно ретиво изучала немецкий. У меня была домашняя учительница. По её словам, я хорошо овладела немецким, может быть, что-то ещё помню. И смогу вам помочь.
Так в отряде объявился и свой переводчик — Арина. Спасибо Марии Георгиевне, какую неоценимую услугу сослужила она не только Арине, но и Родине! В эту ночь долго не могла заснуть Арина, вспоминала свою наставницу, упрямую учительницу, которая говорила: «Почём знать, может быть, тебе пригодится в жизни немецкий язык. И хоть тогда ты меня вспомнишь добрым словом. Это будет память обо мне». — «Пусть земля вам будет пухом, моя дорогая Мария Георгиевна. Я вспоминаю вас и всю жизнь буду помнить! Добро никогда не забывается».
Арина была счастлива, что может принести отряду пользу, занимаясь переводами документов и допрашивая пленных.
Новые порядки фашистов
«Новый порядок», который собирались гитлеровцы навести в России, заключался в том, что они открыто начали грабить советских людей. Нахально вваливались в дом и хватали всё, что считали для себя нужным: тёплые вещи, полушубки, валенки, носки.
В деревне не осталось ни одной курицы. Исчезли из хлева поросята. Выгребали из подвалов овощи: картошку, брюкву, морковь. Те запасы, которые были сделаны людьми на долгую зиму. Всех коров согнали на ферму, приставили к ним трёх женщин, чтоб ухаживали за ними, кормили и доили. При дойке обязательно присутствовал полицай, а то и два, следили за добросовестностью доярок, как бы те не смошенничали и не отлили себе чашку молока. Молоко относили на гарнизонную кухню.
И надо было случиться такой беде! Полина, одна из доярок, недодоила корову. Решила, когда уйдёт полицай, додоить её, чтобы хоть стакан для своей больной девочки принести домой. Но бдительный страж углядел её уловку. Наказание было ужасным. На голову Полине надели пустое ведро и били дубинками по его днищу до тех пор, пока та не потеряла сознание. Потом отстранили её от коров, угоняли на работу копать рвы или в лес заготавливать дрова.
Люди жили под вечным страхом. Не то сказал, даже не так посмотрел — получай пулю.
Чувствуя себя хозяевами, они безнаказанно распоряжались судьбами и жизнью людей. Дарья Акимова, тридцатидвухлетняя женщина, заболела и не смогла пойти на работу. Не вышла день, не вышла два, а на третий — пришли три верзилы полицая, стащили её с постели, выволокли на улицу в одном белье при тридцатиградусном морозе и стали поливать её ледяной водой. Люди в ужасе закричали:
— Что вы делаете? Есть ли сердце у вас? Остановитесь!
— Она есть болной шеловек, ми её лешим, бутет сдоровай, — гоготали они в ответ. — Все, кто саболеть сахошет, бутем так летать. Ха-ха, го-го!
Дарья даже кричать не могла. Обессиленная, она замертво повисла у них на руках. Обледеневшую, полицаи бросили её на снегу. Подскочили люди, как мороженое бревно внесли в избу-баню, где она жила с двумя детьми-близнецами семи лет.
После смерти Дарьи её брат, хромой Кирилл, взял детей к себе. А вскоре посадил их на саночки, пришёл к партизанам:
— Не могу, за себя не ручаюсь. Возьму топор и шарну кого-нибудь по башке. Только чувствую, этого мало. Может быть, здесь у вас больше пользы принесу? Я ведь кузнец хороший, ножи, кинжалы — всё смогу.
— Нам-то ты как раз и нужен! — обрадованно сказал Кедров. — Кузнецы нам позарез нужны. А о племянницах не беспокойся, не обидим.
На другой день, после варварского поступка фашистов, полдеревни не вышло на работу. «Пусть поливают, не пойдём, и всё тут», — решили они. А на дверях дома, где жил начальник гарнизона Мюллер, была приклеена записка. Буквы были собраны из газет, печатные, крупные:
БУДЕШЬ, ЗВЕРЬЁ, ЛЮТОВАТЬ,
ГОЛОВЫ ТЕБЕ СВОЕЙ НЕ ВИДАТЬ!
МИТЬКА-ПАРТИЗАН
Мюллер срочно вызвал старосту Свирю.
— Это што? — сунул он ему под нос записку. — Кто? Кто писаль?
Свиря испуганно моргал глазками-гвоздиками. Дождавшись, когда Мюллер успокоился, вынул из кармана точно такую же записку, в которой было выложено печатными буквами:
ФАШИСТСКИЙ ХОЛУЙ, СКОРО БУДЕШЬ ВИСЕТЬ
ВНИЗ ГОЛОВОЙ!
МИТЬКА-ПАРТИЗАН
Прочитав, Мюллер нервно забегал по кабинету. Его очки сверкали так же зловеще, как и глаза.
— Што ти думаль на это дэло? — спросил он Свирю, пронизывая его сурово-недоверчивым взглядом.
Тот с самым что ни на есть разнесчастным видом, обречённо поникнув головой, произнёс:
— Я вижу, господин начальник, что моя песенка спета. Скоро мне каюк.
— Ти есть больван. Про какую песень ти говоришь? Што за каюк тепе бутет?
— Про такую, что нам с вами вместе висеть вниз головой на одной перекладине. Понятно? — вдруг осмелел Свиря. — Когда вешали эти записки, где была стража? А? Значит, к вашей двери легко подойти? А где охрана, которую вы собирались ко мне поставить? Где полицаи? В них собака зарыта! Вместо того чтобы нести службу, они народ возбуждают. Сегодня полдеревни не вышло на работу. Что, всех будете водой поливать?
Мюллер сел за стол, закурил дорогую сигару, изумлённо и вопросительно смотрел на этого не в меру разошедшегося пигмея. За кого он больше ратует? За свою и его, мюллеровскую, жизнь или за людей, которых полицаи обижают?
Но Свиря, уловив подозрительную искорку в его глазах, тут же вынырнул:
— Господин начальник, увольте меня с этой должности. Не могу я больше, лучше в лесу на морозе дрова буду заготавливать, рвы копать, но жить спокойно. Они всё равно убьют меня, как пить дать, убьют, — жалостливо и просительно говорил он.
— Ну, ну, што ти есть, какой трюс. Ми их всех скоро виловаем, — сказал Мюллер.
— Нет, господин Мюллер, не выловить их, — уныло заметил Свиря.
— Скоро прибудет отряд каратель, вокрук лесоф заляшет и путет их лофить.
— Дай-то бог, — подавленно пробормотал Свиря и опять с трусливой просьбой, заглядывая в глаза Мюллеру, захныкал: — Так, может, уволите? Господин...
— Иди, иди. Ти карошо работайт, я дофолен. Не бойсь, охрану усилим.
Свиря, съёжившись, выкатился из кабинета.
После ухода Свири Мюллер тут же вызвал своего помощника Вайсмана, дал хороший нагоняй. Велел усилить охрану и ослабить пока надзор над людьми.
— Уже полдеревни ушло от нас, скоро вообще останемся одни, — сказал он на своём языке. — Всему надо знать меру. Это всё ещё впереди! Надо что-то и на будущее оставить, — с двусмысленным злорадством закончил он.
Вайсман его понял вполне, самодовольно и торжествующе проговорил:
— Наше всё впереди! Оно от нас никуда не уйдёт! — Оба, довольные друг другом, рассмеялись. Они ещё не знали, что их войска прогнали из-под Москвы. Их радио это скрывало.
Зима 1942 года шла на убыль, морозы отлютовали, солнце пригревало землю. Люди, измученные работой и полуголодным существованием, радовались солнечному теплу. Хотя бы трава пошла, всё можно щи из крапивы сварить.
Недоедание тяжелее всего переносили дети, они, как стая ворон, всё время паслись у гарнизонной кухни. Выплеснут помои — они тут как тут. Глядишь, и кусочек съедобный можно найти. Размокшая корочка хлеба или очистки от картофеля, овощей. Дома мамка вымоет, сварит похлёбку. Самый старший, десятилетний Сергунька, особенно тяжело переносил голод. И вот однажды, стоя на своём посту и поджидая, когда выльют ведро с помоями, он заметил, как повар со своим помощником понесли огромную кастрюлю в кладовую.
В кухне никого не было. Оттуда несло невозможным запахом свежепечёного хлеба, только что привезённого из пекарни и сложенного на большом столе тут же возле двери. Всего одно мгновение — и хлеб в руке. Сергунька глянул направо, налево, уже не управляя своими действиями, только подчиняясь ощущению голода и страшному желанию во что бы то ни стало утолить голод, он вскочил в открытую дверь и схватил краюху хлеба, лежащую на столе. Выбегая, головой почти ударился во что-то мягкое, это оказался живот толстого фрица, начальника снабжения, который, на беду Сергуньки, зашёл в этот момент.
Хлеб сам по себе выпал из оцепеневшей руки мальчика, он побледнел так от страха, что был близок к обмороку. Фашист крепко держал его за руку, не обращая внимания на состояние его:
— Ти зашем есть здэсь? Ти вороваль хлеб? Ах ти плют.
Мальчик винтом извивался в его руках, умолял, просил, плакал:
— Отпусти меня, я больше никогда не буду, пожалуйста.
Ребятня, увидев, что Сергунька «влип», помчалась по домам оповещать о случившемся. Кто мог, все побежали на спасение Сергуньки, впереди всех неслась Настя, мать его.
Возле кухни уже оказалось несколько солдат и полицаев, тут же замельтешил и народ. Все решили, что фашист с толстым брюхом прочитает нотацию, может быть, для порядка, за уши оттреплет да и отпустит с миром. Ребёнок ведь, к тому же голодный, что с него взять?
Но дело повернулось по-другому. Толстобрюхий с очень доброжелательным лицом держал Сергуньку за руку и так хорошо, добро ему улыбался:
— Ти, знашит, ошень хочеш кюшать? Так я говорью?
— Ага, очень, — горестно согласился Сергунька.
— Я типе сечас дам кюшать. Много кюшать дам, — по-прежнему улыбаясь, говорил он.
Настя не выдержала, подскочила к толстобрюхому, упала на колени.
— Прошу вас, умоляю! Отпустите, ради бога! Мой ребёнок! — Она ползала возле его ног, пытаясь вырвать сына из его цепких рук.
Полицай схватил её и, отшвырнув в сторону, не давал больше подойти.
В дверях показался повар, толстый ему что-то сказал, и тот быстро ушёл в глубь кухни, через минуту он подал блюдо с накрошенным в нём хлебом. Толстый, приняв это блюдо, злорадно заулыбался и, схватив из-под ног горсть мокрой земли, стал мешать её вместе с хлебом. В блюде появилось чёрное месиво.
Все смотрели, ничего не понимая. Что это он делает? Зачем и для чего? Держа Сергуньку одной рукой за плечо, другой, — запачканной в земле и хлебе, стал пихать блюдо под нос мальчику:
— Кюшай хлеб. Много хлеба. Ти колотный, кюшай, на сдорофье.
Сергунька, весь дрожа, всё ещё не мог понять, что от него хотят? И дико смотрел на это блюдо с месивом земли и хлеба.
— Кюшай, малшик, на сторофье, — понукал толстобрюхий, по-прежнему ласково улыбаясь.
Полицаи, подошедшие к этому времени и узнавшие, в чём дело, заинтересованно смотрели и гоготали, наверное восхищаясь остроумной затеей.
— А ну ешь, коли кормят, — прикрикнул один из полицаев и, схватив Сергуньку за волосы, стал тыкать его лицом в блюдо.
Настя взвыла истошным воплем, хотела броситься к мучителям её сына, но дядя Егор, её сосед, крепко держал:
— Ты что, дура, да они обойму разрядят в тебя, и осиротишь своего сына.
А Сергунька, в безумии выпучив глаза, в каком-то страшном исступлении начал хватать рукою это месиво из блюда и пихать себе в рот. Но не глотал и не жевал, а всё пихал. Его щёки раздулись, словно он за них по яблоку положил. А его истязатели весело ржали и подбадривали:
— Молодесь, кюшай, на сдорофье.
Но, заметив, что мальчик не глотает, а только пихает в рот, толстобрюхий наклонился близко к его лицу и с укором, с улыбкой сказал:
— Ай, ти маленький плют. Пошиму обманываешь нас, пошиму...
Он не договорил фразы, так как Сергунька выплюнул всё содержимое рта ему прямо в лицо, залепив глаза, щёки, нос. Его тотчас схватили, повалили на землю и стали бить.
Наверное довольный своей местью, Сергунька уже не кричал, он решил мужественно принять эти побои, а может быть, и смерть.
Его мать на мгновение застыла, она словно вспоминала что-то, и, вдруг сорвавшись с места, побежала к дому. Он был близко, через дорогу. Никто не заметил её быстрого возвращения, и всё свершилось в какое-то мгновение. Настя хищной птицей налетела на полицая, который особенно усердствовал в избиении её сына, что-то блестящее сверкнуло в её руке, и полицай с перерезанным бритвой горлом, заливаясь кровью, упал. Остервенев до безумия, она успела шарнуть по лицу ещё одного. Спохватившись, другой дал автоматную очередь по ней.
Настя лежала с перекошенным от ярости лицом, а в открытых глазах её застыла ненависть и страдание. В передряге, в панике чьи-то добрые руки подхватили Сергуньку, и он в мгновение ока исчез, словно его и не было.
В стороне неподвижный, мрачный стоял Свиря. С начала до конца он видел всю сцену.
В эту ночь ярким факелом горела гарнизонная кухня с кладовой, стоящей рядом. Аппетитно пахло жжёным сахаром и горелым хлебом. А на дверях немецкой комендатуры опять висела записка из печатных букв: «Скоро счёты мы сведём, дайте сил набраться, всех, как крыс, мы перебьём, ни одному в живых вам не остаться! Митька-партизан».
И опять бушует Мюллер, трясёт бедного Свирю за шкирку, а тот ему в нос тоже записочку суёт: «Фашистский прислужник, твой час настал, готовься на тот свет, будешь там держать ответ. Митька-партизан».
Начальник смотрел на него враждебно и с недоверием. И Свиря опять скулил, как побитая собака, чтоб его освободили от этой разнесчастной должности, иначе он руки на себя наложит, не дожидаясь партизан, когда они с ним сведут счёты. И опять этот тоскливо-умоляющий взгляд. Так ничего путного и не добившись от своего старосты, начальник в мрачном состоянии духа зыкнул на него:
— Пошоль вон, трюс и больван! — А про себя подумал: «Или он действительно большой трус, или великий шельма. Надо будет присмотреться».
А в партизанском отряде тоже ломали голову: кто же там, в деревне, развешивает эти угрожающие записки? Почему этот человек не свяжется с ними? Может быть, он принёс бы большую пользу делу, их общему теперь уже делу? Кто же он? Этот Митька-партизан? В догадках своих несколько раз натыкались на Свирю, но тут же отметали его кандидатуру. Такой трус и шкурник, да никогда в жизни! Его интересует только своё благополучие.
Присосался к фашистам, удобно устроился, ничего не скажешь, Евфросинья — уборщицей в комендатуре и у начальника, получает паёк. Нет, это не он. Партизаны пока не трогали его. В сущности, он ещё никаких вредных для населения действий не вёл. Да и про партизан помалкивал. А уж что известно про их существование, а может быть, и местонахождение, то это точно. Тогда как это понимать? Есть над чем призадуматься!
Неожиданная весть
Зимние вылазки партизан на «операции» были не так часты: мешала погода, на снегу оставались следы. Пользовались случаем, когда мела метелица. Зато с наступлением тепла зашевелился отряд. Вновь застонали враги от партизан.
И вот в начале июня 1942 года связной и верный разведчик тринадцатилетний пастушок Гаврюшка принёс в лагерь довольно странное сообщение. А странным оно было потому, что исходило от Свири. Так Гаврюшка и доложил командиру отряда Кедрову:
— Дядя Свиря сказал: «В ночь на пятнадцатое июня ожидается передвижение большой автоколонны. С оружием, боеприпасами и живой силой».
Командир и комиссар насторожились. При чём тут Свиря? Фашистский холуй, их староста? Может быть, службу им сослужить хочет?! Вызывает партизан на встречу, но вопрос: какую и с кем? Надо проверить всё как следует, а не бежать сломя голову...
В эту же ночь направились к нему послы-разведчики. Среди них девятнадцатилетний племянник Свириной жены Петя, смекалистый, быстро ориентирующийся в сложной обстановке; его друг Толя, молчаливый, очень осторожный, да Ким, дерзкий, волевой, их командир.
И вот среди ночи подползли к Свириной избе, благо, стояла она на отшибе, на краю деревни. Постучались.
— Кто там? — недовольно спрашивает сам Свиря.
— Откройте, дядя Свиря, — проговорил племянник Петя, — поговорить надо.
Лязгнула железная задвижка. Острый, недоверчивый взгляд Свири уставился на них из темноты. Не совсем ласковым голосом сказал:
— А, вояки-партизаны пожаловали?! Проходите. — И каждого из них ощупал подозрительным взглядом. Закрыл за ними дверь, позвал в избу.
Но парни остановились здесь, в сенях, окружив Свирю с автоматами наготове.
— Это что? Никак меня убивать собрались? Напрасно, — с насмешливым сожалением сказал он. И его чёрный глаз-гвоздик испуганно задрожал.
— Пока нет. Убивать тебя не собираемся. Но разговор у нас короткий: то, что ты передал Гаврюшке, правда? — строго спросил Ким.
— Значит, правда, коли сказал, — невозмутимо ответил Свиря.
— Откуда ты узнал? — все трое испытующе смотрели на него.
В сенях было темно, только в маленькую щель полуоткрытой двери проникал сюда слабый свет. Свиря стоял как раз лицом к двери, и было хорошо его видно. На этот вопрос он ехидно ухмыльнулся:
— Это уж моё дело. Вам про то знать не следует.
— Ты Гаврюшку не выдашь?
— Зачем? Он мне не мешает. Хороший малый.
— Откуда ты узнал, что он наш связной?
— Это тоже моё дело. — И уже с досадной нетерпеливостью, чтобы закончить наконец, как видно, для него неприятный разговор, отрезал: — Вот что, братва, давайте договоримся так: мне допросы не учиняйте, вы делайте своё дело, я — своё. Я до ваших дел не буду касаться, а вы до моих. Это моя забота. Лады?
Послы-разведчики оживились.
— Дядя Свиря, а может быть, вы с нами в контакт войдёте? — осторожно предложил Петя.
— Нет уж, увольте. С партизанами якшаться я не намерен. У вас дорога одна — в лес, а у меня — другая — на виселицу, а я ещё пожить хочу.
«Послы» неопределённо потоптались на месте.
— Хорошо! Так и знать будем! — вызывающим тоном, похожим на угрозу, сказал Ким. Толя толкнул его в бок: мол, ни к чему это. И, чтоб выправить положение, миролюбиво сказал:
— Извините за беспокойство, дядя Свиря, до свидания.
Толя не утерпел и всё-таки пустил шпильку:
— Что-то, дядя Свиря, вы на фашистских хлебах не толстеете и не растёте?
— Я свой хлеб ем, а роста мне хватает, лучше от ветра не гнусь, — недовольно огрызнулся Свиря и стал открывать дверь. — Подождите, я посмотрю сначала, нет ли патрулей.
— Неужто охраняют тебя? — хихикнул Петя.
— Меня нечего охранять, я у себя дома. Они сами себя охраняют. — Посмотрев во все стороны, махнул ребятам. — Огородами идите, — наказал он. Пете-племяннику, придержав в дверях, шепнул: — Чего узнаю — с Гаврюшкой накажу.
— Я вижу, ты, дядя Свиря, неплохо устроился. И нашим и вашим служишь?
— Кому служу, про то не скажу, придёт время — всё узнается. Я не по доброй воле пошёл, меня принудили. И лучше, что я. Мои руки не в крови. На меня жаловаться никто не может. Что не угнали людей в Германию, моя заслуга. И так всё время попридерживаю их лютовство, партизанами стращаю. Не любят, побаиваются.
— Но учти, дядя Свиря, если с автоколонной будет несоответствие, учти — головы тебе не сносить, — предупредил на прощание Петя.
— Не стращай, не боюсь. Коль говорю, значит, так и есть, а это ваше дело, как хотите, так и поступайте. Бывайте!
И ещё долго стоял Свиря на крыльце и смотрел вслед уходящим храбрецам. Пока они не превратились в едва заметные точки.
Подходя к лесу, Ким сказал:
— А что, Петя, мне сдаётся, что твой дядя — партизан-одиночка!
— Время покажет, — уклончиво ответил Петя.
Операция «Большак»
К этой диверсии готовились тщательно и всесторонне, исключая всякие, даже мелкие неожиданности. Разработали план нападения на колонну. Всё было учтено: как расставить силы, где сосредоточить огневые точки, на каком расстоянии друг от друга посадить на деревья «кукушек» — снайперов. На тот случай, если фашистские солдаты залягут на земле, их уничтожат с высоты снайперы-«кукушки».
И вот в ночь на 15 июня двинулась длинная цепочка партизан. Впереди была выслана конная разведка, а сзади замыкал отряд санитарный обоз с плоскими телегами — для раненых.
На двенадцатом километре от деревни прорыли ров через дорогу, заложили досками, присыпали песочком, гравием, рассчитывая на тяжесть мотоциклов. Их «мостик» выдержит, а машина, конечно, рухнет.
Операцией руководили командир Кедров и комиссар Астахов. Всё делалось быстро и бесшумно, никакой суеты, каждый знал своё место и назначение в данной ситуации. Для победы необходимы: внезапность, быстрота и натиск — чтобы не дать опомниться врагу.
Сто бойцов-партизан залегли вдоль дороги на расстоянии десяти-пятнадцати метров друг от друга, заняв таким образом более чем километровую длину огневой позиции. «Кукушки» «взлетели» на высокие сосны и дубы, замаскировались их свежезелёными ветвями. Среди них и Арина — самый лучший снайпер во всём отряде.
Слух обострён до предела. Ждут! Всё тихо, лишь лёгкий шорох листвы пронесётся над лесом, и опять безмолвие. В задумчивой дрёме стоит лес плотной стеной вдоль дороги. Летняя ночь коротка и светла. Не успеет погаснуть закат, как алым пламенем зардеет восход.
Аринка с грустью посмотрела на тот мост, который когда-то строили её отец и вся их деревня.
И припомнилось ей то утро, когда она, чтоб не проспать, привязала верёвку к ноге и выбросила конец за окно, чтоб разбудил её Нил. Но дёрнул за верёвку Симон. При воспоминании об этом она улыбнулась. Как хорошо, как спокойно было тогда.
Конная разведка доложила: «Идут».
И вот послышались отдалённые гулы моторов. Взоры партизан устремились на дорогу, каждый припал к оружию.
Конный отряд лесом умчался назад, его задача — уничтожить мотоциклетный эскорт, замыкающий колонну. В противном случае они могут вернуться в гарнизон и доложить обстановку на большаке. А так всё произойдёт тихо. Стрельба на таком далёком расстоянии не будет слышна, это тоже учтено при подготовке операции.
Всё случилось так, как и предполагалось. Сначала пролетел эскорт мотоциклистов. Их лихие железные кони не заметили ненадёжного «мосточка». За ними двигались тяжёлые машины, крытые зелёным брезентом. Первая из них тут же рухнула в ров, вторая — почти верхом села на неё. Завизжали тормоза, машины плотно придвинулись друг к другу. Из первых двух машин стали выскакивать люди, крича на русском языке: «Не стреляйте, мы пленные, русские», — побежали в лес. Такое положение было учтено партизанами: враги, боясь налететь на мины, первыми посылали машины с русскими пленными.
Но на этот раз не мины, а шквальный миномётный огонь поразил колонну. Летели гранаты под машины, и те рвались на мелкие куски. На машинах отбрасывались брезенты, и фашисты суматошно выпрыгивали на землю. Но не успевали залечь — противотанковые гранаты настигали их. Взрыв — и всё покрывалось облаком пыли.
От самодовольных, самоуверенных вояк, завоевателей Европы, не оставалось и следа. Они, как испуганное стадо овец, мечутся из стороны в сторону, трусливо бегут, ползут в лес, ища там спасения, но и там их встречает смерть. Шквальным огнём хлещут их партизаны: «Нате вам, гости дорогие!» С двух сторон лобовые пулемёты бьют трассирующими. С хрипотцой «кашляют» противотанковые ружья. Как пригодилось оружие, которое они добыли в недавнем бою с фашистами. Сотня смертей носится над врагом. Народные мстители-партизаны, в груди которых бушевала ненависть за поруганную Родину, за смерть своих близких, не давали им пощады. Вот она пришла — минута возмездия!
Согнувшись, спотыкаясь, бежит в лес прямо к Арине молодой ефрейтор. Его простёртые руки не то хватаются за воздух, не то молят о пощаде. Арина взяла его на мушку, но что-то похожее на жалость вдруг шевельнулось в ней. Такой молодой, полный здоровья и жажды жизни. Арина впилась в него взглядом и замерла на мгновение. Убить человека?! Но нет. Тут же всё внутри восстало против этой минутной слабости. Это не люди. Это двуногие звери! Несущие смерть, страдание человечеству, заливающие землю кровью. Надо уничтожать! Нет им пощады! Нет места состраданию! Они же не жалеют НАС! И меткий выстрел Арины свёл счёты с выродком человечества. Он рухнул ниц, в последний раз обняв землю, чужую землю.
На протяжении всей колонны бушевало пламя. Тёмный дым накрыл дорогу. Летели куски железа, булыжники, фейерверком подбрасывался щебень и мелкие камни. В течение часа всё было кончено. Партизаны спешили. Взвилась ракета, оповещающая отход. Брезжил рассвет. Потерь было немного. Раненых уложили на подводы и повезли в дремучий лес за болото.
Пятьдесят человек пленных из головных машин с радостью присоединились к партизанам. Это было очень хорошее пополнение. Они тут же обеспечили себя трофейным оружием. Среди них были кадровые офицеры, знающие прекрасно военное дело, снайперы, пулемётчики, шофёры и даже один врач. Уходя, партизаны забрали часть уцелевших продуктов и боеприпасов.
Возбуждённые, разгорячённые, партизаны ликовали. Это была их первая самая большая и серьёзная операция, увенчавшаяся успехом. Спасибо, Свиря их не подвёл.
Ещё одно возмездие обрушилось на врага.
Арина в бою
Иван Тимофеевич с измождённо-усталым лицом пребывал в мрачном состоянии духа: во вчерашнем бою погиб его племянник, девятнадцатилетний Саша Кедров.
Подняв набрякшие веки, встретил ожидающий взгляд врача, Ольги Кирилловны. Жизни шести человек из вчерашних раненых под угрозой. Им нужны были срочные операции. Здесь, в этом примитивном госпитале, их было сделать невозможно.
Робко, упавшим голосом ещё раз проговорила:
— Иначе погибнут. Им нужны срочные и очень сложные операции. — Отвернувшись, тихонько всхлипнула, вспомнив Сашу Кедрова.
Иван Тимофеевич, обхватив рукою подбородок, крепко задумался. Потом, как бы очнувшись, уставился на врача: «Ах да, надо отправить раненых», — вспомнил он.
— Конечно, конечно, отправим. Сейчас свяжемся с Большой землёй, вызовем самолёт. Зачем же плакать? — И он дружески, через силу, улыбнулся.
Ольга Кирилловна благодарно закивала головой и, осторожно ступая, вышла.
Связались по рации с Большой землёй. Отряду обещали выслать самолёт. Только не на старую площадку, так как она была разбомблена, а на новую, у Синего озерка. Там есть широкая ровная поляна. Кедров вызвал Арину.
— Ты знаешь, Бойцова, дорогу к Синему озерку? — спросил он, ткнув пальцем в точку на карте, разложенной у него на столе.
Взглянув на карту, Арина утвердительно кивнула головой:
— Да, знаю.
— Завтра в шесть ноль-ноль будем отправлять раненых. Три подводы с больными. В сопровождении медсестры. Ты назначаешься старшей. Понятно?!
Арина подтянулась. Это был приказ.
— Всё понятно, товарищ командир! — твёрдо ответила она. — Ездовые будут?
— Конечно. Три человека ездовых и двое для охраны. Мало ли, дорога полна неожиданностей. Мы находимся в окружении врага.
— Хорошо. Я готова. А кто они, можно узнать? Ездовые и охрана?
Кедров назвал пять молодых, ещё почти необстрелянных парней за исключением Феди Зозули, этого бесстрашного богатыря. Остальных Арина знала только по учёбе: в бою с ними не была, значит, не знала. Потому на лице её мелькнула лёгкая тень разочарования. А впрочем, какая разница, кто будет управлять лошадьми и ухаживать за ранеными в дороге? В конце концов не в разведку идут, не в бой, и она, смирившись, тут же успокоилась.
— Можно идти, товарищ командир? — деловито спросила она.
Но острый глаз командира уловил её состояние:
— Ты чем-то озабочена, Бойцова, или недовольна? Скажи, я назначу других.
— Нет, нет! Всё хорошо. Это я просто так, — отговорилась она и в подтверждение своих слов посмотрела на Ивана Тимофеевича открытыми, правдивыми глазами. — Можно идти? — спросила она.
— Да, да, иди. Благополучного пути вам! — Проводив до дверей, на прощание сказал: — Будь осторожна, Арина. На рожон не лезь. Не подвергай ни себя, ни обоз опасности. В случае чего, найди другую обходную дорогу. Ты в лесу, как у себя дома.
В голосе Ивана Тимофеевича Арина уловила оттенок грусти и, чтобы успокоить его, уверенно сказала:
— Не беспокойтесь, Иван Тимофеевич, всё будет хорошо. Я дорогу знаю и обоз доставлю к назначенному часу. Обещаю быть осторожной. Часам к двум-трём ждите возвращения домой! — И вышла из землянки-штаба. Командир задумчиво смотрел ей вслед.
На рассвете следующего дня три подводы с шестью ранеными и шесть человек сопровождающих двинулись в путь. Арина на своей Стрелке ехала впереди, зорко поглядывая по сторонам, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Как истинно лесной человек, она обладала очень тонким слухом и зорким, как у птицы, зрением. И хотя их путь был недалёк — всего двадцать километров, — но кто его знает, идёт война, кругом неприятель, всё может случиться.
Ехали шагом.
Быстрая езда, резкое движение причиняли невыносимые страдания раненым. Стрелка была явно недовольна, она не привыкла тащиться, как старая кляча, и потому всё время рвалась вскачь. Арина иногда давала ей проминаж, проскакивала галопом с полкилометра, обследуя дорогу, и тут же возвращалась назад к обозу.
Было раннее утро. Пахло травами, цветами, прохладный воздух бодрил, всё это настраивало на хорошие думы. Вспомнился Захар, и опять защемило сердце. Жив ли, увижу ли? Страшно соскучилась по дочке. Стали вспоминаться картины прошлого, жизни в мирное время. Ах, лучше не думать, не бередить сердце.
Она тронула поводья, и Стрелка лёгким, размашистым шагом понеслась вперёд. Стоп! Арина насторожилась, остановилась. Её внимание привлекли птицы, они летели беспорядочно, панически, словно напуганные кем-то или чем-то.
Жестом руки велела остановиться обозу.
— Симочка, — обратилась она к медсестре, — напоите раненых, посмотрите повязки. Не надо ли подбинтовать кого? А ездовые подойдите ко мне.
Парни спешно подошли к Арине.
— Видите, — показывая на небо, сказала она. — Птицы летят оттуда, летят беспокойно. Значит, там что-то их напугало. Надо проверить.
Посмотрели ездовые на небо. Летят птицы: ну и что? Впрочем, действительно, встревоженно трещали сороки, испуганно верещали сойки. Но без Арины они бы этого не заметили.
— Подождите меня здесь, — строго сказала она. — Пусть и лошади отдохнут, больше половины проехали без отдыха. Я доскачу до той горки, вон видите, там сосна стоит, с неё я осмотрю всё окрест, что так напугало птиц. Я полагаю, что нас это не напугает, — озабоченно сказала она.
— Может быть, я это сделаю, — робко предложил Павлик свои услуги, — я хорошо лазаю по деревьям.
Арина ответила:
— Я ещё тоже не разучилась лазить по деревьям, — и, дёрнув поводья, помчалась к указанному месту.
Ребята растерянно молчали и ждали её возвращения.
Со спины лошади Арина проворно и ловко забралась на дерево, потом и на макушку сосны. С её высоты подозрительным взглядом всё ощупала кругом. Ничего не видно. Но она продолжала шарить биноклем, вглядываясь в каждый куст, поляну, лужайку. Стоп! Она отдёрнула бинокль от глаз, торопливо протёрла окуляры и опять припала к ним, настроив более чётко фокусировку. Так и есть, фашисты — птицы не обманули. Враги были далеко, шли вдоль леса по обочине небольшого болотца. Арина насчитала тридцать человек. За плечами у них не то рюкзаки, не то ящички. Зачем они здесь? И куда идут? По какому заданию? И что несут за спиной? Возможно, это мины? Да, скорей всего это минёры, идут минировать, но что? Дорогу? Какую? По которой ходят партизаны? Но откуда они знают эту дорогу? Все эти вопросы вихрем пронеслись в голове Арины. Враги двигались перпендикулярно дороге, по которой шёл обоз. Значит, если фашисты не свернут в сторону, неминуемо выйдут на ИХ дорогу. Этого допустить нельзя!
Стремительно скатившись с сосны, с маху влетела в седло и помчалась к обозу. Ребята обступили её, забросали вопросами:
— Ну что там? Вы увидели что-нибудь?
Арина слезла с лошади, чтоб говорить не с высоты, а наравне с ними. Лицо её было спокойно, даже невозмутимо. Ребята с нетерпением смотрели на неё, и глаза их светились каким-то детским любопытством. Они были совсем юные, с едва пробивавшимся пушком под носом.
Только Федя был настроен сурово и серьёзно.
— Что вы там увидели, — строгим баском проговорил он. — Фашистов, что ли?
— Да, представьте себе, увидела, — просто, даже как-то буднично сказала она. — Шастают там, гады, как у себя дома. Кажется, идут на нашу дорогу, а может быть, свернут в сторону.
— Что?! — с удивлением и даже недоверием переспросили ребята.
Уж больно хладнокровно сказала об этом Арина.
— Вы не ошиблись? — сдержанно спросил Федя.
— Нет, не ошиблась. За плечами ящички, по-моему, это минёры. Но куда идут, не знаю. Может быть, выйдут на нашу дорогу, а может, свернут в другую сторону.
— Их много? — с тревожным любопытством спросил Гоша, самый младший.
— Не... очень... Впрочем, я не считала, — покривила она душой, чтобы не слишком напугать этих мальчиков. Надо дать им возможность собраться с духом. — Так что будем делать? — деловито спросила она.
— Я считаю, надо затаиться и проследить, куда они пойдут, — сказал Павлик.
— Да? Это интересно. И как долго мы будем сидеть и ждать? А у нас раненые, мы должны их к сроку привезти. Самолёт ждать не будет, — с упрёком и неудовольствием сказала Арина. — Дальше. Они могут опередить нас и заминировать нашу дорогу. И мы все взлетим на воздух. Так как?
Довод Арины был логичен. Лица парней вытянулись, стали напряжёнными, серьёзными. Они будто взрослели на глазах, мужали, ни в одном из них Арина не увидела трусливой растерянности. «Молодцы, мальчики», — про себя похвалила она их.
— Пойдём своим путём, а если встретим их, то примем бой! — горячо и задорно воскликнул Гоша.
— Или затаимся в лесу, в укрытии, и перебьём их всех до одного, — присоединил своё предложение Федя.
Арина осадила их всех.
— Нет и нет! Это неразумные решения. Их много, а нас только пять человек. Они нас перебьют и захватят обоз. Наших измученных раненых станут пытать. Кто-то не выдержит мук и скажет, где находится наш лагерь. Тогда конец всему! Мы ставим под угрозу не только нашу жизнь, но и существование всего отряда. А там дети, женщины, сколько людей! Рисковать мы не имеем права. Кроме того, мы ограничены временем. У нас задание привезти раненых к самолёту в свой час. Их жизнь зависит от этого часа. Поэтому, на правах старшей, приказываю слушать мою команду! — решительно заговорила Арина.
Она ещё никогда в жизни не испытывала такого прилива твёрдости духа и ясности мысли.
— Я приказываю продолжать путь. Старшим по обозу назначаю Фёдора Зозулю. Теперь уже недалеко. Я провожу вас до той горки, там свернёте направо, поедете вдоль болота и прямо упрётесь в Синее озерко. Федя, посмотри на всякий случай карту. Только никуда не сворачивайте. Понятно?
— Понятно! — строго отчеканил Федя, но по всему было видно, что он оставался недовольным. — А вы куда? — спросил он.
— А я приготовлю встречу этим незваным гостям. Да такую, что они не захотят больше совать свой нос сюда. — Она дерзко сощурила глаза, короткая бахрома густых ресниц прикрыла в них отчаянный блеск.
Гоша и Павлик недоуменно воззрились на Арину.
— А мы как же? Что же мы? — оторопело спросил Гоша.
— Мы должны вас бросить? Это не по-товарищески! — звучным, негодующим голосом сказал Толя, и лицо его побледнело.
— Вы будете сражаться одна? Нет, я не согласен. Я с вами! — в каком-то исступлении вскричал Павлик, и уже совсем по-детски молящим голосом: — Возьмите меня с собой, ну, пожалуйста!
— Нет, я пойду! — с упрямой настойчивостью сказал Толя и встал рядом с Ариной.
Ей, конечно, было приятно их рвение разделить её судьбу в опасный момент. А с другой стороны, начинало злить их неповиновение. Где они, в школе или на войне?
Фёдор понимал, конечно: план Арины был самый верный, но уж очень опасный для неё. Одна против всех. Но другого выхода он не видел, тем более знал упрямый и настойчивый её характер.
— Как-то получается не того, — сурово пробасил он. — Вы будете драться, а мы что же?
— А мы, выходит, своей дорожкой спокойненько пойдём топ-топ, — съязвил Павлик.
Арина, желая поставить наконец их на своё место, придав суровый оттенок своему голосу, заговорила:
— Дорога каждая минута, а мы тут дискуссии разводим. У вас есть задание и вы его выполняйте! Ваша забота привезти раненых к месту назначения в свой час. Вы отвечаете за безопасность каждого из них. И потом, с чего вы взяли, что мне грозит смертельная опасность? Я их просто отвлеку. Обстреляю. А Стрелка меня спасёт, никакая пуля не догонит. Что же, по-вашему, я на них в атаку пойду? Какие глупости вы говорите.
Арине хотелось, чтоб эти очень хорошие ребята не чувствовали угрызения совести и ушли со спокойной душой. Она понимала их. На месте их она точно так же вела бы себя, возмущалась бы и рвалась в бой. И конечно, она хитрила, говоря, что ей не грозит опасность.
— Моя задача, — посвящала она их в свой план действия, — не пустить их на нашу дорогу. Отвлечь их, чтоб они дали дёру. Вот и всё.
Но Арина и тут покривила душой, не открыв им истинных своих намерений. Её дерзновенный план простирался куда дальше, чем только «попугать».
— Итак, слушать мою команду. Продолжайте путь. Оружие держите наготове, гранаты под рукой. Раненых беречь, вы их защитники, — твёрдо сказала она. Проводив до горки, когда они свернули направо, крикнула им вдогонку: — Счастливый путь, до встречи в лагере! Пока!
Легко, пружинисто и гибко вскинула своё тело в седло. Прямая, стройная, густой шевелюрой коротко остриженных волос (косы много времени отнимали — пришлось расстаться) она была похожа на лихого молодого казака. Во всём лагере только она одна ходила в брючках, специально ей сшитых матерью, потому что всё время находилась в седле, юбка мешала.
Стрелка уже истомилась от хождения шагом и только почувствовала седока на себе, как взвилась бешеным аллюром. С горки Арина повернула налево, спустилась в низину и дальше, всё время придерживаясь леса, не показываясь ни на полянах, ни на лужайках, мчалась к тому месту, где, по её расчётам, должны были быть враги. Остановилась за большим камнем, обросшим кустарником. Стала наблюдать. Тихо. Нигде никого. Как сквозь землю провалились. Стала приводить свои мысли в порядок. Она ещё не знала своих истинных намерений: то ли бить с флангов, то ли дать лобовую? Но только, как учил Кедров, надо создать панику, действовать быстро и решительно. Приподнимаясь в седле, вытягиваясь в струнку, она всё приглядывалась... и вдруг! Фрицы! Вот они поодиночке вышли из леса, сошлись на маленькой лужайке, о чём-то совещаются. Один из них, долговязый, показывает рукой в сторону горки, именно той дороги, куда пошли обозы.
У Арины в голове даже жарко стало, самый подходящий момент, иначе разбегутся.
— Ну, Стрелочка, не подведи, вперёд, быстрее!
И Арина, охваченная нервным порывом действия, пригнулась к холке лошади и вся подобралась, полная решимости, слегка хлестнула лошадь и помчалась. Невидимая для врага сделала круг и на довольно близком расстоянии дала автоматную очередь и тут же рванулась на правый фланг, потом налево. Враги, ошарашенные неожиданной стрельбой, тотчас залегли и дали ответные выстрелы по тому месту, откуда только что летели пули. Арина это предвидела, потому отскочила в сторону.
— Стой тихо, не вздумай ржать или храпеть, — приказала она Стрелке больше для того, чтобы умерить своё волнение. Оказывается, и совсем не страшно. Всё-таки она «похлопала» их немного, видела, как они падали. Очухавшись, фашисты стали поднимать головы, вставать и, прижимаясь к земле, строчили из пулемётов наугад. Но от их пуль летели только щепки от деревьев. Уловив момент, Арина опять сделала круг, продолжая стрелять из автомата.
— Мы окружены партизанами! — в отчаянии закричал кто-то из них. Арина поняла их язык. Она, чувствуя какой-то необыкновенный прилив отваги, гонялась как сумасшедшая, не переставая поливать их огнём.
Наконец укрылась опять за камнем, вставила новый диск в автомат.
Со Стрелки хлопьями падала пена. Её сливовые глаза налились кровью, она нервно прядала ушами, била хвостом.
— Ну, ну, успокойся, моя хорошая, молодец ты у меня, — ласкала Арина её, похлопывая и поглаживая по шее. По звукам стрельбы Арина поняла, что враги подались назад. Чудесно! Это — то что надо! Казалось бы, должна восторжествовать, её план осуществился, она отогнала их и теперь со спокойной совестью может вернуться к своим.
Но фашисты — враг смелый, сильный и хитрый, этого нельзя сбрасывать со счетов. Арина раздумывала: нет, она не может вернуться. Надо либо их преследовать до полного уничтожения, либо не дать им двинуться дальше ни на шаг. Её мысль работала чётко, ясно. Какая-то непреодолимая сила влекла её туда, к врагу, и она с неуёмным азартом помчалась по их следу, придерживаясь безопасного расстояния. Вот впереди замелькали разрозненные светло-зелёные мундиры. Надо дождаться, чтоб они соединились вновь, и по их группе дать автоматную очередь, а может быть, и шарнуть гранату. От этой мысли у Арины захватило дыхание: «Я проучу вас, как в чужой дом ходить», — костила она их про себя.
С осторожностью и хитростью хищного зверя она шла по их следам, готовая сделать в нужную минуту прыжок.
И вдруг она увидела шагах в двадцати, прямо перед нею, прислонённого спиной к дереву фашиста с низко опущенной головой. Судя по его обмякшей фигуре, по бледно-восковому лицу, это был раненый, он выбился из сил и сел.
Арина остановилась, сердце её тревожно забилось. Она даже не взяла его на мушку, видя, что он так беспомощен и, наверное, умирает, да и выстрел мог обнаружить её. Фашист тяжело поднял веки, в его тускло-свинцовых глазах притаилось что-то зловещее. Вот он медленно стал валиться набок, вдруг в его руке блеснул пистолет, направленный на Арину. Реакция Арины была быстрее. Нож-кинжал, мгновенно брошенный, успокоил его навеки. Арина быстро соскочила с седла, обшарила его карманы, взяла бумаги, пистолет, всё это спешно рассовала по карманам. И только тут поняла, какую непоправимую глупость она сделала. Боже мой, вовек себе этого не простит! Надо было ножом выбить из его руки пистолет, а потом, дулом автомата прижав к дереву и обещая даровать жизнь, допросить его: сколько их? Куда идут? С какими заданиями? Где их часть? Ай, ай, как опростоволосилась девка, растерялась. Тьфу! Какой она, к чёрту, боец! Никудышный! Никакой смекалки! Это её страшно разозлило. Вскочив в седло, с ожесточением подумала: «Хорошо, пойду по следам, может быть, другого раненого найду, там уж не дам маху».
Но вдруг Стрелка на всём бегу остановилась, захрипела; глаза её, налитые кровью, ошалело косили в сторону. Арина не понимала, в чём дело, но поддалась настроению лошади, хотела свернуть и в ту же минуту почувствовала, как словно огнём её обожгло внутри груди. Она круто обернулась и дала автоматную очередь в стоящие перед нею два зелёных мундира. Уже не разбирая и почти не видя их, она всё стреляла. Потом повернула Стрелку, припала к её холке, сказала с какой-то детской обидой: «Домой, Стрелочка, скорей домой». Умное животное, хрипя и роняя хлопья пены с боков, неслось по лесу. Позади слышны выстрелы, но лошадь и всадницу было уже не догнать вражеским пулям.
Арина ещё держалась в седле, и сознание её было ясно. Обоз, по её расчётам, добрался до самолёта и уже сейчас возвращается в лагерь. «Только бы не упасть. Тише, тише, Стрелка. Мы уже на своей дороге. Только бы не упасть», — как молитву, как заклинание твердила она.
Но сознание мутнело, и зыбкие волны забытья овладевали ею.
В бой за землю свою, за Родину!
Через два месяца Арина выздоровела и опять гарцевала на своей Стрелке. Партизаны не давали покоя врагам. Их отряды становились более сильными, численность росла.
Партизаны решили свести окончательно счёты с врагом и выгнать немецкий гарнизон из деревни Зеленино.
Бой ожидался жарким, поэтому готовились к нему тщательно и всесторонне. Собрали точные сведения: где находится охрана и в каком количестве? Где сосредоточены их огневые точки, когда проходит смена караула? Немало сведений приносил Гаврюшка. Незаметный маленький мальчонка шнырял по деревне с этаким беспечным видом. А сам всё примечал и всё наматывал себе на ус.
Оставалось выбрать время. Решили наметить в сентябре, когда ночи становились тёмными.
И опять подготовка, военная учёба, стрельба, метание гранат, ножей.
Руководили операцией Кедров и комиссар Астахов. Были образованы специальные штурмовые группы: автоматчики, гранатомётчики, пулемётчики и резервная группа. У минёров была своя задача — заминировать все доступы возможной помощи из других гарнизонов. За это время у партизан накопился и опыт и довольно богатый арсенал боевых средств. Даже два танка трофейных появились. Короче, партизаны пойдут не с голыми руками.
И тут в лагерь прибежал Гаврюшка, доложил:
— Дядя Свиря велел передать, что седьмого сентября будет день рождения у Мюллера, пожалует в гости начальство.
Это очень хорошо! Кстати, надо приготовить угощение драгоценным гостям и поздравление новорождённому. Что ж, партизаны постараются. Все их «благодеяния» припомнят!
И вот под тёмным покровом сентябрьской ночи партизанский отряд «Борец» двинулся длинной цепью к деревне. Шёл чуть не весь отряд, в лагере остались дети, старики да небольшая группа охраны. Ведь шли освобождать родную землю, свои дома, родные дома.
Эта партизанская цепь, безмолвно колышась, двигалась беспощадно и неумолимо, как морская волна. Каждый в своём сердце нёс боль лютую, тяжкую, и эта боль должна была выплеснуться на врага.
Всё было тихо кругом, лишь кузнечики неугомонно стрекотали, да верхушки деревьев осторожно перешёптывались меж собою.
Деревню окружили со всех сторон. Залегли. Каждый на своём месте, все орудия в боевой готовности. Телефонная связь с другими частями перерезана. Вокруг деревни и по улице её расхаживала усиленная охрана патрулей. Сигналом для нападения должна служить красная ракета.
В школе, той самой, где училась Аринка, звенели бокалы, играла музыка, раздавался беззаботный смех.
— За ваше здоровье, господин майор! — провозглашались тосты. — За нашу победу!
— За великую Германию! Хайль Гитлер! — горланили все разом.
А вокруг деревни плотным кольцом лежали люди. Их сердца обливались кровью за родные дома, из которых их выгнали, за свою поруганную землю. Арина очень близко залегла к школе, так что видела её полностью, и хотя окна были замаскированы, но сквозь узкие щели пробивался свет. И тут Арина вспомнила, бывает так, в очень напряжённый момент вдруг в голову полезут нелепые мысли или охватят вдруг воспоминания. Когда она была десятилетней девочкой, тогда в этой школе комсомольцы устроили на новый год костюмированный вечер. Кого только тут не было: и медведей, и волков, и русалок, и цыганок! Посреди просторного класса стояла ёлка, украшенная самодельными игрушками, и вокруг этой ёлки ряженые танцевали. Два баяна слаженно играли вальс и польку. Натанцевавшись, уселись отдыхать вдоль стен на скамеечки. И вдруг Костя Гром, расталкивая зрителей, плотной пробкой забивших дверь, впустил ещё одного ряженого. И что это было за диво дивное: громадный ржаной сноп, перевязанный красным кушаком! Сноп медленно двигался, а его колоски трепетали. И какое же крестьянское сердце не дрогнет при виде родного ржаного снопа. Впечатление было так необычно, что все зашевелились, засмеялись, захлопали в ладоши. Кто же это был? У кого хватило столько терпения, чтобы в четыре яруса друг над другом сложить эти колоски? Было ясно каждому, что этот ряженый возьмёт первый приз. Сноп медленно обходил ёлку, баянисты, спохватившись, заиграли что-то грустное. Сноп на прощанье покружился и, трепеща колосками, стал так же медленно уплывать из класса. Обалдевшая Аринка не могла так просто его упустить, ей страшно хотелось узнать: кто же это был? Она приставала к матери, не знает ли она, но та, лукаво улыбаясь, уклончиво отвечала: «Кто его знает, видишь какой выдумщик нашёлся, всех перещеголял». Тогда Аринка, не в силах уже бороться со своим любопытством, решилась на хитрость. Когда сноп был в дверях, она, пристроившись позади него, стала пальчиком проковыривать дырочку, может быть, удастся узнать: кто там? И вдруг она услышала из снопа злой, шипящий голос: «Уйди, крыса». От радости она чуть не подпрыгнула, и это оскорбительное «крыса», которым её «окрестил» Ивашка, для неё прозвучало как самое ласковое слово. Вспомнив это, Арина улыбнулась: милое, славное, безвозвратно прошедшее детство.
Прижимаясь к холодной земле, напрягая слух и зрение, ждали, когда закончится гулянка в школе. Шёл третий час ночи. Наконец утихомирились гуляки, весёлые, стали вываливаться из дверей, пошатываясь, расходились по домам, крепко щёлкали запорами. И вот всё стихло, везде погасли огни. В три часа ночи сменились часовые. И опять тишина. Только каждый партизан слышал биение собственного сердца. Лица напряжённы. Руки сжимают оружие.
— Пора, — тихо сказал командир.
— Пора, — отозвался комиссар.
Стремительной птицей рванулась в небо красная ракета и павлиньим хвостом раскинулась в высоте. Первой двинулась группа разведчиков. Пошли в ход ножи-кинжальчики. Бесшумно сняли всех часовых.
Вот он, долгожданный момент, наступила пора мщения, за всё расплата! Партизанский отряд «Борец» рванулся на деревню. Полетели гранаты в окна домов. Залупили пулемёты, застрекотали автоматы. Враги, вмиг протрезвевшие, с ошалело вытаращенными глазами выскакивали из домов кто в чём был, некоторые в одном белье, другие в кителях, а брюки держали в руках. И тут же попадали под плотный пулемётно-автоматный обстрел. Некоторые старались через двор убежать огородами, но и это было учтено, там их встречали автоматчики. Адская зона губительного огня накрывала их всюду. Но что это? С чердака бойцовского дома застрочил пулемёт. Арина, кружась с автоматом возле своего дома, первой заметила это. С кошачьей стремительностью она влетела на чердак своего дома, перешагивая через трупы убитых, и тут же залегла за кирпичными боровами[1]. В мезонине, где она в детстве играла в куклы летом в плохую погоду, два немца, распластавшись у станкового пулемёта, посылали огонь на партизан. Первой мыслью Арины было бросить в них гранату, но жалко стало и пулемёта и мезонина. Выглянув из-за борова, со злорадной страстью она дала два выстрела. Всего лишь два! Два метких выстрела из пистолета. Перешагнув через трупы врагов, она залегла сама за пулемёт и стала добивать оставшихся немцев, снующих внизу. Как хорошо, что она не тратила напрасно времени и научилась владеть и этим оружием. Но что это? Машины, которым каким-то чудом удалось выскочить из-под огня, мчались из деревни и там попадали под пулемётный огонь. Смертоносный огонь бил с чердака Свириного дома.
В своё время хитрый Свиря уговорил Мюллера поставить к себе на чердак пулемёт. «В случае наступления партизан, — убеждал Свиря. — Как раз дом на краю деревни, против леса, попрут они — это значит партизаны, — а мы их и встретим, угостим что надо».
И вот сейчас это «угощение» летело в хвост убегающим врагам. Но самое удивительное в этой истории было то, что за пулемётом находился сам Свиря, это со своими-то раскосыми глазами.
— У меня только один глаз косит, а другой видит зорче ваших двух, — смеясь, говорил он потом уже, в затишье.
Бой продолжался два часа. Вражеский гарнизон был уничтожен полностью. Люди тушили пожары, бегали возле своих домов радостные и возбуждённые. Деревня была вновь их. И дома родные теперь снова принадлежали им. Теперь зиму они будут встречать на своих тёплых печках. На расстоянии трёх километров был выставлен хорошо вооружённый заслон. Всё оружие, бывшее раньше у немцев, теперь стало партизанским и надёжно защищало их от врагов.
В середине 1943 года подошла Красная Армия, партизаны влились в их ряды и погнали врага на Запад, полностью освобождая нашу землю. С ними ушла и Арина. Меткий стрелок, храбрый боец и верный товарищ.
А пожилые вернулись в свои города и деревни, надо было налаживать жизнь, строить вновь дома, восстанавливать заводы. Кедров опять занял пост секретаря райкома партии. Свирю сделали председателем колхоза. Он справлялся с этим делом неплохо. С зари до ночи копошился, как муравей, забыв об отдыхе и покое.
Всех мучило любопытство: кто же всё-таки писал записки и вешал на дверях комендатуры и на дверях начальника гарнизона Мюллера? Ответ был самым неожиданным.
— Текст составлял я, — признался, немного смущаясь, Свиря, — а дочки вырезали буквы и наклеивали. Евфросинья, она была уборщицей в комендатуре и у начальника, умудрялась незаметно повесить их. Вот так-то, выходит, вся семья потихоньку партизанила и никто не знал.
— А всё-таки, Свиря, почему так случилось, ты ведь вечно ругал всё и всех. Люди тебя считали чуть ли не врагом?
Свиря, нацелив свой глаз-гвоздик на спрашивающего, задал свой вопрос:
— У тебя дети есть?
— Есть, — недоуменно ответил тот. При чём тут его дети?
— Ты их ругаешь?
— Ругаю. Иногда даже и поколачиваю.
— А если на твоих детей нападёт бандит и начнёт их избивать, а может, и убьёт, что ты сделаешь?
— Да ты что?! Да я его, этого бандита, на части разорву.
— Ну вот так-то. Родина — это как моё дитя, моя мать, и никому не дам её в обиду. А то что ругался? Ну, так характер такой, я и сейчас ворчу. В трудную минуту думаешь об одном: всеми силами Родину выручай, коль в беду попала, жизни не жалей! Родина одна у человека, её надо беречь!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





