ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Койн Ирмгард 1936

МОЁ ПЕРВОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Мои родители всегда на стороне учительниц, и потому я сразу же после школы пошла к господину Клейнерцу, который живёт напротив нас, и всё ему рассказала.
Господин Клейнерц очень старый, ему по крайней мере сорок лет. Жены у господина Клейнерца сейчас нет, она ушла от него. Мама говорит, что этого он уж никак не заслужил, тем более что жена наделала напоследок долгов на его имя.
Мне разрешается ходить в его сад. Там из гнёзд иногда выпадают птенчики. Мы их растим и ухаживаем за ними, но они почти всегда умирают от ушибов и ещё потому, что скучают без родителей. Они пищат до тех пор, пока не умрут. Ужасно жалко этих маленьких птичек! Правда, теперь нам удалось выходить дрозда.
Я всегда советуюсь с господином Клейнерцем. Папа тоже часто спрашивает его о налогах. Господин Клейнерц не раз говорил мне: «Человек должен быть добрым, но всё же не должен допускать, чтобы его оставляли в дураках». Я ему всё рассказала про фрейлейн Шервельбейн, и в субботу, когда будут похороны, он пригласит к себе моих родителей и тётю Милли тоже, чтобы они не могли пойти на Мелатенское кладбище смотреть похороны и не увидели, что из всей школы не участвую в них одна я.
Я сама не знаю, как и почему всё это случилось. В тот день я не успела на трамвай, да и вообще я всегда опаздываю в школу. Ещё в коридоре я удивилась, услышав в классе шум, потому что было уже десять минут девятого. В классе ещё не было учительницы, и я тоже немножечко пошумела, но совсем чуточку. Я бросила противной Траутхен Мейзер несколько репейников в волосы. Мне всегда приходится носить с собой репейники, потому что эта Траутхен всё время ябедничает на меня. Ей не разрешают водиться со мной из-за того, что мы с её матерью непримиримые враги.
Моя подруга Элли Пукбаум громко смеялась, а Траутхен визжала, и в это время вошла фрейлейн Кноль, наша классная руководительница. Все стихли, волосы у Траутхен были полны репейников, а глаза у фрейлейн Кноль были красные. Я так испугалась, будто меня проткнули насквозь ножом, а потом меня бросило в жар, и мне стало как-то не по себе оттого, что фрейлейн Кноль вдруг заплакала. Не могу смотреть, когда взрослые плачут: это значит, что происходит что-то ужасное, потому что обычно они почти никогда не плачут.
Нос у фрейлейн Кноль покраснел и распух, и голос тоже: «Дети, произошло огромное несчастье — наша любимая директриса, наша всеми бесконечно уважаемая фрейлейн Шервельбейн скончалась». И она шмыгнула носом, что мне никогда не разрешают делать за столом. Сначала все затихли. А потом некоторые дети уронили руки на парты, опустили головы и заревели во весь голос. У Траутхен, сидевшей передо мной, тряслись плечи, и репейники в её волосах тоже дрожали.
«Дети, бедные дети, — сказала фрейлейн Кноль, — не надо так отчаиваться», — и всхлипнула. Это было ужасно. Мне тоже захотелось что-нибудь сделать. Я подняла руку и спросила: «А отчего, собственно, она умерла?» Я часто слышала, что в таких случаях спрашивают именно так. Честное слово, я не хотела сказать ничего дурного. Но фрейлейн Кноль сейчас же заявила, что я чёрствый ребёнок, раз я не плачу, и что мне лучше было бы подумать о том, что я больше никогда в жизни не увижу фрейлейн Щервельбейн. «Дети, вы чувствуете сейчас величие смерти, никогда больше вы не увидите фрейлейн Шервельбейн». Тогда некоторые дети опять громко, на весь класс, зарыдали. Руки мои покрылись гусиной кожей, и я смогла только тихо сказать:
«Но ведь я её вообще никогда не видела». И это действительно правда. Потому что мы только ещё переходим в третий класс, а фрейлейн Шервельбейн была ужасно старая и очень долго болела, поэтому мы знаем только её заместительницу — фрейлейн Шней. Из нас одна Элли видела фрейлейн Шервельбейн и рассказывала, будто та шла, опираясь на палку. У неё были стеклянные глаза, и она трясла головой.
Я вспомнила про нашу белку, которая тоже умерла. Она была такая же красивая, как чудесный зверь в моей книжке с цветными картинками. Она была весёлая и занималась гимнастикой у меня на голове, но однажды утром вдруг умерла, потому что съела чернильный карандаш с папиного письменного стола. После этого я тоже ходила как неживая. А квартира наша совсем переменилась, всё вокруг казалось мне плохим.
Подумала я и о Лаппес Марьей, которая собирает тряпьё: она тоже ужасно старая и трясёт головой. Вспомнила и о том, что мы её всегда защищаем, с тех пор как Хенсхен Лакс основал шайку неистовых бандитов. Когда я подумала о своей белке и о том, что Лаппес Марьен тоже, может быть, скоро умрёт, я чуть-чуть не заплакала, но в этот момент фрейлейн Кноль крикнула: «Стыдись, дитя моё!», и мне велено было стыдиться и осознать свой проступок. И тут же она спросила: «Ну что, теперь тебе стыдно? Тебе грустно?»
Все дети перестали рыдать. Они смотрели на меня и тяжело дышали. Я обещала маме никогда больше не допускать, чтобы в меня вселялся злой бес. Но, когда все они так противно уставились на меня, этот бес всё же вселился, и мне показалось, что так и должно быть. Я стала топать ногами и кричать: «Мне вовсе не стыдно, вовсе не грустно, вовсе не стыдно!»
Всем детям разрешили в субботу организованно пойти на похороны. Им велели надеть белые платья с чёрными бантами, в руки им дадут букеты белых роз. Одной только мне запрещено идти с ними, потому что я кощунствовала перед лицом смерти.
На перемене дети не разговаривали со мной. Они очень важничали и вели себя так, будто сами умерли. Я ходила совсем одна и делала вид, что мне это безразлично, я словно превратилась в ледышку. Сначала я хотела пойти во двор, чтобы там наступать на ноги Траутхен Мейзер и Минхен Ленц. Но во мне больше не было злого беса. И ноги у меня устали, и мне не хотелось уже ни на кого наступать.
Я подумала о том, что Элли и многие другие дети тоже не плакали и что теперь они подойдут ко мне и будут разговаривать со мной. Но они не подошли, а когда я на них смотрела, у них был такой вид, как у незнакомых взрослых. Мне захотелось умереть. Но я не подала виду и начала есть бутерброд, не заметив, с чем он. Я совсем забыла, что собиралась выменять у Зельмы Ингель хлеб с ливерной колбасой на мятные лепёшки.
Мне вдруг стало плохо до тошноты, и я поднялась в коридор, чтобы никто не видел, что мне так плохо. Мне пришлось прокрасться туда тайком, потому что на переменках детям запрещается находиться где-нибудь в другом месте, кроме школьного двора. Если ни с кем не хочешь иметь дела, то даже и спрятаться негде.
В одном из тёмных углов коридора стояла фрейлейн Кноль с нашей учительницей физкультуры фрейлейн Тайгерн. Фрейлейн Кноль говорила, что теперь, когда старая Шервельбейн умерла, её, заслуженную учительницу, могут уволить с работы, что прежде её держала на работе фрейлейн Шервельбейн, а ведь ей, фрейлейн Кноль, надо кормить свою мать, и она не знает, что с ней теперь будет. Она всхлипнула, чему я очень обрадовалась. А фрейлейн Тайгерн сказала, что, в конце концов, в таком старческом возрасте и с такими болезнями, как у Шервельбейн, лучше всего умереть, и всё же хорошо, что теперь в школе повеет свежим ветром.
Когда я рассказала дома, что фрейлейн Шервельбейн умерла, мама тут же спросила: «Ах, отчего же это она умерла?» Такой же вопрос задала мне и тётя Милли. Взрослым всё всегда разрешается, а детям ничего. Я хотела им сказать, что мне запрещено идти на похороны, но тут тётя Милли заговорила о пяти больших банках из-под маринада, которые они сегодня утром нашли у меня за этажеркой. Я съела тыкву только из одной банки, потому что она была мне нужна, а остальные банки всё равно были пустые. Я положила в них разных гусениц, которые потом окуклились. У меня жили замечательные пушистые звери: гусеницы-львинки жёлтого и красного цвета, похожие на маленькие щётки, и коричневые гусеницы-медведки, и гладкие шелкопряды, и замечательные ночные бабочки, зелёные-презелёные, с яркими красными крапинками. Я только и делала, что искала гусениц и почти ничем другим не могла заниматься. А так как эти гусеницы между собой дрались, то для каждой мне понадобилась отдельная банка. Это понятно каждому человеку, только не тёте Милли. Ведь гусеницы уже окуклились, скоро у меня были бы бабочки. Я хотела выпустить их на волю в Королевском лесу. У меня в банках были уже настоящие коконы, но дома подумали, что это просто грязь, и всё выбросили, а меня ругали. Я так расстроилась из-за того, что они испортили мои коконы, что всё мне стало безразлично, и я решила, что никогда больше не скажу никому ни слова и буду жить совсем одна.
В субботу утром все ученики собрались в спортивном зале. Мне пришлось сесть одной в углу, а все остальные дети построились парами и репетировали, как они пойдут на похороны. Мои родители тоже пойдут на кладбище, хотя господин Клейнерц нарочно пригласил их к себе для того, чтобы помешать этому. Если сказать им, что из всех детей на похороны не разрешили идти мне одной, мама станет плакать и потеряет всякую веру в меня.
В каждой шеренге должно было идти по четыре ученика. Но в хвосте оказалось трое лишних. Тогда фрейлейн Кноль подошла ко мне и, хитро улыбаясь, сказала, что готова меня простить, если я искренне раскаиваюсь и в присутствии детей дам обещание исправиться. И ещё она сказала, что тогда мне разрешат пойти вместе со всеми и Траутхен Мейзер даст мне руку. Но я ни за что по своей воле не подала бы руки такой противной девочке, как Траутхен, чтобы несколько часов подряд шагать с ней рядом. К тому же Траутхен Мейзер вовсе и не собиралась давать мне руку, а две другие девочки из последней шеренги, где не хватало четвёртого человека, и вовсе испугались, что им придётся идти рядом со мной. А фрейлейн Кноль хотела простить меня только потому, что в шеренге не хватало одного ребёнка. Ей вовсе не хотелось быть по-настоящему доброй, никто не хотел быть со мной добрым. Тогда я вспомнила совет господина Клейнерца и сказала фрейлейн Кноль, что не желаю оставаться в дураках и теперь сама не хочу идти вместе со всеми.
Я ушла из дому в белом платье с чёрным бантом. Тётя Милли сказала: «У ребёнка прямо-таки трогательный вид». Я притворилась, будто иду в школу для участия в похоронном шествии, а сама стала бегать взад и вперёд по бульвару и ужасно замёрзла. Издали мне было видно, как мои родители стояли у Мелатенского кладбища, ожидая процессию. Народу было много. Я стала медленно подкрадываться к ним. Подошла процессия. Лошади были совсем чёрные, а музыка звучала медленно и грустно; воздух был похож на траурную вуаль, и все мужчины сняли шляпы. У меня от волнения забилось сердце. Я всё ближе подходила к родителям и к тёте Милли. У всех детей в руках были белые розы. Многие женщины плакали, и я слышала, как тётя Милли всхлипнула и сказала: «До чего же трогательно! Какие замечательные похороны!» — и встала на цыпочки. На свадьбах она делает точно также.
Моя мама всё время только и повторяла: «Но где же наш ребёнок?» Под мышкой она держала моё пальто. Она искала меня глазами и ничем другим не интересовалась. Она хотела найти меня и дать мне пальто, чтобы я не замёрзла и не простудилась. Тут я не выдержала, расплакалась и окликнула её. Она очень испугалась. Я рассказала ей всё, рассказала, что я кощунствовала перед лицом смерти, и обещала исправиться.
Вечером пришёл господин Клейнерц и принёс мне большую грушу. Но я её не съела, а подарила маме, а она разделила её пополам: половину мне, половину себе. Мне пришлось дать кусочек тёте Милли, но я сделала это только для мамы — ведь тётя Милли сказала, что я опозорила всю семью. Мама погладила меня по голове. Это меня немного удивило, так как обычно она, к сожалению, всегда заодно с учительницами и вместе с ними нападает на меня.
А потом я составила завещание на тот случай, если умру. Господин Клейнерц помогал мне. Я выведу новые коконы, завещаю их своей матери и категорически запрещаю фрейлейн Кноль, Траутхен Мейзер и Минхен Ленц присутствовать на моих похоронах.
ШАЙКА НЕИСТОВЫХ БАНДИТОВ
Вчера вечером я никак не могла заснуть, потому что должна была придумать кровавую месть для фрау Мейзер, которую мы зовём ядовитой каракатицей. Вообще я по утрам всегда очень хочу спать и поэтому медленно одеваюсь, а когда иду в ванную, открываю там кран, чтобы бежала вода и все думали, что я моюсь. А я в это время сажусь на край ванны, чтобы ещё немножко поспать. Поэтому я часто опаздываю в школу. Хенсхен Лаке тоже говорит, что несправедливо впрягать детей в быстро несущуюся колесницу времени, — он это вычитал из взрослых книг. А господин Клейнерц, наш сосед, сказал моему отцу, что за всякую работу надо платить, что он это сумеет доказать своему директору и что он не настолько глуп, чтобы работать бесплатно. Но мы, дети, должны работать бесплатно и никогда даже благодарности не получаем. Одни только неприятности. Правда, Минхен Ленц и Траутхен Мейзер иногда получают похвальные листы за прилежание, на них нарисованы божья матерь и младенец Христос. Мне ещё ни разу не дали такого листа. Но мне куда больше нравятся переводные картинки и китайские волшебные цветы. Я люблю сидеть вдвоём с мамой, люблю, когда на ней надета синяя бархатная кофточка. Электрическая лампа жужжит, как сверчок, в комнате пахнет теплом, мы с ней совсем одни и опускаем китайские волшебные цветы в миску с водой. Сначала они маленькие и скрюченные, а потом становятся всё больше, окрашиваются на наших глазах в разные цвета и распускаются. Я тогда такая счастливая, что даже не могу говорить, — мне хочется плакать и никогда больше никому не приносить огорчений. Иногда мы опускаем в миску скорлупки грецких орехов с маленькими свечками. Они плавают, как лодки на бушующем море. Они направляются к далёким островам, а я охраняю их огоньки и командую ими.
Мы не могли принять Минхен Ленц и Траутхен Мейзер в шайку неистовых бандитов, потому что они кричат, когда им за шиворот суют мокриц, собранных в подвале, а мы не можем принимать тех, кто не выдерживает испытания, — ведь мы должны быть сильными и бороться за всё хорошее и справедливое.
Когда я проходила испытание, я проглотила по частям довольно большой кусок дождевого червя, а потом, как фокусник в цирке, выплюнула его обратно, и ещё подкралась к тыкве в огороде самого́ полицейского комиссара и утащила её. Теперь я стала «наперсником» — это главный после самого главного, а самый главный у нас Хенсхен Лакс, он вице-король. Всё это Хенсхен Лакс узнал из книг. После наперсника идёт секретарь — Отхен Вебер. Кроме того, у нас есть ещё идолы и фетиш. Всё это мальчишки, которые на год младше нас; всего четыре идола и один фетиш. Мы могли бы ещё набрать и простых солдат, но тогда все они захотели бы сразу стать офицерами или получить какое-нибудь повышение в должности, а повышать их нельзя, потому что в нашей пещере в городском парке места хватает только для трёх главных, и то для третьего только наполовину. Из-за этого нам то и дело приходится посылать куда-нибудь идолов и фетиша и придумывать для них какие-нибудь задания. Нам очень трудно находить для них всё время что-нибудь новое, и поэтому они нам иногда, по правде говоря, надоедают. Всё же они нам нужны, потому что без них нам трём некем будет командовать и мы не будем главными.
Я ни за что не хотела бы стать генералом, потому что у генерала тысячи солдат и я не знала бы, что мне, генералу, делать с ними с утра до вечера. Может быть, генералы тоже не знают и поэтому разрешают их убивать. Господин Клейнерц говорит, что генералы всегда хотят войны, и, только когда война проиграна, они вспоминают о мире, уходят на покой и выращивают розы.
В нашем доме, внизу, живёт генерал. Его почти никогда не видно, и я знакома только с его деревянной ногой. Эта нога — в ботинке и обшита материей. Когда я утром иду в школу, около двери иногда стоит денщик генерала и чистит эту ногу щёткой. Я немножко побаиваюсь генеральской ноги и никогда не решаюсь как следует разглядеть её, но мне хочется хотя бы разочек потрогать её рукой. У моих кукол часто отваливаются ноги, но тогда они висят на резинке. А у генералов всё совсем по-другому.
Когда я сидела в нашей пещере, я не раз подумывала о том, что лучше быть фетишем, но тогда Хенсхен Лакс стал бы презирать меня, и я не могла бы находиться в пещере и отдавать приказания. Иногда мне всё же надоедает сидеть на холодных, голых камнях.
Когда идолы и фетиш возвращаются из похода, Хенсхен Лакс глухим голосом приказывает им: «Идолы и фетиши, поклонитесь камням нашей крепости!» И они кланяются. «Что заметил ваш зоркий глаз?» — спрашивает вице-король. Тогда они рассказывают о том, что видели. Они должны непременно говорить все вместе, потому что это греческий хор. Я всегда была против греческого хора, и именно он-то и погубил нас.
О греческом хоре Хенсхен Лакс узнал от своего отца. Отец у него профессор и учит греческому языку. Я люблю своего отца потому, что он не учитель и никогда не пристаёт и не вмешивается, когда ребёнок делает уроки. Хенсхен Лакс утверждает, что не следует говорить «гоп», пока не перепрыгнешь, и что может случиться, что и мой отец тоже вдруг станет учителем. Но папа говорит, что на старости лет он не будет менять свою профессию и что у него со мной одной хлопот не меньше, чем с целым классом. Как-то мама сказала, что он вспыльчив, а это недопустимо для учителя. Тогда папа стал багрово-синим, голос его загремел на всю комнату, он совсем вышел из себя и забарабанил кулаками по столу: он-де самый добрый человек, он все силы отдаёт семье и не позволит, чтобы его обзывали вспыльчивым. Потом он убежал из дому, это было уже ночью, после семи часов вечера, но очень скоро вернулся с пирожными безе, которые я так люблю. Мама сказала, что это прямо-таки трогательно с его стороны. Она сказала это совсем тихо, потому что если бы мой отец услышал, что он трогательный муж, он опять разозлился бы и начал бы кричать ещё громче.
Мне хочется рассказать папе, что я стала наперсником, но мы дали вице-королю клятву держать всё в тайне, иначе «Каменное око Фо» превратится во всепожирающий огонь. «Каменное око Фо» — это очень важная книга. Из неё мы узнали про каменное око. Вместо ока у нас камушек, который мы освятили своей собственной кровью и всегда носим с собой.
Наш долг — помогать слабым и угнетённым. От этого мы не можем отступиться. Мы должны заботиться о слабых, даже если взрослые этого и не понимают. Нас не запугает и эта история с девочкой в белом платье. Дело было так. Однажды к нашей пещере подошли идолы и фетиш и хором доложили: «В пустынной степи на берегу бурного потока одиноко стоит маленький ребёнок». «Ява и Того!» — закричал Хенсхен Лакс (это наш боевой клич), и мы все помчались к пруду, где на поляне стояла маленькая девочка в белом платье. «Ява и Того!» — заорали мы и окружили девочку — ведь мы хотели спасти ребёнка, хотели дать ему в пещере освежающий напиток и потом отвести к родителям. Но глупая девчонка принялась ужасно кричать. Может быть, она испугалась красных чернил, которыми мы, трое главных, словно кровью вымазали себе лица.
Если бы мы не кричали так громко, то, наверно, услышали бы, что к нам приблизился разъярённый человек. Теперь нам придётся в течение семи лет смывать свой позор, потому что этот кровожадный негодяй дал пощёчину вице-королю, и фетишу, и мне тоже. Собралось много народу, кровожадный негодяй кричал, что мы хотели обидеть его бедную, ни в чём неповинную маленькую девочку. «Как не стыдно этим грубиянам!» — кричали люди. А фрау Мейзер, ядовитая каракатица, которая тоже стояла в толпе, визжала громче всех: «Эту девчонку я знаю!»
Когда мы побежали, девочка в белом платье бросилась за нами. Она больше не ревела, а наоборот, хотела с нами играть. Но мы не играем с такими маленькими детьми, мы их только спасаем.
Вечером ядовитая каракатица всё рассказала нашим родителям. А перед этим она выследила, где находится наша пещера, и потом выдала нас нашему самому страшному врагу — подлому сторожу парка. Мы зовём его ползучей лесной гадиной, потому что он правда очень противный. В парке есть и хороший сторож, его мы зовём повелителем джунглей. Мы его защищаем и однажды перекопали ему сад, а он дал нам за это молока и развёл костёр, чтобы мы напекли картошки.
И вот мы, трое главных, снова у себя в пещере и совещаемся; у вице-короля щека распухла, словно его ужалила пчела. На даче моя мама, тётя Милли и другие женщины всегда громко визжали от страха и смешно размахивали руками, когда после обеда над пирогом со сливовым вареньем кружились большие полосатые, страшные осы. Пчёл все считали ещё опаснее, а шмели, похожие на прелестные жужжащие бархатные подушечки, считались даже в тысячу раз опаснее. В парке я как-то тайком подошла к дереву, сняла с листика пчелу и держала её в руке до тех пор, пока она меня не ужалила. Для меня это было не так уж страшно, для пчелы было куда хуже: она ведь истратила всё своё жало, а другого у неё никогда больше не будет. У меня только немного раздулась рука, больше ничего. А я-то думала, что от укуса пчелы бог весть что случится.
Итак, мы сидели в пещере, как вдруг примчались идолы и фетиш. Они дрожали от волнения. Вице-король приказал: «Поклонитесь камням нашей крепости». Они поклонились и прокричали, как греческий хор, а это им приходится каждый раз очень долго разучивать: «Ползучая лесная гадина приближается, о господин!» Но лесная гадина вовсе не приближалась. При слове «господин» она была уже здесь — прямо перед нашей пещерой. Идолы и фетиш тотчас же скрылись, не дожидаясь приказания, а мы, трое главных, были пойманы в пещере, и Отхен Вебер, который, будучи третьим по старшинству, сидел наполовину снаружи, первым заработал пощёчину. И всё из-за того, что нам не разрешается рыть в городском парке пещеры, и ещё из-за истории с елью. Но это ужасно подлое подозрение, одна только Лаппес Марьен знает всю правду.
Лаппес Марьен собирает тряпьё, она уже совсем старая и бедная, глаза у неё воспалены, а руки дрожат. Мы следим за тем, чтобы другие дети не кричали ей вслед «ведьма» и не бросали в неё камнями. Но этого они почти никогда теперь не делают, потому что нас все боятся.
Ель мы спилили в прошлом году на рождество. Собственно говоря, мы спилили её только наполовину, потом она сама упала. Если бы не мы, у Лаппес Марьен на рождество не было бы ёлки. Елка была такая большая, а комната Лаппес Марьен такая маленькая, что мы не могли поставить в ней ёлку, и нам пришлось положить её поперёк комнаты. Это было похоже на дикие заросли, ель как будто спала. В комнате ни для кого, даже для Лаппес Марьен, больше не было места. Мы стояли в дверях, смотрели на ёлку и пели «Тихая ночь, святая ночь», а Лаппес Марьен шмыгала носом от счастья и говорила: «Боже мой, какие же у меня будут хорошие дрова, когда осыпятся иглы!»
Теперь нам, конечно, придётся искать новую пещеру, потому что нас выдала ядовитая каракатица. И ещё нам нужно спрятать сокровища пещеры и отомстить ядовитой каракатице.
Я уже нашла место для новой пещеры. Днём мы пойдём к глубокому пруду за фабрикой, где работает мой отец. Вниз надо съезжать по очень крутым песчаным откосам с острыми камнями. Хенсхен Лакс говорит, что это дикая лесная котловина и что теперь у нас пещера будет на берегу бурного озера. Отец строго-настрого запретил нам играть здесь, потому что песок осыпается и может нас засыпать. Но ведь мы вовсе здесь не играем, мы боремся за добро и справедливость, а в пруду ловим головастиков, которых потом кладём в банки из-под маринада, чтобы они там развивались.
Сначала я сказала, что мы могли бы напугать фрау Мейзер черепом, потому что она ужасная трусиха — она только своего мужа не боится. Недавно он рассказывал в пивной, что эта женщина настоящая ведьма и что она ему до смерти надоела. Как-то она ему даже велела стрелять в палисаднике по дроздам. Она живёт в первом этаже, так что я легко могу вечером взобраться на её окно и приставить к стеклу череп. Хенсхен Лакс считает, что этого недостаточно и что нужно бросить череп к ней в комнату. Я тоже думаю, что так будет лучше. Но Отхен Вебер боится, что тогда череп пропадёт. А ведь череп принадлежит Отхену Веберу. Отец Отхена врач, и, когда он был студентом, череп лежал у него на письменном столе, а потом череп надоел ему, и он уложил его вместе с другими вещами в ящик и отнёс на чердак.: Отхен Вебер вытащил его оттуда и пожертвовал в сокровищницу шайки, за что мы повысили его в должности и назначили секретарём. До этого он был простым фетишем. Череп этот очень большой и красивый. Мы приложим все силы для того, чтобы потом снова забрать его у ядовитой каракатицы. Мы стали выяснять, кто из нас самый меткий, и оказалось, что хоть я и девочка, но всё же попадаю в цель лучше всех. Поэтому бросить череп в окно было поручено мне.
На улице было темно и очень тихо. Виднелись одни только таинственные тени домов и палисадников. Мы, трое главных, спрятались в палисаднике у Мейзеров. Идолы и фетиш стояли на страже. Затея наша была очень опасной, так как над Мейзерами живут мои родители, а рядом — доктор Вебер.
В комнате у фрау Мейзер горел свет, и она сидела на диване совсем одна. Сначала маленький камушек бросил в окно Отхен Вебер (сделал он это очень искусно, чтобы не разбилось стекло — мы не хотим больше иметь неприятностей из-за стёкол), потом Хенсхен Лакс, потом опять Отхен. И тут Хенсхен прошептал: «Внимание! Внимание!» Мейзерша скатилась с дивана, распахнула настежь окно и завизжала: «Кто там бросает камни?» В тот же миг я бросила в окно череп, и он пролетел в комнату, чуть не задев её лица. Ядовитая каракатица отскочила от окна, а мы вплотную прижались к стене и изо всех сил зажмурили глаза, чтобы нас никто не увидел... Вдруг мы услышали ужасный крик — это кричала ядовитая каракатица, — мы сразу же отправились домой и сели за уроки, и моя мама сказала папе, что я когда-нибудь ещё стану послушной, кроткой девочкой. А папа возразил, что он ничуть не доверяет моей кротости и послушанию, так как познал людей на собственном горьком опыте. Но мама сейчас же заявила, что этот опыт ничего не стоит по сравнению с совершенно безошибочным инстинктом женщины-матери.
Кончилось всё очень плохо. Доктор Вебер сейчас же узнал свой череп. Это ещё раз показывает, что взрослые врут, когда говорят, что после смерти все люди равны и ничем не отличаются друг от друга.
Вечером, после истории с черепом, к моим родителям пришёл господин Мейзер и сказал, что его послала жена. У неё нервное потрясение, потому что в неё бросили череп, и она уже позвонила в полицию. Нам всем пришлось идти к Мейзерам, а Отхена Вебера даже вытащили из кровати. Пришли мы, трое главарей, наши родители и полицейский. На диване сидела толстая и круглая фрау Мейзер в цветастом халате, а рядом с ней — противная пухлая Траутхен с накрученными локонами; мы её прозвали гусеницей, потому что она такая же белая и жирная, как червяк. Гусеница смотрела на нас своими подлыми блестящими глазками и всё время выкрикивала тоненьким голоском: «Фи, какая гадость! Фи, какая гадость!» Конечно, все очень долго говорили с нами, а мы мужественно молчали и только изредка пожимали плечами. Но когда я заметила, что при мне нет «Каменного ока Фо», я сразу же поняла, что всё это добром не кончится.
Мейзерша кричала, что череп несомненно принадлежит человеку, которого мы убили, но полицейский в ответ только сочувственно вздохнул: «Боже мой, этого ещё не доставало!» — и сказал, что у него есть другие дела и что ему пора уходить. Тут я разозлилась, потому что мы никого не убивали, и потому, что Траутхен всё время нагло смотрела на нас, а фрау Мейзер гладила её и без конца повторяла: «Какое потрясение для нежного и хрупкого ребёнка!» И я взяла и заявила, что никто из нас черепа не бросал, но что мне точно известно, что кости предков иногда сами прилетают к тому, кто делает подлости и грешит, чтобы это послужило ему предостережением.
Господин Мейзер в своём углу кивнул головой и заметил, что он считает это вполне возможным. Глаза у моего отца стали совсем круглыми, и он спокойно и серьёзно сказал: «Довольно», потом взял меня за руку, отвёл домой и выпорол. Он сказал, что докажет мне, что кости предков не летают сами собой.
Сегодня утром по дороге в школу я встретила господина Мейзера. Он подарил мне деньги — одну марку, — но велел никому про это не говорить. Он сказал, что его жена совсем притихла и чтобы я на всю нашу компанию купила пирожных.
Хенсхен Лакс уже составил план, как нам вызволить обратно череп и как отомстить этой гусенице Траутхен Мейзер. На подаренную марку мы купили рыболовные снасти, чтобы ловить щук в пруду на бульваре.
БОЖЕСТВЕННОЕ ОРУДИЕ
Мне пришлось немало вытерпеть из-за того, что я оказалась орудием в руках божьих. Я всё время думаю об Иоанне-крестителе, который, будучи божественным орудием, питался в пустыне саранчой, а это, наверно, ещё ужаснее, чем всё, что переношу сейчас я.
Во всём виновата Траутхен Мейзер. По правде говоря, это не девочка, а настоящая преступница. Хенсхен Лакс тоже так считает.
Каждый вечер я молилась богу, чтобы он как-нибудь покарал Траутхен, потому что я сама не имею права этого сделать. Ведь бог сказал: «Мне отмщение, и аз воздам». По потом я подумала, что, может быть, господь избрал своим орудием меня, если до сих пор не отомстил ещё Траутхен; ведь прошло уже три дня, как она наябедничала на меня из-за переводных картинок, и моему отцу пришлось заплатить за обои, хотя денег у него не так уже много.
Траутхен Мейзер учится со мной в одном классе, и жили мы раньше в одном доме. Хозяином этого дома был отец Траутхен. Он толстый и симпатичный. Я часто раздумываю над тем, почему у такого хорошего человека такой противный ребёнок. Траутхен тоже толстая, но совсем не симпатичная, а жирная, пухлая и хитрая. Хенсхен Лакс, основатель шайки неистовых бандитов, членом которой я состою, называет её гусеницей. Моя мать сказала как-то о господине Мейзере: «Он, наверно, любит опрокинуть рюмочку», но я слежу за ним и никогда ещё не замечала, чтобы господин Мейзер что-нибудь опрокинул. Теперь у нас с ним вышел скандал из-за обоев и из-за того, что я окрасила Траутхен в синий цвет.
Всё началось из-за марки, которую я нашла, и из-за лечебного корсета. Когда мы были летом в Андернахе на Рейне, я всегда что-нибудь находила. Один раз нашла настоящее мужское обручальное кольцо, потом странный заострённый камень. Увидев его, мой папа закричал: «Окаменелость! Это совершенно определённо окаменелость». Он показал камень окружному судье, который жил вместе с нами в пансионе и за обедом всегда отбирал пудинг у своей жены и сам съедал его. Отец хотел передать камень в музей. Но слуга из пансиона установил, что это камень для точки кос, не имеющий ни особого названия, ни исторической ценности.
Обручальное кольцо отец отнёс в бюро находок — мама всегда говорит, что мой отец исключительно честная натура, она даже считает, что он иногда немного перебарщивает. По дороге в Броль, перед самым нашим отъездом, я нашла ещё серебряный кошелёчек. Увидела я его потому, что искала ядовитые грибы с интересными блестящими шляпками; из этих грибов я хотела устроить у себя в саду плантацию. Но мама сказала, что я всегда нахожу что-нибудь только потому, что хожу сгорбившись, и что мне необходим лечебный корсет.
Я посоветовалась с господином Клейнерцем из соседней квартиры, и он сказал, что за находку мне полагается вознаграждение. Но я не получила вознаграждения, так как папа отказался от него. Тётя Милли тут же сказала маме, что это просто неуместная гордость и что при всём уважении к моему папе она не может выразиться иначе. Меня эта история с вознаграждением совершенно не интересует, так как я бы его всё равно не получила, а они положили бы деньги в мою копилку, к которой мне не разрешают подходить и из которой всё равно ничего вытрясти не удаётся. В лучшем случае они трясут ею у меня над ухом, чтобы я послушала, какой раздаётся приятный звон и сколько уже накопилось денег. Они считают, что это поможет мне стать послушной девочкой с хорошими отметками. И ещё я должна научиться ценить деньги. Но такая копилка помочь мне не может и не сделает меня послушной. Зачем мне деньги, если я не могу купить на них даже подушечек или волшебной ручки с отверстием на конце — когда в неё смотришь, кажется, что внутри идёт снег. Мне очень хочется когда-нибудь иметь много-много денег и пойти с ними к «Королю чудес» на Высокую улицу. Это самый лучший в мире магазин, я часто тайком бегаю туда после школы. Там продаются воздушные змеи, страшные маски, конфеты-хлопушки, бумажные блинчики с начинкой из конфетти и совсем как настоящий шоколад из мыла, пропитанного уксусом, которым можно угощать гостей. И ещё там есть искусственные чернильные кляксы, и «идеальный звон разбитого стекла» — это просто железные пластинки, которые нужно бросить на пол, и тогда людям кажется, будто у них выбили все стёкла. Ах, у «Короля чудес» можно увидеть тысячи других, ещё более удивительных вещей.
Мыльный шоколад я бы с удовольствием положила вместе с другими конфетами в вазочку в тот день, когда у моей мамы собираются дамы и пьют кофе. Мамины знакомые ужасно скучные. Мне непонятно, зачем я должна говорить каждой «здравствуйте!» Они шуршат платьями, смеются и всё время болтают, перебивая друг друга. Когда я вхожу, в комнате стоит сплошной гул. Я стою и не знаю, что же мне, собственно говоря, делать. Я только успеваю посмотреть, сколько они оставили пирожных, и сообразить, перепадёт ли потом и мне что-нибудь. «Какая ты стала большая!» — говорят они, и «Тебе нравится ходить в школу?», и «Какие у вас сегодня были уроки?» И тут же продолжают болтать о шуме в ушах, о замечательном гомеопате, о промотанном состоянии и первосортном майонезе, о какой-то иссохшей девице и о том, что чей-то двоюродный брат-академик совсем опустился. Из того, что они говорят, мне не всё понятно. Я раздумываю над тем, как бы незаметно раздавить ногой парочку зловонных бомб, купленных у «Короля чудес», и стараюсь представить себе, как все эти дамы тогда заголосили бы, и какое бы у них было выражение лица, и что бы вообще произошло. Может быть, всё это было бы так же красиво и интересно, как когда на небе появляется радуга. Я всегда радуюсь, когда вижу радугу. Я никак не могу понять, как получается такая красота. Один раз я видела даже двойную радугу.
Когда моя мама бывает в дамском обществе, она сразу становится совсем другой: она смеётся и говорит со мной каким-то чужим голосом, всё время что-нибудь поправляет на мне, и я перестаю ей верить. Я вовсе не так уже стесняюсь этих дам, но мне стыдно, что моя мама становится другой и смотрит на меня как чужая.
Мне хотелось бы купить у «Короля чудес» настоящий волшебный ящик, тогда я могла бы давать представления и всех заколдовывать. Но взрослые не дают мне денег, они предпочитают покупать мне что-нибудь неприятное.
Сейчас они купили мне лечебный корсет. Каждое утро я должна надевать этот корсет, но я тотчас же иду в подворотню рядом с рестораном Пеленца и снимаю его. После школы я его опять надеваю, а когда иду играть, тайком снимаю, а потом снова надеваю. Я такая несчастная из-за этого корсета, у меня с ним столько хлопот, а когда он на мне, я не могу ни лазить, ни бегать, и бретельки натирают мне докрасна плечи. Мама подшила под бретельки бархат, после этого противный корсет стал жать ещё больше. Но когда я утром, как всегда, тайком хотела его снять и увидела этот бархат, подшитый мамой, я почувствовала, что не очень-то хорошо поступаю, и три дня подряд, не снимая, носила корсет, и мне не хотелось ни есть, ни играть и вообще ничего не хотелось. А потом у меня сил уже больше не стало терпеть. И теперь я его всё время снимаю и надеваю. Я просила бога послать ночью в мою комнату вора, чтобы вор украл лечебный корсет.
Когда я на прошлой неделе днём по дороге в школу нашла одну марку, я сначала решила тут же отдать её. Но тогда выяснилось бы, что я опять что-то нашла, и они наверняка купили бы мне ещё несколько корсетов.
Я уже хотела бросить марку обратно на мостовую, но мимо как раз проходила Элли Пукбаум, и я пошла с нею в лавочку к Боссельману покупать тетради. У этого Боссельмана есть замечательные вещи: разноцветные картинки для альбомов, венки из роз, матерчатые мыши и переводные картинки. На переводных картинках сперва ничего не видно, а потом, когда их намочишь, положишь на бумагу и сведёшь, получается чудо как красиво: белоснежки и гномы, людоеды и ангелы, ведьмы и звери. Это настоящее волшебство. У Боссельмана целые тюки таких картинок. Я надеялась, что, когда Элли будет покупать тетради, он, может быть, даст ей в придачу какую-нибудь картинку и мне тоже одну. Я очень хорошо знаю, что говорят взрослые, когда что-нибудь покупают, и поэтому я сказала: «Как дела, господин Боссельман?» А он ответил мне, как взрослой: «Плохо! Плохо!» — и многозначительно покачал головой. После этого я сказала, как это иногда делает мой отец, когда хочет помочь кому-нибудь нести вещи: «Давайте-ка сюда что-нибудь, господин Боссельман, не будем церемониться», — и купила на пятьдесят пфеннигов переводных картинок. Их было так много, что у меня от волнения перехватило дыхание.
Мы с Элли подошли к киоску с газированной водой, и я угостила её на свои деньги водой с сиропом. Мой отец и господин Клейнерц, когда у них бывают какие-нибудь неприятности, тоже ходят в пивную и пьют там у стойки, но мама не любит этого. Потом я побежала домой, потому что мы как раз переезжали на другую квартиру. Мы переехали в соседний дом, чтобы занять бо́льшую площадь. Ведь наша тётя Милли становится с каждым днём всё толще и толще.
Когда я к обеду вернулась домой, переезд уже закончился. Бедному ребёнку всегда приходится сидеть в школе, когда происходит что-нибудь действительно интересное.
Я постучалась к Траутхен, и мы поднялись в нашу совсем уже пустую квартиру. Здесь я показала Траутхен переводные картинки — ведь нужно же мне было показывать их кому-нибудь, а другой девочки в этот момент около меня не было.
Хенсхен Лакс говорит, что теперь он уже не интересуется переводными картинками, а собирает коллекцию камней. Я тоже скоро начну собирать такую коллекцию.
Наша пустая квартира стала совсем чужой и унылой. Сначала я чуть было не приняла свою комнату за гостиную. Но потом я разыскала настоящую гостиную, где мне разрешали играть только на рождество, в этом можно было убедиться даже сейчас, потому что в сочельник я училась здесь кататься на роликах, а в комнате паркетный пол.
Я села в угол на кучу стружек, и мне невольно вспомнилось рождество. В сочельник родители всегда стояли у ёлки, а ёлка вся сверкала и переливалась огнями. У Веберов как-то на рождество был даже настоящий пожар, так что пришлось вызывать пожарную команду с пожарниками и всем, что полагается. На праздники мне давали полную тарелку гостинцев и разрешали есть их сколько угодно. У нас всегда были мандарины и пахло ёлкой, и новыми игрушками, и одеколоном, и коньяком, потому что мои родители каждый раз говорили: «А теперь давайте раскупорим бутылки». А мама всегда дарила моему папе коньяк, а папа ей много-много одеколона. Но одеколон не пьют, его только расплёскивают. Мне разрешали не ложиться до девяти часов. Мы готовили пунш, и все должны были любить друг друга. Поэтому я даже тётю Милли целовала на рождество, а я этого никогда не делаю.
Я приказала Траутхен собирать стружки вместе со мной, они всегда могут мне пригодиться, и чуть не заплакала, когда вспомнила, что в этой совершенно пустой комнате когда-то было рождество. Но вдруг я заметила, что все обои в комнате светло-золотистого цвета, а там, где раньше висели картины, остались тёмные пятна. Тогда я подумала, что хорошо было бы наклеить здесь новые картины — ведь с переводными картинками можно творить чудеса. Никогда ещё у меня не было так много хорошей гладкой бумаги, чтобы сводить картинки сразу целыми листами.
Я велела Траутхен Мейзер принести мокрую губку и три часа подряд работала не покладая рук. Все стены сплошь я покрыла самыми замечательными картинками. Мы нашли лестницу, и Траутхен держала её. Я, как волшебник, переводила картинки даже на потолок. Никогда в жизни я ещё не видела такой красоты, и Траутхен тоже была в восторге. Но у меня было какое-то неприятное предчувствие. Я опасалась, что взрослые могут не понять, как это красиво, и поэтому взяла с Траутхен клятву ничего никому не говорить.
Траутхен поклялась, а потом сейчас же помчалась к своей матери и сказала, что я измазала все стены.
Был довольно большой скандал, и, так как мне хотелось как-нибудь искупить свою вину, я на следующее утро отдала последние пять пфеннигов, оставшиеся от найденной марки, нашей учительнице. Та положила руку мне на голову и громко сказала: «Честность всегда торжествует. Будь всегда честной, милое дитя. Я рада, что могу отметить у тебя хотя бы одно хорошее качество». Мне захотелось всё рассказать ей, но потом я решила этого не делать. Людям нельзя всего говорить — им ведь никогда по-настоящему не объяснишь, почему ты сделала что-нибудь такое, что они считают плохим. Я очень рада, что в мою душу заглядывает только бог и что люди не могут этого сделать. Никто так и не понял, почему я должна была отомстить Траутхен, и что всё это произошло само собой, а я почти не виновата.
Так вот. Самой большой гордостью фрау Мейзер всегда были светлые волосы Траутхен. Каждый вечер их по десять минут расчёсывают, а потом закручивают в локоны. Днём голова Траутхен похожа на огромную метлу.
Даже тётя Милли однажды сказала, что эта фрау Мейзер лишена какого бы то ни было чувства меры.
Я могла бы, конечно, отрезать Траутхен волосы, но эта мысль, по правде говоря, никогда не приходила мне в голову, а то, что пришло в голову, вовсе не было мыслью, всё произошло само собой, я ведь была только орудием.
Около семи часов вечера мама послала меня купить синьку, потому что на следующий день у нас была стирка. Когда я совершенно спокойно и чинно возвращалась домой с кульком в руках, Траутхен Мейзер играла с Минхен Ленц, и, как нарочно, они играли в классы как раз напротив нашего дома. Я совершенно спокойно прошла мимо девчонок и только чуточку стёрла ногой нарисованные мелом классы и слегка дёрнула Траутхен за её бараньи завитушки. Вот и всё. Но Траутхен сейчас же начала визжать, а потом разревелась и хотела улизнуть, я еле успела схватить её за фартук; тут что-то нашло на меня, и я высыпала весь кулёк дорогой синьки ей на голову. Больше я вообще ничего не сделала и тут же отпустила Траутхен, а та побежала к водопроводному крану. На оставшуюся сдачу я ещё раз купила синьки в магазине у Больвеге, а маме сказала, что синька подорожала.
Вечером, когда мы все уютно сидели за ужином, в комнату вдруг нахально ворвалась фрау Мейзер. Она выла и дрожала, как дрожит пудинг, когда мой отец ударяет кулаком по столу. Фрау Мейзер тащила за собой Траутхен. Я её сначала даже не узнала, так как после мытья под краном Траутхен стала совсем синей. Волосы синие, лицо синее, платье синее. Вся синяя. Это было замечательно, я тоже когда-нибудь покрашусь в синий цвет. Я никогда не думала, что Траутхен может быть такой красивой. Вместо того чтобы понять это и радоваться, фрау Мейзер кричала, что я изуродовала её ребёнка, и требовала возмещения ущерба. Тут я разозлилась, потому что семья Мейзеров доставляет мне одни неприятности. Мама и тётя Милли застонали, словно у них аппендицит, а папа посмотрел на меня с такой ненавистью, какую отец вообще не должен питать к собственному ребёнку. Я вспомнила, что папе уже пришлось заплатить за обои и, так как фрау Мейзер продолжала кричать о возмещении ущерба и о том, что такое преступление искупить невозможно, я очень вежливо и спокойно заявила, что за такого ребёнка, как Траутхен, я всегда сумею заплатить и что в моей копилке набралось, пожалуй, достаточно денег для того, чтобы купить трёх таких девчонок. Тут начался такой ужасный скандал, что мне о нём и вспоминать не хочется.
Поздно вечером пришёл господин Клейнерц, и мне из моей комнаты было слышно, как он смеялся и говорил папе, что ему не один раз уже наставляли синяки и что он не находит в этом ничего ужасного.
Но всем остальным взрослым меня ни капельки не жалко. Мне больше не дают сладкого, и мои ролики конфискованы. Фрау Мейзер сумела сделать так, что детям с нашей улицы не разрешают больше водиться со мной, а дома мне говорят, что я позорю всю семью. Играть на улице мне тоже не разрешают. Каждый день мама и тётя Милли по часу гуляют со мной в городском парке и крепко держат меня за руки. Они говорят, что если я вырвусь, то попаду в исправительный дом для трудновоспитуемых детей или в монастырь «Доброго пастыря». Если только меня туда примут, то уж сумеют со мной справиться, в этом я могу не сомневаться. Я всё время плачу и хочу умереть, потому что теперь в моей жизни не осталось ничего хорошего. Я должна ходить в лечебном корсете и всегда надевать шляпу.
Иногда я начинаю надеяться, что, может быть, маме и тёте Милли надоест всё время крепко держать меня за руки, потому что из-за этого они не могут рассказывать друг другу то, чего детям слушать не разрешается. «Говорят, что он даже бьёт её», — шепчут они, но это им не помогает. Я понимаю решительно всё и знаю, что они говорят о Леберехтах, которые живут напротив нас. Сам Леберехт всегда ходит по пивным и пьёт там можжевеловую водку, а потом ломает стулья, потому что в квартире ему тесно, и потому, что жена хочет зарезать и съесть его кроликов, а ему хочется сохранить своих кроликов и гладить их. За курами жена его тоже не смотрит: одна из них проглотила штопальную иглу и умерла.
Взрослые совершенно неправы, когда сажают меня на стул и часами учат штопать чулки. В конце концов от моих иголок только куры погибнут, если мы когда-нибудь их заведём. О Леберехте я знаю больше, чем мама и тётя Милли, но я и не подумаю им всё рассказывать.
Тётя Милли уже сказала как-то: «Чего доброго, девочка зачахнет на наших глазах». А я придумала замечательную вещь, которую сделаю, как только смогу опять свободно повсюду бегать. Я оклею свой лечебный корсет серебряной бумагой и буду носить его поверх платья, как рыцарский панцирь, и мы с Хенсхеном Лаксом, и Отхеном Вебером, и Матиасом Цискорнсом представим легенду о святом Георгии. Святым Георгием буду я.
У НАС НОВЫЙ РЕБЁНОК
Я хочу умереть. Ведь у нас появился ещё один ребёнок. Всё мне кажется печальным и мрачным. На улице сейчас жаркое лето, у меня на душе противная бесснежная зима. Никто меня не любит, и никто мне ничего не запрещает — я могу делать всё, что захочу. Моя мама больна. Один раз, когда я была маленькой, у неё тоже был грипп. Я сидела тогда около её кровати, читала ей по картинкам свою книжку и рассказывала о янтарной фее и лошадях, которые бегают по лестницам и выглядывают из окон сказочного дома. Мне позволяли любить маму, и она меня тоже любила. Когда она лежит в постели и на ней надета длинная ночная рубашка с белым кружевом, мама напоминает мне маленького Христа. Но теперь у неё новый ребёнок, и она его всё время целует, а мне даже не разрешают читать ей вслух. Тётя Милли говорит, что я не должна делать этого, потому что мама слишком плохо себя чувствует и ещё очень слаба. Но я наверняка знаю, что я им больше не нужна, потому что теперь у них есть другой ребёнок. Они ведь всегда говорили, что хотят ребёнка, который был бы послушней, чем я. Почему только я раньше никого не слушалась! Но я ведь никогда не думала, что буду так ужасно наказана.
Мне стало так грустно, словно я уже умерла. И я решила сбегать на кладбище. Был уже поздний вечер, кругом стояла тишина, а воздух был похож на занавеску из тёплого тумана.
Я хотела найти бабушкину могилу, потому что моя бабушка до самой смерти любила меня, а сейчас она мёртвая и её похоронили, но она всё ещё меня любит. Господин Клейнерц, наш сосед, говорит, что полагаться можно только на мертвецов.
На кладбище мне было не страшно, мне было совсем не страшно, только самую чуточку. Я никак не могла найти могилу бабушки, поэтому я села около другой могилы; на ней памятник такой же высокий и строгий, как господин школьный инспектор, который когда-то давно приходил к нам в школу и завтра опять придёт, чтобы нагнать на всех страх, не только на нас, но и на учительниц, слава богу, тоже.
Я не буду плакать. Взрослые смеются, когда я плачу. Когда я смеюсь, им тоже не нравится, потому что это значит, что я сделала что-нибудь такое, что их не устраивает. Они считают, что я должна познать все тяготы жизни. Узнать бы, что это такое.
Сейчас я сижу в гостях у мертвецов. Мертвецы не смеются, они стучат костями — это у них такая манера смеяться.
Чужая могила вся белая, и на ней вырезаны золотые буквы. У меня так тяжело на душе, что даже не хочется поднять голову. Но у меня есть пальцы. Пальцами я могу очень медленно прочесть вырезанные на каменной плите буквы. Так делают слепые.
«Здесь покоится с миром...»
Из старого бального платья, сшитого из жёсткого белого шёлка, бабушка вырезала мне маленькие розы. В память о ней я надеваю венок из этих роз, когда играю в школе ангела в рождественской сказке. Кроме того, мне надевают ещё и крылья. Правда, я не такая хорошая, как ангел, но я лучше всех умею читать наизусть стихотворения.
Вокруг шумит ветер, а над моей головой плывут разорванные тучи и шелестят листьями старые деревья. Рядом со мной белые гвоздики, я могу их потрогать, и мне не страшно — они цветут, как у нас на балконе. Мама поливает их каждое утро, только сегодня она этого не сделала, потому что лежит в больнице. Больше всего мы с мамой любим анютины глазки с крошечными бархатными личиками, как у маленьких болонок.
Папа непрерывно повторял: «Слава тебе, господи, наконец-то мальчик!» Мне хотелось бы узнать, как это могло так быстро произойти. Тётя Милли тоже всегда всё хочет знать, и если она говорит, что она, как-никак, член семьи, то ведь я то же самое могу сказать и о себе. Но теперь я уже больше не член семьи.
Когда ему позвонили друзья, отец громко задышал в телефонную трубку. «Да, мальчик, так точно, мальчик!» — сказал он взволнованным голосом. Мне казалось, что от его голоса вспыхнет и сгорит телефон. И ещё он сказал, что ему всегда хотелось мальчика. Зачем же они тогда купили меня, если им больше хотелось мальчика, а я девочка? Может быть, они покупают детей в приюте и девочки стоят дешевле, а мой отец купил меня только потому, что он в то время ещё мало зарабатывал и на мальчика у него не хватало денег? Ведь купили же они новый буфет, а старый буфет без всякой жалости отдали толстой старой вдове, потому что с буфетом ей легче будет выйти замуж за почтальона, и ещё потому, что она раньше помогала моей матери стирать большую стирку.
Мама как-то сказала тёте Милли, что мужчины никогда не говорят откровенно о своих делах.
Не могу понять, почему им обязательно нужен был мальчик. Я, например, знаю таких мальчишек, как Хуберт Булле, он обрывает крылышки у хорошеньких маленьких бабочек и ни одного раза не может подтянуться на руках, а стоит мне только толкнуть его в парке, как он начинает кричать от страха и сразу же падает в канаву. Я просто не могу себе представить, что такой мальчик ценится дороже, чем девочка. Это тайна, но я её когда-нибудь обязательно узнаю.
У животных, по правде говоря, всё устроено намного лучше, чем у людей. У зверей есть ещё и шкуры, они не мёрзнут, и им не нужна одежда. Им не нужно быть осторожными — шкуры никогда не рвутся и их не приходится с таким трудом штопать. На них преспокойно можно сажать пятна. Мне хотелось бы, чтобы у мамы и у меня были такие же красивые белые и тёплые шкуры, как у полярных медведей в зоологическом саду. Для папы можно было бы выбрать шкуру потемнее, такую, как у буйвола, — он не любит ярких вещей. А тётю Милли можно было бы всю с ног до головы одеть в зелёные перья попугая, она могла бы всё время взбивать их, ведь она всегда мечтает о чём-нибудь ярком и воздушном. Фрау Мейзер я дала бы самую уродливую обезьянью шкуру, такую, чтобы она вообще никогда не осмелилась встать со стула.
Есть мальчики и получше, чем Хуберт Булле. Может быть, моему отцу хочется иметь какого-нибудь особенно послушного мальчика, потому что он считает меня очень непослушной девочкой, которая только позорит семью; и потом, ему из-за меня всё время приходится кому-нибудь платить. Позавчера, например, пришлось заплатить прыщавой фрейлейн Левених, которая живёт на нашей улице, за её новый белый воротничок только потому, что я старой самопишущей ручкой брызнула ей чернила за воротник. Но я должна была это сделать, потому что фрейлейн Левених всегда приходит к моей маме и говорит ей: «Ах, моя дорогая, я считаю, что вы неправильно воспитываете своего ребёнка. Если бы вы ежедневно на несколько часов запирали эту маленькую озорницу в тёмной комнате, то наша любимица, наверно, очень скоро стала бы скромной и послушной девочкой». Она говорит это, а потом удивляется, что я ненавижу её. Ни одна девочка не будет любить человека, который хочет часами держать её взаперти в тёмной комнате. И ещё она считает, что меня надо выпороть. А после всего этого она говорит: «Иди-ка сюда», и хочет поцеловать меня своими поджатыми, потрескавшимися губами. Хенсхен Лакс считает, что противней этого, пожалуй, ничего быть не может, а ведь он действительно знает жизнь. Как-то раз, когда господин Клейнерц зашёл к нам вечером выпить пунша, я его тоже спросила, позволил ли бы он, чтобы фрейлейн Левених его поцеловала. Господин Клейнерц ответил, что эта особа вызывает у него прямо-таки физическое отвращение и что от одной мысли о её поцелуе его бросает в дрожь. А моей маме он сказал: «Вы, дорогая сударыня, всецело подпали под влияние этого демонического, бездушного существа». Я спросила, что это значит, а они отправили меня спать. Они так всегда делают, когда мне вечером хочется что-нибудь узнать. Если же я о чём-нибудь спрашиваю утром, то они говорят, что уже давно пора идти в школу. Если днём, — то я должна сначала сделать уроки. После обеда я не могу спрашивать потому, что играю на улице или в парке со своими товарищами, ведь должен же и ребёнок когда-нибудь отдохнуть. А если у меня потом остаётся время, чтобы о чём-нибудь спросить, то меня посылают спать. Бедные дети никогда не получают ответа. Никогда!
Фрейлейн Левених мучает меня и мучает мою мать. Поэтому я пошла после обеда на «Золотой угол». Там много балаганов, качелей и каруселей, и тир там тоже есть. Таким я представляю себе рай. Только в раю не будут нужны деньги, там я смогу кружиться на карусели сколько хочу и заходить бесплатно во все балаганы. Сейчас, пока я ещё жива, меня никуда бесплатно не впускают, но даже и снаружи всё очень красиво. В одном из балаганов есть мужчина, который распиливает женщин. Хенсхен Лакс сперва не верил, что на такие вещи даётся разрешение, но это самая настоящая правда. Я сама разговаривала с этим человеком. У него на руке большой синий якорь, который никогда не смывается; он мне разрешил совсем бесплатно рассмотреть этот якорь вблизи. Когда-нибудь у меня на обеих руках будут нарисованы маленькие парусные лодки и белочки, — если у тебя есть деньги, можно себе всё позволить. Мне хотелось бы сделать это к рождеству. Может быть, мне удалось бы расплатиться своими коралловыми бусами.
Я сказала этому человеку, что отдам ему свой новый географический атлас и настоящее серебряное кольцо, которое я получила от дяди Хальмдаха, если он вечером придёт на нашу улицу и распилит фрейлейн Левених на две части.
Мы обо всём точно договорились, но потом этот человек не пришёл, потому что он настоящий артист. Он мне сам это говорил. А господин Клейнерц как-то сказал, что на артистов полагаться нельзя. После этого я решила, что никогда не буду артисткой. Я не умею распиливать женщин, но мне хотелось всё-таки что-нибудь сделать этой Левених. Наша учительница всегда говорит, что надо делать всё, что в твоих силах. Поэтому я залезла на каменную стену и оттуда брызнула фрейлейн Левених чернила за воротник. Она стала ужасно кричать, а папа вечером наорал на меня: «Девчонка, даже и теперь ты не можешь быть послушной, даже теперь ты ни с кем не считаешься». А мама сказала: «Но, дорогой мой, девочка ведь ничего не знает». Значит, они уже тогда знали о новом ребёнке, и мама просто не хотела мне этого говорить.
Я хочу быть такой красивой, как фея, и чтобы сердце у меня было из золота, и волосы из золота и такие длинные, как наша улица. Тысячи пажей должны будут нести за мной мои золотые волосы, а тёте Милли запретят втирать мне по вечерам в голову вонючее репейное масло. Придёт принц и скажет: «Эти золотые волосы никогда больше не разрешается причёсывать». Тогда меня перестанут дергать за волосы перед тем, как мне идти в школу. Все будут считать, что я красивая, и будут любить меня... Или лучше я стану смелым моряком. Когда мой корабль будет уходить в море, все станут горько плакать, а я буду стоять, гордо прислонившись к мачте, с высоко поднятой головой.
Дорогая моя бабушка... Сейчас я сорву все цветы, тогда они пустят меня в больницу к маме — ведь господин Клейнерц говорил моему папе, что он хочет навестить маму, а для этого ему обязательно нужно достать самых красивых цветов. А папа ответил: «Право же, в этом нет никакой необходимости». Тогда господин Клейнерц решительно заявил: «Нет, это совершенно необходимо». Я хочу к маме.
Я очень устала, а до больницы было далеко. У какого-то мужчины я спросила, куда мне повернуть, он ответил «налево». Я подумала: «Такой взрослый мужчина никогда не скажет ребёнку правду», и пошла направо. Все люди врут и ничего толком не знают. Я долго шла не той дорогой, по незнакомым улицам, но потом всё же пришла к маме. Меня пустили в больницу, потому что у меня в руках было много цветов.
«Иди сюда, дочурка», — сказала мама голосом, похожим на мягкую подушку. Она лежала на чужой кровати, и у неё было белое как снег, но весёлое лицо. В ногах у неё сидел мой папа. «Ты ужасный ребёнок, — сказал он, — что ты опять натворила, откуда у тебя эти цветы?» Тут мне захотелось плакать, швырнуть все цветы на пол и растоптать их. Когда на меня такое находит, я всегда чувствую, что не смогу сдержать себя. Изнутри у меня тогда поднимается какой-то туман и постепенно так окутывает меня, что я ничего больше не вижу и могу только беситься. Я уже не могла ничего ответить папе. В комнате пахло чем-то незнакомым, пол был покрыт холодным линолеумом, но мама вовремя сказала: «Оставь нас с дочкой — мы, женщины, хотим побыть наедине». И она так посмотрела на папу, что его как ветром сдуло.
Я маме всё рассказала. Позвали сестру, и она поставила бабушкины цветы в три вазы. Вечером их унесут за дверь, иначе они всю ночь напролёт будут рассказывать маме о мертвецах и тогда она не сможет заснуть. А ей нужен сон. Рано утром цветы снова внесут к ней. Мама сказала, что всегда будет любить меня. Она вовсе не хотела иметь лучшего ребёнка, чем я, но теперь у меня есть братик, и я тоже должна любить его. Что касается меня, то я вполне могла бы обойтись без брата.
Колокола церкви святой Марии пробили восемь. Вошла тётя Милли и принесла нового ребёнка. Они пообещали мне, что он скоро подрастёт и станет красивее. Они уверяют, что я тоже когда-то была такая, но я этого совсем не помню. Когда он научится говорить, я ему покажу, как надо ловить головастиков. «Здесь тебе ночевать нельзя», — сказала мама, и тётя Милли отвела меня домой, хотя теперь, когда дома нет мамы, квартира стала совсем чужой. Мне бы больше хотелось остаться в больнице.
Дома меня вдруг разбудил папа и спросил: «Ты рада, что у тебя есть братик? Скажи, чего тебе сейчас больше всего хочется? Хочешь, я почитаю тебе рассказы из «Календаря Общества охраны животных» или давай рассматривать вместе глобус?» Я тут же ответила: «Больше всего мне хочется делать водяные бомбы и бросать их». Хенсхен Лакс научился этому в школе у одного большого, умного мальчика, и, лёжа в кровати, я решила, что завтра, когда никого не будет дома, я этим займусь. Отец тяжело вздохнул, ему почему-то хотелось читать мне «Календарь Общества охраны животных». Но я знаю почти все эти рассказы. Сначала в них люди всегда плохие и злые, а потом их исправляет и делает хорошими какой-нибудь добрый зверь. По-моему, было бы интереснее, если бы такой человек остался ужасно злым, а добрый зверь откусил бы ему голову. И я сказала, что больше всего мне всё-таки хочется делать водяные бомбы. Я очень разволновалась и стала объяснять, как они делаются. Для того чтобы сделать водяную бомбу, надо искусно сложить бумагу, влить в неё воду и бросить на улицу. Лучше всего, конечно, сбросить такую водяную бомбу кому-нибудь на голову. Голова ни у кого от этого не развалится, даже больно не будет.
Отец очень серьёзно заявил мне, что он готов делать вместе со мной водяные бомбы, но что бросать ими в людей нельзя, бросать можно только на асфальт.
У нас было очень много бумаги и три ведра воды. Папа сначала долго тренировался, а потом научился делать бомбы лучше меня. Я люблю папу. Завтра я скажу об этом маме. Мы долго бросали бомбы на асфальт, и они разрывались с треском — это было замечательно. Я сказала, что совсем не обязательно бросать бомбы людям на голову, можно сбрасывать их на асфальт перед самым носом прохожих, чтобы немножко напугать их, ведь они не смогут попять, в чём дело. Отец согласился, но сказал, что уже никаких новых проказ он не разрешит.
На улице пахло липой. Казалось, что воздух можно трогать руками. Внизу проходила фрейлейн Левених с каким-то господином. Я сказала отцу: «Смотри!» А потом скомандовала: «Внимание! Бросай, бросай же!» И тут он бросил бомбу, но она упала не перед носом фрейлейн Левених, а прямо на её зелёную шляпу с дрожащим пером, по которому я её и узнала. Левених, конечно, вскрикнула. Я пригнулась и хотела пригнуть и папину голову, у него ведь нет никакого опыта. Господин Клейнерц всегда говорит, что с годами люди глупеют. Папа спрятался только тогда, когда фрейлейн Левених уже успела его заметить. Он сказал: «Вот проклятая старая ослица... Но я же запретил тебе, дочка, бросать водяные бомбы людям на голову!» А ведь моя водяная бомба всё ещё была у меня в руках.
Я сказала, что была бы рада, если бы мы попали в фрейлейн Левених. Отец засмеялся, снизу это хорошо было слышно, и заметил: «Да, меня это тоже обрадовало бы, — ну, а теперь пора спать». Он отнёс меня в кровать. Пока он меня нёс, я заснула. Папа спросил: «Ты любишь мальчика?» Я так устала, что почти не могла говорить, — только сказала, что мы с мамой подробно всё обсудили и что теперь, когда ребёнок уже есть, ничего не поделаешь. Может быть, потом я его полюблю, может быть, когда-нибудь, когда он научится ходить, я ему одолжу один из своих роликов, но пока мне с таким маленьким ребёнком делать нечего.
МЫ ПИШЕМ ИМПЕРАТОРУ
Нам с Хенсхеном Лаксом больше не до игр. Мы заняты очень важным делом, для взрослых это будет большой неожиданностью. Но нам очень трудно встречаться для того, чтобы заниматься этим делом. И всё из-за истории с новым домом.
Нас обвиняют в том, что мы затопили новый дом. Мы — это дети сторожа Швейневальда, Хенсхен Лакс, Отхен Вебер и я. Но ничего бы этого не случилось, если бы, как всегда, не вмешались взрослые.
Когда штукатуры заканчивали работу, мы часто ходили на стройку, потому что она нам нравилась гораздо больше, чем готовый дом. Нам не разрешали туда ходить, нам всегда запрещают всё интересное. Мы играли на стройке в пожарную команду. Может быть, мы правда станем когда-нибудь пожарниками, ведь для этого нужно быть смельчаками. Тогда мы будем мчаться по улицам как сумасшедшие, и все будут уступать нам дорогу и считать нас героями. Может быть, когда-нибудь война всё же кончится. Господин Клейнерц говорит, что тогда многое изменится и что теперь ещё трудно предвидеть, какие произойдут перемены. Но пожарные команды обязательно останутся, и пожарники будут, так же как и теперь, пользоваться большим уважением и получать медали. Взрослые говорят, что пожары будут всегда, даже тогда, когда не будет войны. Пожар — это замечательная вещь, и тушить его тоже очень интересно.
Младшие дети Швейневальда сидели в подвале новостройки, а мы были пожарниками и спасали их, рискуя жизнью. Хенсхен Лакс и я были командирами и лазили по самым высоким балкам.
Мы поднимались и спускались по канатам и кричали: «Вперёд, друзья, вперёд! В первую очередь спасайте старух и детей!» Кетти Швейневальд была старухой, и мы заворачивали её в попону, которую когда-то забыли квартировавшие у нас солдаты. Мы не смогли вернуть попону потому, что этих солдат отправили на фронт, и ещё потому, что теперь совсем нельзя достать шерсти. Эта попона — военное имущество, поэтому мой отец ничего не должен о ней знать, а мне не разрешается с ней возиться, так как мама хочет отдать её выкрасить в синий цвет и сшить мне из неё пальто. Но попона понадобилась мне для спасения старухи.
Ещё нам понадобилось одеяло. Самое большое одеяло было у Отхена Вебера. Обыкновенная известь выела в нём теперь большую дыру. Известь — как огонь, этого мы раньше не знали.
Когда-то у нас дома были медные кастрюли, но из них сделали пушки, поэтому нам с Хенсхеном Лаксом пришлось надеть вместо касок обыкновенные серые эмалированные кастрюли.
Самое интересное началось, когда на нашей новостройке появились водопроводные краны и мы смогли тушить пожар по-всамделишному. Швейневальдовскин Алоиз не переносит холодной воды, и поэтому он кричал, как на настоящем пожаре. Это было замечательно! И всё было бы хорошо, если бы вдруг какие-то мужчины не крикнули нам с улицы: «Вы что там делаете? А ну-ка, убирайтесь!» Во время бегства Хенсхен Лакс потерял свою каску — моя мама должна была на следующий день варить в ней овощи, — а я и Кетти Швейневальд упали в сырую глину и по-настоящему застряли в ней. Но, находясь в смертельной опасности, мы все, и старики и дети, всё же сумели спастись. А на следующий день к нашим родителям пришли какие-то люди — ведь мы славимся по всему району и все нас называют чумой. Оказывается, в новостройке набралось много воды из-за того, что мы, убегая, оставили краны открытыми. Отхен Вебер думал, что их закрыла я, я думала, что их закрыл Отхен Вебер, а швейневальдовские дети вообще ни о чём не думали.
Было воскресенье, нам пришлось пойти в церковь, и, кроме того, нас выпороли. А профессор Лакс прочитал нам статью из газеты о послушном, верном своему долгу мальчике, который приносил своим родителям только радость. Этот мальчик написал императору письмо о верности долгу и о послушании. Его величество обрадовалось и прислало мальчику в подарок пони, настоящего, живого пони. Профессор Лакс всегда говорит, что чтением соответствующих выдержек из газет он оказывает на нас воспитательное воздействие.
В воскресенье днём наши родители, очень расстроенные, отправились через городской парк в Линденталь пить кофе, а нас, детей, в наказание не взяли с собой. Но я была только рада этому, потому что ненавижу ходить на экскурсии и на прогулки со взрослыми. Тогда мне жизнь не мила и у меня такое чувство, будто на мне надета тысяча лечебных корсетов. Если с нами идёт ещё какой-нибудь ребёнок, то мне говорят: «Возьмитесь за руки и идите вперёд». У меня очень много товарищей, с которыми я играю, но мы никогда не берёмся за руки, когда мы одни и бежим в городской парк или ещё куда-нибудь.
А когда я гуляю с родителями и тётей Милли, я им мешаю, и они всё время на мне что-нибудь поправляют; им всегда кажется, что у меня недостаточно опрятный вид. Они часами сидят в скучном кафе и не дают мне даже спокойно выпить лимонад. Из приличия и чтобы не застудить горло, я должна пить малюсенькими глотками, иначе мне сейчас же скажут, что я глотаю, как удав. А потом они отыскивают где-нибудь незнакомого ребёнка, который пришёл с совершенно чужими людьми, и говорят: «Подойди к той маленькой девочке и поиграй с ней. Видишь, она не спускает с тебя глаз. Познакомься же с ней, не будь такой нелюдимкой. Ну, что же ты!» Все смотрят на меня, и я вынуждена подойти к незнакомому ребёнку. А я не хочу знакомиться, это ведь можно делать только по своей воле.
Я очень обрадовалась, что в воскресенье днём мне не надо с ними идти. Нам велели остаться дома и обдумать своё поведение. Тётя Милли сначала не хотела оставлять меня одну из боязни, что я опять что-нибудь натворю. С её стороны это подлость никогда мне не верить.
Сначала я и вправду стала обдумывать своё поведение, но потом мне ужасно захотелось посмотреть наводнение в нашей новостройке, и к тому же швейневальдовские дети стали свистеть мне снизу. Их отец ночной сторож и днём почти всегда спит, поэтому им никогда не попадает. Я крикнула из окна, что мне запретили спускаться вниз. Тогда они стали свистеть Хенсхену Лаксу, а потом опять мне. Хенсхен Лакс помахал мне купальными трусами и крикнул, что они сейчас пойдут на новостройку плавать.
По правде говоря, в новостройке нельзя было по-настоящему плавать, но зато можно было купаться, нырять и изображать подводную лодку. Купаясь, мы немного запачкались, и несколько дней подряд нас никак не могли отмыть. Нам строго-настрого запретили встречаться, потому что мы портим друг друга. Но это вовсе неправда.
Теперь мы с Хенсхеном Лаксом пишем императору, чтобы всё уладить и всех спасти. Для этого нам необходимо тайком встречаться в старой крепости. Мне приходится говорить дома, что я иду делать уроки к Альме Кубус, а Хенсхен Лакс вступил в детское общество капеллана Шлауфа, чтобы петь там духовные песни и слушать поучения. Но он туда не ходит.
Мы пишем императору сначала на черновиках. Об этом мы никому ничего не говорим. Когда мы получим от императора ответное письмо или телеграмму, то сначала в школе никто этому не поверит, а потом все удивятся и будут преклоняться перед нами. Дома поймут наконец, что мы послушные и такие же хорошие, как мальчик с пони, и даже намного лучше. И они будут счастливы, что у них такие дети.
Мы с Хенсхеном Лаксом пишем не вместе, а каждый в отдельности, — ведь было бы просто ужасно, если бы мы получили в ответ всего одну телеграмму или одно-единственное письмо на двоих. Может быть, ответ пришёл бы Хенсхену Лаксу и тогда он сказал бы, что это его собственность, или же нам пришлось бы разорвать письмо пополам. И если бы император подписался: «Твой Вильгельм», одному досталось бы «Виль», а другому «ельм», а букву «г» нам пришлось бы разыграть, и в конце концов никому ничего бы не досталось. Мне хочется получить ответ для себя одной, а Хенсхену Лаксу — для себя одного, и мы не хотим ссориться, об этом мы напишем императору.
И ещё я пишу императору, что я разговаривала с очень многими умными взрослыми и все они считают, что мир лучше войны, и что вообще войну пора уже прекратить, и что война — это свинство; ему, как императору, конечно, интересно будет это узнать, он ведь всегда обязан сидеть в своём замке, чтобы оттуда управлять страной, а я могу бегать повсюду и слушать всё, что говорят. Я пишу, что лучше всего ему было бы отречься. Не знаю, что это значит, но император знает всё, — он должен всегда знать больше других людей. И ещё я ему пишу, что мы в школе всегда очень громко поём много замечательных песен о нём, о его величии, — в этих песнях мы восхваляем его, и что мне жаль его, потому что ему всё время приходится носить тяжёлую корону, которая ему мешает двигаться. Свою матросскую шапку я и то не люблю надевать. Я пишу ему и о картине, которая висит в нашем актовом зале, на ней написано: «Золото я променял на железо». На этой картине женщины жертвуют на алтарь отечества свои обручальные кольца и свои длинные отрезанные косы. Правда, моя мама хочет во что бы то ни стало сохранить обручальное кольцо, а вот я была бы рада, если бы мне разрешили остричь волосы, потому что они мне только мешают. Я с удовольствием бы их отдала императору, но их не так уж много, да и зачем они ему? Когда у него соберётся большая коллекция волос, они ему всё время будут попадать в еду. Тётя Милли подкладывает в свою причёску очень толстые волосяные валики; в её комоде их целый ворох, — мне ничего не стоило бы тайком забрать их и послать императору. В школе нам всегда говорят, что изобретательный ум немцев всему найдёт применение. И ещё я пишу, что мы хотим, чтобы чаще были выходные дни и мы не учились не только по воскресеньям, но и по понедельникам и вторникам, а может быть, ещё и по средам.
Мы пишем о том, как мучаемся с учителями. Я хочу, чтобы император приказал снять фрейлейн Кноль с работы. Ведь он очень справедливый и защищает всех слабых на земле.
Может быть, скоро и для моей мамы наступят радостные дни. Ей ведь тоже хочется, чтобы кончилась война. Война продолжается уже почти четыре года, а конца всё не видно. Мама плачет, потому что все её братья убиты и умерли. Я их никогда не видела, но вязала им напульсники и шарфы, и во время вязания у меня то и дело спускались петли.
Когда не будет войны, не нужно будет так долго стоять в очереди за плохим мармеладом, который я всё равно очень люблю. Иногда мне приходится стоять в очереди по нескольку часов подряд. Фрау Швейневальд, которая как-то стояла передо мной, даже упала в обморок. Дома я теперь тайком учусь падать в обморок и скоро уже научусь. Нужно только стараться не стукнуться головой.
Раньше, ещё в мирное время, папа ездил в Америку на пароходе. Пароход был такой величины, как наш дом, и такой вышины, как церковь. Он привёз мне из Америки пару настоящих индейских туфель — их называют мокасинами, — а я в то время ещё вовсе и не родилась. Но эти туфли у меня и сейчас есть. Носить их я не могу, и они, как украшение, стоят на моей полке. А у мамы на буфете стоят ботиночки, которые я носила, когда была маленькой. Их чем-то покрасили, и они совсем окаменели. Я не знаю, как это делается. И ещё я никак не могу понять, почему я не помню, как я была совсем маленькой. Может быть, меня просто обманывают и я вовсе и не была маленькой. Сейчас я ношу деревянные сандалии, они действуют на нервы всему нашему дому. Громче всего я хлопаю деревяшками, когда бегаю по лестнице, потому что лестница наша тоже деревянная и не покрыта, как раньше, ковровой дорожкой. Получается такой грохот, как от трубы или индейского военного барабана, в который бьют негры. А мне этот шум очень нравится.
Как-то раз у нас тоже был мёд, настоящий пчелиный мёд. Это было, когда мы ездили в Диммельскирхен. Меня взяли, чтобы помочь тащить продукты, и не заставляли вести себя, как во время обычных прогулок, когда мы ездим за город, чтобы отдохнуть или полюбоваться природой.
В часе ходьбы от Диммельскирхена живёт крестьянин; у моего папы раньше были какие-то дела с ним. Он сначала ничего не хотел нам дать, потому что все городские ему надоели, и он терпеть не может людей, которым нечего есть. Но у отца был керосин, и взамен мы получили яйца, только никто не должен был об этом знать. Мама положила их себе под кофточку, и её нельзя было ни трогать, ни толкать, а я должна была спрятать банки с мёдом под матроску. Переночевать у крестьянина нам не позволили, и мы долго шли пешком. Было уже очень поздно и темно, когда мы пришли в Диммельскирхен. Здесь мы собирались переночевать. Я не могла идти дальше. Но комнаты не было. В единственной гостинице все номера были заняты. Мне очень хотелось ещё раз побывать в коровнике, где пахнет тёплыми шкурами и пёстрые коровы медленно позвякивают цепями.
Мой отец ходил из дома в дом и всё же не нашёл комнаты для ночлега. Ночь была безлунная, ни один фонарь не горел. Я три раза падала на улице, но банки с мёдом не разбились, разбились только мои коленки. Может быть, наш крестьянин всё-таки разрешил бы нам посидеть у него на кухне, но было так темно, что мы не могли уже вернуться обратно, а уехать мы тоже не могли, потому что в Диммельскирхене нет вокзала — он очень далеко, до него почти час ходьбы. Дорогу в такую тёмную ночь не найти — нужно идти лесом, в котором много корней и глубоких оврагов, куда легко свалиться.
В конце концов нам всё-таки разрешили посидеть в монастырской больнице. Но сначала они нас тоже не хотели впускать. Мы сидели на скамейке в большом пустом зале, тесно прижавшись друг к другу, потому что было холодно.
Мы съели весь мёд из одной банки. Мы ели его по очереди папиным перочинным ножом. Я люблю есть с ножа, но, к сожалению, мне этого обычно не разрешают. Мама сказала, что натуральный пчелиный мёд согревает и полезен для здоровья.
В пять часов утра на вокзал пошли рабочие и работницы, чтобы ехать на фабрику. Люди, у которых зелёные и жёлтые лица и такие же волосы, всегда работают на военных заводах — они там постепенно окрашиваются в эти цвета. Я таких людей часто встречаю.
Все шли с фонарями, которые покачивались на ходу и казались совсем маленькими и тусклыми. Мы поплелись за ними. Никто не разговаривал; может быть, все боялись тёмного леса и разбойников, которые в нём живут. Маленькая старушка, похожая на карлика, тащила рюкзак, который был намного больше её спины, и всё время спотыкалась. Папа хотел ей помочь, но она испугалась, зарычала, как собака, и побежала ещё быстрее.
На перроне горел фонарь, но было темно. Мы ждали поезда и мёрзли, глаза у меня слипались. Все стояли сгорбленные и печальные, чёрные блестящие рельсы убегали в темноту. Закрапал мелкий дождик. Нам всё было безразлично. Пришёл жандарм, пуговицы на нём сверкали. Дождик, словно испугавшись, пошёл сильнее, а жандарм заговорил громким голосом, отнял у маленькой старушки рюкзак и вытряхнул из него всё. По камням, как коричневые мыши, запрыгали картофелины, между ними, блеснув на свету, разбилось яйцо. Женщина сжалась в комочек, как мокрица, которая боится, что до неё дотронутся. Все замерли и смолкли, а кто-то сказал: «Ну что ж, этот чиновник только выполняет свой долг». Нам казалось, что мы спим и что всё это нам снится. Я ненавижу жандарма и никогда не стану исполнять свой долг. Стоявший рядом со мной старик вынул из кармана корявую скрюченную руку и стал тянуться к картофелинам. Рука хватала воздух — картофелины были слишком далеко. Он спрятал руку в карман, рука у него дрожала.
Наконец подошёл поезд, и мы влезли в вагон. Нас сдавили со всех сторон. В поезде было теплее. Люди все вокруг были добрые, но запах был противный, и мне стало плохо. Потом я вдруг заметила, что моё тело стало удивительно липким, я засунула руку под матроску и поняла, что банка с мёдом благополучно разбилась. В толкучке я ко всем приклеивалась...
Мне хочется, чтобы император заключил мир. Я пишу ему об этом, ведь он всё может сделать, на то он и император.
Фрейлейн Кноль говорила нам, что император — посланец бога на земле, а господин Клейнерц считает, что у него и денег много. Хенсхен Лакс говорит, что, наверно, очень интересно быть богом или императором с короной на голове и иметь много денег. А что такое горностай? У него ведь и горностай есть. Император, наверно, мог бы сделать так, чтобы на всех деревьях росли белые батоны, а Рейн превратился в реку из мармелада, и чтобы у людей, потерявших руку на войне, вырастало четыре руки, и чтобы мёртвые солдаты опять оживали. Мы много читали о войнах, и, когда мы играем в войну с швейневальдовскими детьми, мы тоже падаем на землю, как мёртвые. Но мы-то всегда встаём после этого, и если я во время игры разбиваю до крови голову, отец только говорит мне: «До свадьбы заживёт».
Господин Клейнерц потерял на войне руку. Он говорит, что бывают вещи и похуже, но я ему не верю.
Когда он лежал в госпитале, мы с отцом навещали его каждый день. Мы отнесли ему все наши красные розы, приносили зелёную мирабель и настольные игры, и другим раненым мы тоже всё давали. Я им рассказывала тысячи разных историй о волках с длинными и острыми, как сабли, зубами, которые хотят сожрать траву и овец, но трава превращается в колючки и прокалывает им животы, а потом приходит огромная овца и разрезает им животы ножницами, как в «Красной Шапочке». И ещё я им придумывала истории о том, как я опускалась на дно морское и шла к коралловым островам, а рядом со мною проплывали акулы и не кусали меня, потому что я кормила их янтарём. Раненые тоже много рассказывали, и мы вместе придумывали разные истории, а один раненый совсем тихо играл на губной гармонике и пел: «Чернобровая девчоночка моя». Я часто ходила в госпиталь и одна, без папы. Но я ведь не императрица — той стоит только милостиво положить свою нежную руку на горячий лоб раненого, как он забывает о своих ранах и готов умереть от счастья. Этого я сделать не могу.
Господин Клейнерц рассказывал мне, что в мирное время белого хлеба сколько угодно, надо только ходить за ним в магазин. Когда он был маленький, у них дома всегда ели белый хлеб, размоченный в молоке. Я тоже хотела бы есть такой хлеб, потому что от него не заболеешь. Наш доктор Боненшмидт уже очень старый и всё знает. Он сказал, что нарывы на ногах у меня оттого, что я ем один только хлеб. С тех пор я боюсь есть хлеб, и мама мне его больше не даёт, потому что ей надоело со мной мучиться. Она голодает, а мне отдаёт всю безвредную пищу. Теперь у меня на ногах остались только шрамы, и они уже не болят. Но раньше из них выдавливали гной, и получались настоящие дырки. Каждый вечер их заливали йодом, было ужасно больно, и утром, когда я вставала, я уже со страхом думала о вечере. Когда йод попадал в дырки, я так кричала, что раз даже пришёл полицейский; дело в том, что жильцы из квартиры напротив подумали, что меня избивают, и заявили об этом в полицию...
За гостиницей Менгерса чужой солдат перекапывает огород. Это пленный, он принадлежит немцам. Когда в гостинице никого нет, фрау Менгерс разрешает мне поиграть шарами на бильярде. Тогда я представляю себе, что шары — это цветы, и катаю их по большому зелёному полю. Толкать шары длинной палкой мне не разрешают, чтобы я ничего не испортила. Я просто толкаю рукой. Как-то раз фрау Менгерс попросила меня отнести пленному кофе — ведь он тоже человек. Сперва я испугалась, потому что пленный был врагом. Но он сидел на камне, положив руки на лопату, глаза у него были усталые и грустные, подбородок серый. В нём не было ни капли веселья, он был очень, очень печальным. Я стояла с чашкой кофе в руках, небо было огромное и синее, а коричневое поле казалось бесконечным. Я была с пленным совсем одна, даже птицы не пролетали над нами. Его шапка лежала на земле, волосы у него были как сухая трава и развевались на ветру. Ему хотелось домой, ему наверняка хотелось домой. Он об этом не говорил, но ему, конечно, хотелось домой. Ведь он из другой страны. Другие страны далеко, в школе мы их ещё не проходили, но папа мне о них рассказывал. Однажды он был в Румынии и привёз маме оттуда вышитую кофточку. Румыния. Где она, эта Румыния? Есть ещё Африка, там живут негры, совсем чёрные, и солнце там светит жарко. Мне, чтобы загореть, нужно ездить на дачу, а в Африке все всегда чёрные, ещё черней, чем фрейлейн Левених, которая специально ездила на курорт в Боркум, для того чтобы весь «дамский кружок» говорил: «Вы загорели, как негр». Мама моя иногда лежит на балконе в старом раскладном кресле. Время от времени кресло падает, и она вместе с ним; после этого она вся в синяках, дрожит от страха и со слезами говорит отцу: «Ах, боже мой, Виктор! Как хорошо загорать в марте на солнышке!»
Если бы я могла хоть что-нибудь сказать этому чужому пленному! Я начала вспоминать все иностранные слова, которые знаю. Я сказала: «Сим селабим», и ещё «Сезам, отворись», и «Абдулла», и «водка», и «О ля-ля, мадемуазель», и «Свободное государство Либерия», и «Турн и Таксис» — это коллекции марок, — и больше я в тот момент ничего не могла вспомнить. Пленный посмотрел на меня и ничего не ответил. Но он приветливо кивнул мне, залпом выпил кофе, потом надел шапку и подарил мне маленькое распятие из слоновой кости.
Я снова пошла играть на бильярде, но шары катились как-то скучно. Я посмотрела в окно — пленный копал уже далеко и больше не останавливался. Мне хочется, чтобы он мог вернуться домой. Я не хочу попасть в плен и остаться в чужой стране.
Когда будет мир, пленный сможет вернуться домой, и наши солдаты тоже смогут вернуться. Все смогут вернуться. Мой солдат тоже вернётся домой. Он сейчас во Франции, и я с ним незнакома. Я как-то послала на полевую почту посылку для одинокого солдата, у которого нет родителей. Наш школьный священник давал нам адреса одиноких солдат. И солдат ответил мне. Теперь я каждую неделю пишу ему. У нас дома раз был маленький окорок. Половину мы съели, а половину мне разрешили послать моему солдату. Он мне нарисовал замечательные картинки — танки и горы, покрытые проволочными заграждениями, и поля в колючей проволоке. Я наклеила эти картинки в альбом, но жить там я бы, по правде говоря, не хотела.
Наши письма к императору получились очень длинными. Я писала на розовой бумаге, а Хенсхен Лакс — на голубой. Марок мы не наклеили, мы решили, что императору можно писать просто так, бесплатно.
Но опять всё кончилось очень плохо. Мы ждали ответа и заранее радовались. Нам даже в голову не приходило, что всё может так обернуться. Но большие начальники в Берлине перехватили наши письма и не дали их императору. Нам с Хенсхеном Лаксом это совершенно ясно. Мы всё время думаем над тем, почему они такие злые. Теперь профессора Лакса и моего папу из-за этих писем каждый день вызывают в полицейский участок. Там считают, что наши отцы о них знали. Как будто у нас, детей, не может быть своих тайн! Наши отцы окончательно возненавидели нас. У них и без того забот и огорчений хватает, а мы доставили им ещё такие ужасные неприятности, не говоря уже о бесконечной беготне. Кроме этого, письма передадут в школу для того, чтобы нас там пристыдили. Моя мама не переживёт такого позора, поэтому наши отцы должны всё замять. Мы не хотели сделать ничего плохого, мы хотели, чтобы всё было хорошо. Никто не объясняет нам, почему мы поступили плохо, все говорят только, что мы такие ужасные дети, что этого и словами не выразишь. Хенсхен Лакс стал плакать и сказал, что теперь он и сам верит в то, что он ужасный. Тогда я решила раздобыть денег, чтобы поехать к императору и рассказать ему, что его письма читают посторонние. Этого ведь нельзя делать. Я хорошо помню, как тётя Милли раз хотела прочесть письмо, написанное моей маме, и что из этого вышло. Хенсхен Лакс сейчас же перестал плакать и собрался ехать со мной к императору. Но для того чтобы достать денег, нам пришлось бороться с медведем.
На поляне перед городским парком расположился цирк Платони, он приезжает сюда каждый год и с каждым годом становится всё меньше. Мой отец говорит, что этот цирк крошечный, трогательный и жалкий. Но всё же это замечательный цирк: в нём есть считающая коза, человек-змея и медведь, который борется. Сам господин Платони клоун, он набирает в рот воды и обрызгивает другого клоуна. Я тоже умею так делать. А потом он борется с медведем и побеждает его. И зрителям, которые осмелятся бороться с медведем, обещают дать большие деньги.
Мы стояли перед цирком — Отхен Вебер, старшие швейневальдовские мальчишки, Хенсхен Лакс и я. Все молчали. Хенсхен Лакс и я стали тянуть жребий, кому идти бороться с медведем. Чтобы решить это, мы подбрасывали вверх старую пробку от пивной бутылки. Я проиграла, и все сказали: «Ты этого всё равно не сделаешь». Тогда я это сделала. Я ничего не соображала от страха, мне казалось, что я уже умерла, и всё же я это сделала. Я вбежала в цирк и пронеслась мимо всех зрителей прямо к клоуну и медведю. Я сказала, что хочу бороться с медведем, а клоун стоял рядом. Я взяла медведя за уши и стала тянуть его голову вниз. Тогда он посмотрел на меня своими грустными-прегрустными глазами и повалился на спину. Я его только чуточку толкнула, он был куда слабее меня. Потом все циркачи говорили, что медведь обессилел. Он очень давно голодает, ему не дают мяса и вообще ничего не дают. Хенсхен Лакс потребовал деньги за борьбу, но нам ничего не заплатили. Это было подло с их стороны, хотя ведь и я тоже не боролась по-настоящему. И медведь мог бы меня съесть, но он этого не сделал. Мне так жалко стало грустного медведя, что я заплакала. Хенсхена Лакса до слёз возмутила несправедливость — швейневальдовские дети смотрели на нас и не плакали. Мы стояли на поляне и промочили ноги в траве. Было уже поздно, дома нас ждал скандал. Тут к нам подошёл раненый солдат-отпускник, который был на представлении в цирке, и подарил мне одну марку.
Мы так обрадовались этой марке, что решили не связываться больше с императором, раз он сам не способен узнать всю правду. Мы решили купить для бедного медведя искусственного мёду, он наверняка его любит. А потом пойти на «Золотой угол» покачаться на качелях — всё выше и выше, до самых туч. Лучше этого нет ничего на свете!
Когда мы вернулись домой, взрослые уже всё знали про медведя. Мама обняла меня. Пришёл господин Клейнерц и сказал, что просто удивительно, чёрт возьми, как это вообще ещё на земле существуют дети и почему человечество давным-давно не вымерло, если только подумать о тех опасностях, которым мы, то есть Хенсхен Лакс и я, подвергаемся. «Господин Клейнерц, пожалуйста, не чертыхайтесь в присутствии этих ужасных детей», — сказала тётя Милли.
Отец пошёл с нами к медведю, мы хотели отнести ему искусственного мёда. Но медведь уже умер. Ему не давали мяса, — в этом виновата война. Мне хочется, чтобы был мир, мне хочется, чтобы медведь был жив. Я хочу, чтобы медведь жил.
МНЕ СТРАШНО
Если вы думаете, что у детей нет забот, то это глупо. Взрослые всегда говорят: «Ах, какая чудесная пора это беззаботное детство, как жаль, что оно никогда не возвратится!» Но у ребёнка наверняка гораздо больше забот, чем у взрослого.
Я всё время живу в страхе. Если маму из-за моего плохого поведения опять вызовут в школу, то всё кончится очень плохо. Когда я возвращаюсь к обеду домой после того, как мама побывала в школе, все сидят с надутыми, каменными лицами, молча смотрят на меня и только качают головами. У моего отца на работе расшатались нервы: сначала он барабанит рукой по столу, а потом начинает кричать, что он всю жизнь был честным и трудолюбивым, и мать моя тоже, а дочь у них лентяйка, неряха, грубиянка, никого не слушается и уже вступила на путь порока. Последний раз всё было просто ужасно, а если со мной опять что-нибудь случится, будет ещё хуже.
И вот теперь я вынуждена обратиться к богу и приносить ему жертвы из-за этой ужасной истории с классным журналом. Если всё выяснится, я пропала. Мне пришлось взять журнал и закопать его в нашем саду. Другого выхода у меня не было.
Случилось это так. Если ты плохо ведёшь себя у какой-нибудь учительницы, то она отмечает это галочкой в своей записной книжке, а если это бывает часто или ты себя очень плохо ведёшь, то она заносит замечания в классный журнал. В классном журнале отмечают и опоздания, и пропуски, и вообще всё, и лежит он в учительском столе. Если в классном журнале у тебя наберётся три замечания, учительница пишет письмо домой. Это значит, что родители должны прийти в школу и тебя будут ругать. В этом учебном году у меня набралось шесть замечаний — ни у кого из ребят не было столько, — и моей маме пришлось уже два раза ходить в школу. После этого я решила исправиться, но потом вдруг опять получила два замечания, и, если бы я получила ещё третье, домой опять послали бы письмо и моей маме снова нужно было бы идти в школу. На этот раз им пришлось бы принять самые крайние меры, а это было бы ужасно. Я ведь очень стараюсь быть послушной, но со мной всегда что-нибудь случается, я сама не знаю почему.
Сейчас я получила третье замечание, потому что я свистнула в тот момент, когда ребёнок совершал геройство. Наша классная руководительница фрейлейн Кноль заболела. У нас должен был быть немецкий, и фрейлейн Плауц заменила её. Плауц совсем маленькая и худая, а голова у неё плоская и большая и похожа на пирог со сливовым вареньем, когда Элиза забывает положить в него соду. Вообще-то она у нас преподаёт естествознание, и, так как она только замещала другую учительницу, ей захотелось порадовать нас и прочесть нам замечательный рассказ о том, как скромный мальчик стал героем. Мы любим, когда нам читают, потому что тогда нас не вызывают отвечать.
Я была счастлива, что фрейлейн Кноль заболела, так как, конечно, не успела сделать уроки. Эту Кноль очень трудно обмануть, у неё страшно зоркие глаза. Она впивается ими в лицо, а однажды даже пригрозила, что заглянет мне в душу. Как-то раз я ей сказала, что вчера вечером знала наизусть всё стихотворение, которое нам задали, но что сегодня утром по дороге в школу на меня наехал велосипедист, стукнул меня по голове и от испуга я всё забыла. Она не поверила.
Я решила, что спасена, потому что Кноль не пришла, а Плауц читает нам вслух. Сначала я тоже слушала про мальчика, который вытаскивал из-подо льда детей. Я тоже хотела бы быть героем и спасать детей, но при мне дети никогда не проваливаются под лёд, а если я их сама туда столкну, то, наверно, всё будет не в счёт.
Мне хотелось послушать, что будет дальше, но вдруг я почувствовала сильную усталость. Голос у этой Плауц был такой скучный, как осенний дождь. Глаза мои сами закрылись. Я вспомнила о Хенсхене Лаксе и о том, что мы придумали новый свист для того, чтобы объясняться друг с другом. Наш старый свист уже знают взрослые, поэтому он не годится. А новый свист я забыла, и мне захотелось его вспомнить. Я всё насвистывала про себя и вдруг свистнула громко. Фрейлейн Плауц с таким шумом захлопнула книгу, что я испугалась до смерти. Эта Плауц всегда думает, что мы, дети, хотим поднять её на смех. Она этого боится и потому всегда злая. Она записала мне замечание, выгнала меня в коридор и не разрешила дослушать рассказ. Но это было не так уж страшно. Я заперлась в уборной, чтобы меня, чего доброго, не увидела начальница, — это самое удобное место для того, чтобы всё спокойно обдумать. Никто, кроме нашей классной руководительницы фрейлейн Кноль, не проверяет, сколько в классном журнале набралось замечаний. И письма родителям пишет тоже она. Если спрятать классный журнал, то Кноль не увидит моих замечаний. Поэтому я днём тайком взяла журнал из ящика стола и закопала его в самом дальнем углу нашего сада, рядом с мёртвым дроздом. Я бы с удовольствием выкопала дрозда и посмотрела, что с ним сделалось, но не решилась.
Из-за классного журнала ужасно много шума, больше, чем когда бывает воздушная тревога или победа. Все подозревают меня. Мне велели посмотреть фрейлейн Кноль прямо в глаза — я это сделала. Мне велели дать ей руку — я это сделала. Мне велели по-честному во всём признаться — этого я не сделала.
Никто бы ничего не узнал, если бы я не рассказала обо всём Альме Кубус, ну, а теперь я ужасно волнуюсь. Леберехт, который живёт напротив нас, как-то кричал своей жене: «Бабы не умеют держать свой проклятый язык за зубами!»
Альма Кубус учится со мной в одном классе. Она бледная, послушная, и у неё тоненькие тёмные косички. Её посадили рядом со мной, потому что она хорошо себя ведёт и я не смогу подбить её на какие-нибудь шалости. До этого рядом со мной сидела моя подруга Элли Пукбаум. Тогда уроки были не такими скучными, у нас всегда было много развлечений. Мне было очень грустно, когда Элли отсадили от меня — совсем далеко, в другой ряд. Я её всё-таки вижу, но это совсем не то, что раньше, когда я каждую минуту могла шепнуть ей что-нибудь важное. Без Элли моё место стало для меня совсем чужим и не похожим на родной дом. Мы с ней знали все чернильные кляксы на нашей парте, все царапины, все вырезанные знаки и буквы и понимали их значение. Чужому этого не объяснишь. Когда я вместе со своими родителями переехала на другую квартиру, это было для меня меньшей переменой, чем то, что произошло, когда меня посадили с другой девочкой.
Рядом с Альмой Кубус я чувствую себя неважно. Сначала я пробовала разговаривать с Элли знаками, но объясняться знаками очень трудно, когда сидишь далеко друг от друга. На уроках Альма Кубус со мной не разговаривала, а уроки всегда так долго тянутся, что я еле выдерживаю. Поэтому я постаралась привыкнуть к Альме Кубус. У неё всегда застывшее, как будто восковое лицо, — ведь ей было сказано, что на неё возлагают большие надежды и что она не должна поддаваться моему пагубному влиянию. Но теперь я уже добилась того, что на уроках закона божьего она играет со мной в подкидного дурака совсем малюсенькими картами — такими, как половина спичечной коробки, — мне их когда-то подарил дядя Хальмдах. Альма всегда делает уроки, теперь она уже разрешает мне иногда списывать, но это бывает редко. Мне хочется, чтобы она меня полюбила и смеялась вместе со мною, как Элли, но от неё этого не добьёшься. Самое большее, на что она иногда способна, — это сделать то, что я потребую, хотя ей этого не хочется.
Моя мама рада, что я дружу с такой послушной девочкой, у которой самый аккуратный почерк во всём классе. Мне всегда разрешают ходить к Альме Кубус и делать с нею уроки, но я этого не люблю. Фрау Кубус всё время плачет, потому что её муж пять лет назад уехал в Америку и больше не пишет. Я тоже жалею об этом, мне очень хотелось бы получать заграничные почтовые марки. Фрау Кубус думает, что письма не приходят из-за войны. Но наша прислуга Элиза говорит, что он не пишет потому, что не хочет возвращаться: он ест там мясные консервы и кровавые бифштексы, а фрау Кубус убеждённая вегетарианка, она сама мне об этом рассказывала. Альма тоже убеждённая вегетарианка. С самого рождения они из любви к животным решили питаться только растениями. Когда я приношу ей уголь из подвала, фрау Кубус угощает меня иногда кусочком морковной котлеты. Это невкусно, но от такой еды становишься добрым и благородным. И от тёртой брюквы тоже.
Я съела уже очень много брюквы, потому что у нас никак не кончится война, и всё-таки дома никто не считает меня хорошей. Правда, Альма от моркови стала очень послушной, зато она хитрая и наверняка выболтает мои секреты своей матери, а та разнесёт их повсюду, потому что она всё время трещит без умолку — и на улице, и в магазине, и у портнихи. Когда мы с Альмой готовим уроки, она всегда заходит к нам и начинает разговаривать. Даже занятых делом детей она не может оставить в покое.
Я проговорилась Альме о классном журнале. Я не хотела этого делать, но мой язык не послушался меня. Теперь в любую минуту фрау Кубус может явиться к моим родителям или к фрейлейн Кноль. Я так несчастна!
Может быть, меня спасёт война, такие случаи бывали. За время войны у нас уже были каникулы из-за эпидемии гриппа и из-за нехватки угля. Я сама чуть не умерла от гриппа. Тогда меня все любили и даже не вспомнили о том, что я унесла из кабинета рисования чучело морского орла и положила его в тёти Миллину кровать. Грипп и грипповые каникулы спасли меня.
И вот на этот раз мне опять повезло, потому что кончилась война. Уже составили условия перемирия и разбросали везде тысячи экстренных выпусков. Взрослые взволнованы, кто счастлив, кто несчастен. Все, все солдаты возвращаются в Кёльн. Мы принесли из городского парка еловых веток, папа дал мне денег на покупку разноцветной папиросной бумаги, из неё мы делаем цветы и прикрепляем их проволокой к маленьким еловым веточкам. Мы будем раздавать их проходящим солдатам. На улицах строятся ларьки, в них будут стоять котлы с горячим супом. Фрау Мейзер и фрейлейн Левених тоже хотят разливать суп. Фрейлейн Левених говорит, что ей хочется плакать из-за того, что мы проиграли войну. Но если уж началась война, то должен ведь кто-то в конце концов проиграть, — самое главное, что теперь всё кончилось, никого больше не убивают и всё переменится к лучшему. Господин Клейнерц тоже так думает. Через наш город проедут кавалеристы, может быть, какой-нибудь солдат покатает меня верхом.
Альма рассказала о классном журнале своей матери, и та решила поговорить с моей мамой. Я открыла ей дверь и быстро сообщила, что мама на время уехала, а отец и тётя Милли отправились в Вестеровский лес охотиться на оленей для жаркого. Я сказала ей это потому, что фрау Кубус всегда избегает людей, которые едят жаркое. Но я всё-таки очень испугалась и подумала, что всё кончено, и поэтому достала свою ночную рубашку и серебряную цепочку с серебряной розой. Я решила подарить её фрау Швейневальд и попросить, чтобы она приютила меня на некоторое время, ведь у Швейневальдов детей без счёта, так что один лишний ребёнок у них не бросится в глаза. Они живут почти что за городом. Сам Швейневальд ночной сторож и обычно днём спит или работает на своём маленьком огороде, в который он вкладывает всю душу. Я хотела написать маме записку, что, может быть, потом, когда я заработаю много денег, я вернусь домой и что я всегда буду любить её. Я бы ни за что не осталась дома, если бы раскрылась эта история с классным журналом. Родители, может быть, отдали бы меня в исправительный дом для трудновоспитуемых детей, — я вовсе не хотела дожидаться такой напасти.
Но как раз в это время наступил мир с экстренными выпусками; сначала его не хотели принимать. Я не знаю почему, но сейчас всё время происходят события, которые волнуют всех взрослых. И им некогда думать о детях. Фрау Кубус запретила Альме водиться со мной.
У меня теперь много других забот. В школу нам ходить не надо, потому что сейчас очень тревожное и опасное время. За эти дни о классном журнале все позабудут, и он травой порастёт. Фрау Кубус тоже больше о нём не вспоминает. Она надеется, что теперь, когда война кончилась, её муж, который сейчас питается кровавой говядиной, напишет из Америки и опять полюбит её и захочет вернуться к ней, чтобы она могла сделать из него благородного человека. Но я не думаю, что он этого захочет. Зачем ему хитрая, болтливая фрау Кубус с её морковными котлетами, когда у него там есть настоящие бифштексы?
БЛАГОРОДНЫЕ ГОСПОДА И ЛОШАДИНЫЙ НАВОЗ
Из-за лошадиного навоза Летте Миттерданк не разрешают водиться со мной, а я чуть не разорила своего отца. Папе приходится заниматься торговыми делами, он ведь коммерсант. Господин Миттерданк очень богатый. Мы тоже богатые, только не очень.
Миттерданки приехали в Кёльн специально из-за нашей фабрики. Они вложили в неё свои деньги.
Тётя Милли говорит, что мой отец от забот не смыкает глаз по ночам. Но она не может знать этого, потому что не видит его ночью. Правда, мама говорит то же самое, и она просит меня прилично вести себя, когда к нам приедут Миттерданки. У моего папы лицо иногда совсем серое, а глаза — словно их покрыли паутиной пауки-крестовики. Я склеила ему из самой лучшей глянцевой бумаги огненно-красный бумажник и нарисовала на нём маленьких свинок. Они должны принести папе счастье, чтобы он снова стал весёлым и довольным. Но он начнёт им пользоваться только тогда, когда у нас будет больше денег.
Когда мы сидим за столом и раздаётся звонок, все вздрагивают — это значит, что пришёл господин Хорншу. У него лысая, похожая на яйцо голова и много длинных жёлтых бумажек. Он очень вежливый, всё время пожимает плечами и выражает своё сожаление, а потом наклеивает эти бумажки на нашу мебель. Элиза говорит, что ей всё это знакомо, что в наши дни это не позор и что виной всему большие налоги. Элиза знает обо всём от своего полицейского.
Может быть, потом заберут нашу мебель, всё, кроме кроватей. Я буду рада, если унесут большой буфет, — тогда можно будет запускать в комнате волчок. А если у нас заберут пианино, мне больше не нужно будет разучивать идиотские этюды, которые я ненавижу.
Людей не забирают, только мебель, а это не так уж страшно. Мама тоже говорила тёте Милли, что для неё это неважно, она может жить и в более скромных условиях, — самое главное, чтобы все были здоровы и никогда не расставались.
Тётя Милли заявила, что она больше не выйдет на улицу, потому что люди уже показывают на неё пальцами. Но это неправда. Только Отхен Вебер иногда показывает ей длинный нос, я плачу ему за это по три пфеннига. Но так как теперь мы должны экономить, он стал делать это бесплатно.
Я уже придумала, как мы станем жить, когда у нас не будет ни стола, ни стульев. Я разожгу тогда в саду костёр, и мы все усядемся вокруг него на землю; мама может подложить себе подушку. Мы закурим трубку мира и будем есть молча, как благородные могикане. Так как я знаю всё лучше всех, я буду начальником, если папа разрешит. Всё будет просто замечательно, и Хенсхен Лакс говорит, что он мне прямо-таки завидует.
Но теперь приехали Миттерданки, и нашу мебель, может быть, не заберут. Дома все ужасно волновались и непрерывно говорили о Миттерданках. Они хотят построить дом у нас в предместье, около городского парка, там, где стоит старая помещичья усадьба и начинаются поля. Там же находятся и старые укрепления, но входить в них строго воспрещается, потому что это опасно для жизни. Я вместе с Хенсхеном Лаксом и Отхеном Вебером однажды поймала в этих укреплениях маленькую сову. Она долбила мне клювом палец до тех пор, пока не показалась кровь. Господин Клейнерц, наш сосед, подарил её зоологическому саду, а мне купил большой кулёк подушечек с ореховой начинкой. Но лучше бы мне оставили сову. Я откормила бы её до огромных размеров, а ночью, когда у сов горят глаза, пустила бы её в комнату к тёте Милли. Тогда тётя подумала бы, что к ней в кровать летит чёрт, и уехала бы от нас.
Теперь Миттерданки будут строить дом рядом с укреплениями. За день до приезда Миттерданков тётя Милли и мама ездили со мной в город и купили мне в магазине у Петерса вышитое голубое платье, белые ботинки и белую батистовую шляпу, хотя обычно они говорят, что для меня и самого плохого платья жалко, так как я всё равно разорву его.
Почти все дети в моём классе одеты намного лучше меня, но мне это безразлично. Больше всего я люблю свою матросскую блузу с резинкой на животе, потому что в неё я могу сунуть всё, что мне попадётся под руку: яблоки, банки, книги и вообще всё. Иногда я становлюсь такой пузатой, как автобус.
Тётя Милли щёткой пригладила мне волосы и одела меня, а мама похлопала по щекам, чтобы я порозовела и чтобы у меня был цветущий вид. Потом мы на машине поехали в гостиницу, потому что Миттерданки пригласили нас на обед. Какой-то человек, похожий на капитана, прокрутил нас через дверь. Дверь эта вертелась, как волчок. Всюду, как во дворце, были разостланы длинные красные ковры. Я видела немало дворцов. Летом, во время каникул, мы осматривали некоторые из них. Но эта гостиница — и дворец и ресторан в одно и то же время. Я и рестораны знаю, потому что иногда по воскресеньям моей маме не хочется готовить обед; но мы ходим в обыкновенные рестораны, а это к тому же ещё и дворец.
Мама вела меня за руку. Все стены в гостинице были похожи на пресс-папье; у моего отца тоже есть такое, мраморное. На маме была надета красивая розовая шёлковая кофточка, которую папа подарил ей в день рождения. Мама тогда сказала: «Виктор, ты меня балуешь, как принцессу». У матери Траутхен нет такой красивой кофточки, но моя мама ведь гораздо красивее, чем фрау Мейзер.
Мы шли по коврам всё дальше и дальше, и, хотя это была не улица, в стенах были устроены настоящие витрины с серебряными туфлями, золотыми цепочками и бриллиантовыми брошками. Отец был спокоен, он не разговаривал с нами и казался длинным, бледным и чёрным. Я боялась называть его папой. Он был почти таким же строгим и важным, как официант из ресторана «Гильдехоф», когда тот приносит маме и тёте Милли омлет с грибами и при этом говорит «позвольте». Я так волновалась, что мама на всякий случай ещё раз сводила меня в уборную. Там лежали коробочки и серебряные гребёнки и повсюду стояли зеркала, а пол был такой, что на нём можно было кататься, но на это у меня не хватило времени.
Потом мы сидели за столом. Всё вокруг казалось мягким — стены, свет, ковры, шаги официантов и посетителей. Толстобрюхие мужчины покоились в креслах и ни на кого не обращали внимания. Было очень тихо. Выделялась только наша блестящая белая скатерть да раздавался стук тарелок и шуршали салфетки, в которые официанты заворачивали бутылки с вином.
«Позвольте мне составить меню», — сказал господин Миттерданк моей маме и тёте Милли, и они позволили. Мне пришлось несколько раз сделать реверанс. Меня посадили рядом с дочкой Миттерданков. Её зовут Леттой, и она переходит в третий класс, а я уже учусь в третьем классе. У этой девочки бледное лицо с огромным подбородком, и одета она в клетчатое шёлковое платье. Взрослые сказали, чтобы мы подружились, но это было невозможно, потому что Летта всё время молчала. Я уже решила, что она немая, но вдруг она сказала своей матери: «Ма-а-ма, я хочу сыра бри, сыра бриии».
Потом взрослым подали какое-то блюдо. Я даже не поверила своим глазам — это были улитки. Настоящие улитки в своих собственных домиках. Не те хорошенькие улитки с блестящими, похожими на завиток ракушками, которые ползают по иве у нас в саду, а большие, светло-коричневые, — я их видела на Рейне, там они висят на виноградных лозах. И тут произошло что-то ужасное. Круглый, как шар, господин Миттерданк взял своими розовыми, похожими на подушки пальцами, серебряную вилочку и стал ею вытаскивать улиток из их домиков. Фрау Миттерданк сделала то же самое и мой отец тоже. Тётя Милли и мама посмотрели, как они это делают, и начали подражать им.
Но этого же нельзя делать, это же недопустимо! Мы с мамой и наступать боялись на маленькие улиткины домики.
Мама всегда говорила, что к таким нежным и пугливым зверькам нужно относиться очень бережно. Когда мы вместе с ней сидели в саду, мне разрешалось иногда поставить улиткин домик на зелёный, только что сорванный лист, и мы обе принимались петь, чтобы выманить улитку из домика:
Улиточка, выходи,
Свои рожки протяни,
Покажи их поскорей,
И порадуй нас, детей.
Петь надо было очень тихо и без конца повторять песенку. Тогда улитка выходила из домика и доверчиво ползла по листку. Трогать её ни в коем случае нельзя было. А здесь в ресторане улиток выковыривали из домиков!
«А если бы с вами так сделали!» — крикнула я господину Миттерданку и чуть не заплакала. Но никто не обратил на меня внимания, все продолжали класть улиток в рот и глотать их, и мама тоже. Тогда я стала ещё громче кричать, чтобы она спела улиткам песенку и, после того как они выползут, оставила бы их в живых.
Но взрослые ведь такие хитрые и гадкие. Они всегда говорят детям и животным: «Пойди сюда, пойди, пойди — я тебе ничего плохого не сделаю», — а если ты по глупости подойдёшь, они тебе обязательно что-нибудь сделают.
Когда я запела улиткину песенку, мама как раз взяла в рот первую улитку; она сразу побагровела, поднесла платок ко рту и бросилась в уборную. Но если она и выплюнет улитку в уборную, ожить такое животное всё равно уже не сможет.
Все смотрели на меня с ненавистью, в особенности отец. По его лицу было видно, что он с удовольствием ударил бы меня или заорал, поэтому мне захотелось уйти. Кроме того, я собиралась поставить мировой рекорд по сбору навоза для швейневальдовского огорода. Мы уже обо всём договорились. Швейневальд — ночной сторож; днём он либо спит, либо пьёт пиво в своей беседке, и тогда он в хорошем настроении. Хенсхен Лакс, Отхен Вебер и я часто ходим с швейневальдовскими детьми к нему на огород, иногда он нам даёт выпить глоток пива. Оно не такое вкусное, как вода с малиновым сиропом, но зато мы пьём прямо из бутылки, как рабочие, которые строят дома и дороги.
К Швейневальду как-то пристала собака со злющими глазами. Она похожа на чёрный взъерошенный ком, лает как сумасшедшая и кусается. Все её боятся. Господин Швейневальд окрестил её Марией: так зовут его жену, которую он хотел позлить, потому что никогда не может переспорить её. Все боятся этой собаки, но своего хозяина она не кусает, только чужих. Каждому из нас хотелось стать хозяином собаки. Уж я-то знаю, кого бы она у меня кусала. Господин Швейневальд сказал, что это животное редкого темперамента и что тот, кто поставит рекорд по сбору навоза, получит в награду пылкую и кусачую Марию. Мы и раньше часто собирали на улицах лошадиный навоз для удобрения швейневальдовского огорода. А теперь каждому из нас дадут большое ведро, и тот, кто три раза наполнит его доверху, получит приз.
В три часа дня мы должны были стартовать в швейневальдовском огороде, поэтому я не могла дольше оставаться в ресторане. Я во что бы то ни стало должна была уйти, чтобы занять первое место и получить приз — пылкую Марию. К тому же мне не хотелось больше оставаться со взрослыми, которые едят улиток. Господин Миттерданк съел двенадцать штук и фрау Миттерданк столько же. Они настоящие свиньи. Хенсхен Лакс не зря говорит, что детям нужно дать право запрещать своим родителям дружить с подобными людьми. Ведь родители запрещают нам водиться с плохими детьми, а сами заводят, честное слово, куда худшие знакомства. Мы играем только с теми детьми, которые не ябедничают, а ябед мы колотим, если они хотят примазаться к нам.
Всё дело в том, что взрослым всегда нужно ужасно много денег. Ребёнку, правда, иногда тоже нужны деньги — на качели, на карусели и конфеты, — но нам почти никогда их не дают, и всё же мы играем и получаем удовольствие от игр. Если же взрослым надо хоть чуточку повеселиться, то это обязательно стоит много денег. Если они вечером выпьют вина и покурят, то это обходится им очень дорого; для того чтобы пригласить гостей на чашку кофе, нужно затратить немало денег, а за прогулки и рестораны тоже приходится много платить.
Жена профессора Лакса недавно сказала моей маме: «Мы теперь ничего не можем себе позволить, даже самых маленьких удовольствий, — всё это для нас слишком дорого». Вот из-за денег им и приходится всё время заводить знакомства со скучными людьми. Хенсхен Лакс говорит, что иногда ему просто жалко становится взрослых. Может быть, и мы потом станем такими?
Я вовсе не хочу, чтобы эта фрау Миттерданк стала подругой моей мамы, потому что она всё равно не любит маму и вообще никого не любит. Она очень худая, волосы у неё рыжие, как у лисы, лицо острое, а нос огромный, совсем как ручка у рубанка. У неё тонкие накрашенные губы и бесцветные глаза, слишком маленькие и слишком безжизненные, чтобы замечать людей.
Несмотря на то что Миттерданки кормили нас обедом в гостинице, они нас наверняка не любят. Мама и тётя Милли всё время обращались к фрау Миттерданк и рассказывали ей о спектаклях, которые пойдут в Кёльне, и об очень удобной стиральной машине, и о том, что все мужчины похожи друг на друга, и что Леттхен сможет ходить вместе со мной в школу, а летом играть со мной в нашем саду, тогда она наверное порозовеет и загорит. Фрау Миттерданк едва шевелила губами и устало смотрела по сторонам. Господин Миттерданк говорил с моим отцом каким-то хриплым и тусклым голосом.
Тут я заявила, что мне нужно идти на урок рукоделия. Все были рады избавиться от меня.
Прежде всего я сбегала к фонтану гномов. Я очень люблю его. Когда я смотрю на этот фонтан, я вспоминаю сказку: «Жил-был портной, у него была любопытная жена». Эта глупая женщина всё напортила и спугнула гномов. После того как гномы тайком сделали всю работу за портного, она насыпала на землю горох, гномы поскользнулись, упали, и с тех пор никто никогда их больше не видел. Эта женщина напоминает мне фрау Миттерданк. Я часто мечтаю о том, чтобы ночью пришли гномы и сделали за меня все уроки и задание по рукоделию. Я ненавижу рукоделие. К рождеству я должна вышивать салфетки для всей семьи, чтобы доказать свою любовь, но я никогда ничего не успеваю, и все на меня немножко обижаются. Лучше я прочла бы им наизусть двадцать стихотворений или собрала коллекцию разных животных и тайком, подвергаясь опасности, принесла из городского парка еловые ветки и даже целые рождественские ёлки.
А вот покупать цветные нитки для вышивания я люблю. Они такие шелковистые и яркие, что от них становится весело. Но стоит мне начать вышивать, хорошее настроение сразу же исчезает.
Я влезла в трамвай, который идёт к нам на окраину, и уселась с таким видом, как будто бы уже заплатила и у меня давным-давно есть билет. Кондуктор ничего не заметил, а деньги, сбережённые на билете, мне очень пригодятся.
Я ехала по узким и серым городским улицам, мимо витрин с пёстрыми платьями и блузками. Бедной моей маме в праздничные дни всегда дарят платья и никогда не дарят игрушек. Они ей больше не нужны. Мне иногда кажется, что у взрослых нет никаких радостей в жизни. Когда я буду взрослой, я тоже не буду радоваться игрушкам, и мне не захочется ни роликов, ни волчков, ни обручей, ни кукол и вообще ничего. Как же я тогда буду жить, если ничего меня не будет радовать? Иногда мне хочется плакать из-за того, что я стану взрослой, а иногда мне хочется как можно скорее вырасти. Но когда я подумаю, что тогда я буду получать на рождество одни только полезные подарки, вроде платьев, носовых платков и туалетного мыла, мне становится совсем грустно.
Кондуктор даёт звонок, чтобы отправить вагон. Я смотрю в окно. Скоро пасха: в магазинах выставлены крашеные яйца, маленькие зайчата и большие зайцы с шёлковыми бантами. У меня дома тринадцать кукол всех размеров и девятнадцать тряпичных зверей. Я их всех сохраню и буду любить всю жизнь.
В трамвай входят англичане — у нас ведь стоят оккупационные войска. У англичан есть апельсины и консервы. Все они говорят по-английски, как будто это им ничего не стоит. Мы, дети, тоже уже знаем английский язык. Я даже знаю три запрещённых ругательства и две песни.
От англичан пахнет военной формой, сигаретами и лошадьми. В толпе я сейчас же по запаху узнаю англичанина, мне даже не надо смотреть в его сторону. Англичане больше не враги, у нас ведь теперь мир, и масло, и мясо, и пасхальные яйца из марципана, и зайцы из шоколада. Шоколадных зайцев жалеть не надо, иначе только запачкаешься и наживёшь неприятности. В прошлое воскресенье дядя Хальмдах подарил мне шоколадного зайца. Он был такой хорошенький, совсем как живой зверёк с весело поднятыми ушками. Мне жалко было откусывать ему голову, или ноги, или даже хвост, потому что это был добрый маленький зверёк. Я всё время носила его с собой и потом стала похожа на поросёнка, так как весь шоколад растаял. Я облизала руки и свою матросскую блузу, но мне было совсем не вкусно. Я думала о скандале, который меня ожидает, и о растаявшем пасхальном зайце. Надо было сразу же откусить ему голову, раз он другого обращения не переносит. Мне куда больше нравится шоколад в форме плиток или яиц. Шоколад вовсе не должен быть тем, что я люблю. Шоколад должен быть чем-то таким, что мне хочется съесть, и только. Взрослые едят улиток, они всё едят, а детям рассказывают, что улиткам надо петь песни, а зайцев надо любить. Лучше бы они ели злых толстых мужчин, которых никто терпеть не может и в которых нет ничего приятного. Ведь в них гораздо больше мяса.
Верить вообще никому нельзя. Наша учительница после перемирия сказала, что мы должны бояться англичан и не замечать их. Она сказала, что мы не должны ронять своё достоинство и поэтому нам нельзя больше играть на улице. Она, наверно, думала, что враг будет красть и расстреливать нас. Конечно, всё это была ложь. Ни один англичанин не заинтересован в том, чтобы красть детей: у них своих хватает.
К нам в квартиру вселили одного шотландца. Его зовут Мак и ещё как-то. Я с ним очень дружу. Он ещё не совсем старый, но всё-таки ему уже двадцать лет. У него есть маленькая сестра в Олдхаме, это очень далеко отсюда. Он тоже не любит взрослых и подарил мне сто крошечных шотландских гербов из шёлка, их дают в придачу к сигаретам. Я сошью себе из них ковёр.
Когда Мак поселился у нас, я сначала боялась его — ведь нам запрещено разговаривать с чужими солдатами, и я твёрдо решила никогда этого не делать. Но один раз, когда он ушёл на перекличку, я заглянула в его комнату. Весь пол там был завален апельсинами и банками с каким-то порошком. А в углу они лежали огромной кучей. Мой папа когда-то рвал апельсины прямо с дерева, — это правда, но я не могу себе этого представить.
Нам нельзя принимать подарки от англичан, поэтому я сама взяла себе три апельсина и одну банку с порошком. Я не знала, что это такое. Хенсхен Лакс считал, что из порошка можно сделать пудинг, но точно он тоже не знал. Мы занялись приготовлением пудинга на кухне у Хенсхена, когда никого не было дома. Но мы только покрылись липкой массой, как панцирем, и вся кухня тоже стала липкой. Хенсхен решил сказать своей матери, что с потолка, наверно, отвалилась штукатурка. Это ведь вполне возможно. Мать Хенсхена всё равно всему поверит, так как говорит, что Хенсхен — её сын, а её сын не способен лгать. Хенсхену очень повезло с матерью, он сам это говорит. Мои родители в этом отношении совсем другие и никогда мне не верят. Меньше всего они верят мне тогда, когда я говорю правду. Правда бывает иногда такой необычной и странной, что я начинаю заикаться и путаться и забываю в конце концов, как всё было на самом деле. А тут ещё взрослые смотрят на меня строгими сверлящими глазами, поэтому я иногда просто говорю: «Да, я это сделала», только для того, чтобы они перестали смотреть своими колючими глазами и допрашивать меня, и ещё потому, что в этот момент я сама уже не знаю — сделала я то, в чём меня обвиняют, или нет.
Как-то раз я отнесла весь бисер из своего игрушечного магазина в парк, потому что мне хотелось положить его в птичьи гнёзда, но я не нашла птичьих гнёзд и рассыпала бисер по листьям. Мне казалось, что такие маленькие красные, серебряные и разноцветные бусинки очень понравятся маленьким птичкам. Об этом я никому не рассказала, мне было стыдно, сама не знаю почему. Когда родители спросили меня, где бисер, я ответила, что рассыпала его в траве в городском парке. Сначала меня допрашивала мама, она хотела заставить меня сознаться, что я его съела, но я продолжала говорить правду. Для того чтобы я наконец призналась, со мной потом серьёзно поговорил отец. Тогда я вообще перестала отвечать. После этого они допрашивали меня вместе, и тут я заплакала и сказала, что съела бисер. Они заявили, что всегда сумеют узнать правду, а ведь на самом деле я им соврала. Когда я по-настоящему вру, мне куда скорее верят, потому что я тогда придумываю всё заранее и лучше рассказываю. А почему, собственно говоря, нельзя врать? Один раз я об этом спросила, но больше никогда этого не сделаю, потому что все пришли в ужас. «Потому что это нехорошо», — ответили мне. Да, но почему это нехорошо? Почему нельзя врать? Взрослые на такие вопросы не отвечают, а сами врут.
Мы с Хенсхеном Лаксом решили сделать в нашей пещере бетонный пол, поэтому я взяла ещё три банки цементного порошка для пудингов. После этого я целую ночь не могла заснуть — я боялась, что за кражу военного продовольствия меня будет судить военный трибунал. За это меня наверняка расстреляли бы.
Но на другой день пришёл Мак, я с ним поговорила, и он разрешил мне есть сколько угодно апельсинов, хотя они, по правде говоря, не все ему принадлежат. Если бы я захотела, я могла бы съесть хоть миллион апельсинов; за это я стала учительницей и должна давать Маку уроки немецкого языка. У меня теперь никогда нет времени делать свои уроки — ведь я сама должна преподавать. Мак уже выучил наизусть первую строфу немецкой песни «У ёлочки, у ёлочки зелёные иголочки». Но настоящего смысла он ещё не понимает и думает, что так зовут нашу Элизу. Теперь я заставлю его выучить наизусть стихотворение «Господин Генрих сидит на току, на току...» Что такое ток, я не знаю. Те, кого я спрашивала, тоже не могли мне объяснить. Господин Генрих — это король. Об этом говорится в самом конце стихотворения. Совсем не обязательно всё понимать, надо просто учить наизусть.
Апельсины я ела с утра до вечера, даже в кровать брала по нескольку штук. В конце концов у меня испортился желудок. Я не могла ничего больше есть из-за этих апельсинов. У меня есть цветная открытка, которую я получила от своего отца. Он прислал мне её из Америки, я тогда ещё не умела читать. На этой открытке паровоз едет мимо апельсиновых деревьев. Когда я вырасту, я туда поеду и возьму с собой маму. Я стану на подножку и на полном ходу буду рвать для мамы апельсины. Мама будет плакать, потому что очень опасно стоять на подножке поезда, летящего, как стрела, а отец будет восхищаться мной и побоится крикнуть: «А ну-ка, марш оттуда!», чтобы я не свалилась от испуга. Но, может быть, я стану лунатиком — это тоже что-то очень интересное.
Все апельсины похожи на маленькие луны. В школе мы всегда поём: «Милая луна, ты так тихо плывёшь...» Много маленьких лун уплыло в мой живот. Но тётя Милли сказала, что желудок у меня испортился потому, что я по вечерам тайком читаю в кровати.
Обо всём этом я думала, пока ехала в трамвае от гостиницы к Швейневальдам, для того чтобы побить рекорд и получить пылкую Марию. Я успела как раз вовремя.
Я отдала господину Швейневальду на хранение свою батистовую шляпу. Фрау Швейневальд наскоро повязала мне свой фартук; он был такой длинный, что я три раза упала.
Надо знать места, где есть лошадиный навоз. Теперь лошадей осталось немного, везде автомашины, а от них навоза не получишь. Прежде всего я помчалась к старому имению, Хенсхен Лакс — за мной. Потом Хенсхен Лакс побежал к пивоварне, а я за ним. Мы подкрадывались сзади к лошадям и терпеливо ждали. Вот почему мы дважды оказались победителями и набрали полные вёдра раньше, чем Отхен Вебер и швейневальдовский Алоис. Но было ещё неизвестно, кто из нас займёт первое место — я или Хенсхен Лакс, и поэтому мы опять помчались за навозом. Мы состязались друг с другом за пылкую Марию, а когда борешься, забываешь о любви и дружбе. Я побежала к старому имению; меня разозлило, что Хенсхен Лакс опять побежал за мной — он мог бы найти для себя какое-нибудь другое место. Один мой хороший знакомый — рабочий из старого имения — обещал приготовить для меня по секрету целую кучу лошадиного навоза около ворот. Он так и сделал, и я первая увидела эту кучу. Но Хенсхен Лакс крикнул, что он увидел её первым, и мы оба как сумасшедшие набросились на неё. Потом нам сказали, что мы рылись в лошадином навозе, как свиньи. Это была ложь. Около самой кучи Хенсхен Лакс и я с разбегу налетели друг на друга и упали в навоз. Мы тут же вскочили и вдруг услышали отвратительный крик: перед нами стояла тётя Милли, а рядом с нею мои родители, сонная девочка Летта и Миттерданки. Они хотели осмотреть участок, на котором собираются строить дом; здесь-то они нас и увидели.
Конечно, невозможно быть гладко причёсанной, аккуратной и чистой, когда борешься за первенство. Моему отцу больше всего хотелось сделать вид, что я вовсе не его дочь и что он вообще со мной незнаком. Но ведь Миттерданки познакомились со мной ещё во время обеда. Фрау Миттерданк воскликнула: «Какой ужас!» — и запретила Летте подходить ко мне, словно я плюющаяся лама из зоологического сада. Тут мой отец начал кричать и требовать, чтобы я немедленно всё объяснила. Я ничего не сказала — ведь тому, кто злится, ничего не объяснишь: любое объяснение ещё больше раздражает его. Хенсхен Лакс стоял около меня и в утешение наступал мне на ногу. Вдруг я услышала за спиной подозрительный шорох. Я повернулась и увидела, что швейневальдовский Алоис подло перекладывает навоз из наших вёдер в своё ведро. Тут уж я не смогла удержаться. Швейневальдовский Алоис убежал, терять мне больше было нечего, и я бросилась вслед за ним, а Хенсхен Лакс за мной.
Если бы не этот идиотский скандал со взрослыми, я бы непременно победила. А так всё получилось не совсем справедливо. Пылкая Мария досталась Хенсхену Лаксу. Но ему пришлось сейчас же вернуть её обратно, потому что она укусила в руку его отца, когда тот хотел выпороть Хенсхена. Какое замечательное животное!
Вечером нам пришлось пережить немало волнений. К нам пришёл Хенсхен и с ним профессор Лакс. Рука у него была забинтована, потому что его укусила собака, и вид у него был очень серьёзный. Господин Клейнерц тоже был у нас. Настроение у моего папы немножко улучшилось, потому что господин Миттерданк, слава богу, не обратил на меня внимания, внимание обратила только его жена. Может быть, когда-нибудь удастся сделать так, чтобы собака укусила её.
Профессору Лаксу нужно было подкрепиться, и ему приготовили пунш. Мама сказала, что господин Швейневальд очень хитрый мужик и умеет заставить детей работать на себя. И обидно, что для чужих я из кожи вон лезу, а вот в нашем саду мне работать лень. Но вообще она считает, что в этой истории со сбором удобрения нет ничего ужасного и что в наше время незачем делать из ребёнка изнеженное существо. Господин Клейнерц сказал, что ему тоже обидно, что я никогда не забочусь о его саде. Папа вздохнул и заявил, что он лично не видит во мне ни малейших признаков утончённости, но что вести себя как одичавший и безнадзорный ребёнок маркитантки времён тридцатилетней войны в наше время тоже недопустимо. Какая, наверно, чудесная жизнь была у этих детей! Мне бы хотелось побольше узнать о них. Но папа добавил только, чтобы я, чего доброго, не вздумала привести домой эту бездомную швейневальдовскую дворнягу. «Не пёс, а дьявол», — сказал профессор Лакс, и все посмотрели на Хенсхена и на меня. Вообще-то мы не любим, когда на нас смотрят, но теперь мы были рады, что дело этим ограничилось. Мы пообещали стать послушными и более пристойно вести себя и дали возможность профессору Лаксу оказывать на нас воспитательное воздействие.
Он ведь почти никогда не порет детей, а только проводит воспитательную работу. Он читает нам газеты, а это наверняка лучше и полезнее, чем любое другое наказание.
Профессор Лакс стал читать нам из уголовной хроники о том, что полиция напала на след вора, который лазит в окна, и скоро его должны поймать. Этот вор-верхолаз ещё в детстве был безобразником, а потом совсем сбился с пути и стал преступником и негодяем. Теперь он с риском для жизни лазит по крышам. Для него нет слишком высокого дома, слишком скользкой и отвесной стены. Профессор Лакс читал громовым голосом, в котором слышалось суровое предостережение, и всё время посматривал на нас. Все остальные тоже смотрели на нас и поддакивали ему. Мы тоже стали поддакивать. Тогда взрослые с облегчением вздохнули и принялись за пунш.
Недалеко от парка мы — Хенсхен Лакс, Отхен Вебер и я — обнаружили пустой дом. Теперь мы там каждый день играем в воров-верхолазов. Это замечательно, у нас давно не было такой интересной игры! Недавно Отхен Вебер и я лазили по водосточной трубе и добрались почти до третьего этажа, а Хенсхен Лакс вчера упал из окна второго этажа и сдуру порвал себе штаны.
Пылкая Мария живёт у меня, но этого пока никто не знает. Я устроила ей постель на чердаке и каждый день ношу ей объедки и кости из гостиницы Брауэра. Я могу получать их там сколько угодно. После обеда, когда дома у нас все спят, я спускаюсь с Марией вниз, и мы бежим на стадион. Она слушается меня с первого слова, но дома уже услыхали собачий лай и не могут понять, в чём дело.
Я не хочу жить без пылкой Марии, и у меня есть план, как добиться того, чтобы мне её оставили. В ближайшие дни Хенсхен Лакс, Отхен Вебер и я поднимемся вечером по водосточной трубе до наших окон и начнём там подозрительно шуметь, чтобы нас приняли за воров-верхолазов. А после этого я преспокойно приду домой и прочитаю статью из газеты о том, что только злая сторожевая собака может защитить человека. Тётя Милли и мама сейчас же согласятся с этим и убедят отца. Тогда я приведу пылкую Марию, которая должна стать спасительницей нашей семьи, и скажу, что я уже выдрессировала её у Швейневальдов. Я и правда дрессирую её для того, чтобы использовать в экстренных случаях. Скоро я возьму её в школу, пойду с ней к директрисе и спрошу, буду ли я переведена в следующий класс. Директриса ответит, что я, к сожалению, недостаточно серьёзна, что моё поведение ужасно и прилежание тоже, и что...
Тут я незаметно подтолкну пылкую Марию, она разозлится, ощетинится, зарычит и заскрежещет зубами. «Дорогая моя, милая, прилежная девочка, — воскликнет директриса, — не беспокойся, ты хорошая ученица и, конечно, будешь переведена».
Мне давно хотелось иметь для таких случаев королевского тигра или льва, но пылкая Мария умеет рычать ещё более свирепо и страшно, чем лев, да и выглядит она куда злее и опаснее.
Я ГОВОРЮ ПРАВДУ
Пусть они убираются отсюда. Я хочу, чтобы тётя Бетти и кузина Лина уехали. Наша Элиза тоже говорит, что терпеть этих ауэрбаховцев нет больше сил. Когда подумаешь о том, что в Ауэрбахе живут только такие люди, то понимаешь, как хорошо жить где-нибудь в другом месте.
Тётя Милли — сестра моей мамы, но намного старше её. Она живёт у нас и добилась того, что тётю Бетти и кузину Лину пригласили к нам из Ауэрбаха. Из-за них у меня испорчены весенние каникулы. Все говорят, что моя кузина Лина образцовый ребёнок и должна служить мне примером. Она живёт со мной в одной комнате, ей уже тринадцать лет, и она похожа на жирафу из нашего зоопарка —такая же длинная и худая, с карими навыкате глазами и всегда насторожёнными ушами. Только вот красивой пятнистой шкуры у неё нет. По вине тёти Милли эта жирафа отравляет мне теперь жизнь. Она всё время вышивает для своей матери подушки, и я тоже должна вышивать подушки, потому что иначе меня назовут бессердечной. Все говорят, что я должна наконец получить подобающее девушке воспитание.
Когда мы сидим за обедом, жирафа крутит руками, как пробочником, то в одну, то в другую сторону, а сама смотрит на меня и громко и испуганно говорит: «Боже мой! Я не могу есть, когда вижу твои грязные пальцы». А что делать, если у меня руки всегда сами пачкаются? Мытьё мне не помогает. Потом жирафа впивается взором в мою тарелку, а я жую и боюсь проглотить вместе с едой её глаза, потому что она так таращит их, что они в любую минуту могут вывалиться и упасть ко мне в тарелку.
Я ненавижу её за то, что она всё время следит за мной. Я не переношу жирного мяса и кожу от куриц, в которой много маленьких трубочек, и не ем блестящей селёдочной кожицы. Меня начинает тошнить, когда я беру её в рот. Взрослые говорят, что я должна себя побороть, что грешно переводить добро, когда бедные дети были бы счастливы, если бы им дали такую вкусную еду, и что обязательно надо доедать всё подчистую и ничего не оставлять на тарелке. А ведь они кладут мне на тарелку то, что я совсем не люблю. Никогда мой отец не съел бы всего, если бы ему положили, например, на тарелку целую гору моркови, — он бы просто разозлился, у него отвращение к моркови, поэтому ему одному даются капустные котлеты, в то время как все остальные едят морковку. А у меня отвращение к жиру, я всегда незаметно его отрезаю, и в конце обеда прячу под вилку с ножом. До последнего времени этого ещё никто не заметил.
И вот приезжает эта жирафа, впивается глазами в мою тарелку и спрашивает: «Зачем ты прячешь под свой прибор такой чудесный жир?», а тётя Бетти говорит моей маме со вздохом: «Какая у тебя избалованная дочка, моя дорогая! Я вдова и не могу так баловать своих детей. Мы не можем позволить себе выбрасывать жир». Все смотрят на меня и ждут, чтобы я съела жир. Я честно пыталась это сделать, но меня чуть не затошнило, и из глаз закапали слёзы.
Тогда жирафа говорит: «Ну, а теперь будь умницей и доешь всё до конца». Тут я схватила всё, что оставалось на тарелке, бросила через весь стол ей прямо в лицо, и крикнула, что я вовсе не хочу, чтобы хороший жир пропадал даром, я просто не желаю его есть… И что я не съела бы его, даже если бы была бедным голодным ребёнком.
И ещё я кричала, что тётя Бетти по-настоящему вовсе не бедная, а вот Лаппес Марьен та бедная, потому что всегда собирает тряпьё и роется в помойках и, наверно, часто голодает. Но когда господин Мейзер хотел как-то дать ей полную тарелку ракушек, потому что у Мейзеров было очень много испорченных ракушек, Лаппес Марьен вся затряслась и сказала, что она не станет их есть, даже если господин Мейзер заплатит ей за это десять марок. Этого господин Мейзер не мог понять, потому что для него ракушки самое большое лакомство. Он сказал, что Лаппес Марьен выжила из ума и что она живёт куда лучше, чем все думают.
Мама говорит, что я должна больше есть, для того чтобы набраться сил. Мне ужасно хочется быть очень сильной. Иногда я представляю себе, что бы тогда было. Я могла бы разбрасывать по горам каменные глыбы, легко одной рукой переносить отца в другую комнату, могла бы взломать двери тюрьмы, бороться на улице сразу с тридцатью мальчишками, кататься по городу верхом на тиграх и львах, бросаться наперерез автомобилям и останавливать их на полном ходу, одна, без помощи мамы, ставить на плиту бак с бельём. Я уже предпринимаю кое-что для того, чтобы стать сильной. Я нашла у тёти Милли в тумбочке «Левантийские закрепляющие пилюли» и теперь время от времени тайком съедаю по одной.
В тот день за обедом все сказали, что я беспримерно лживый, непослушный ребёнок, и велели мне уйти из столовой, не получив сладкого, и ждать наказания. Я отправилась на кухню к Элизе. Она угостила меня остатками пудинга, и мы с ней в два голоса пели замечательную песню: «Я подстрелю оленя в глухом лесу...». Это любимая песня одного очень симпатичного постового.
Полицейским, которые слишком важничают, мы с Хенсхеном Лаксом всегда поём: «Торчит тут полицейский, торчит тут полицейский, без дела день-деньской торчит...» Полицейский злится, а мы быстро убегаем. Элизиного полицейского зовут Эрих, и Элиза дружит с ним. Она говорит, что в следующее воскресенье он поедет знакомиться с её родителями, которые живут в Гровенахе.
Я спросила, не может ли полицейский арестовать тётю Бетти и жирафу и выслать их обратно в Ауэрбах, да и тётю Милли в придачу. Элиза сказала, что она тоже была бы не против, но потом покачала головой, так что её тёмные кудряшки разлетелись в разные стороны, и добавила, что для этого, к сожалению, необходимо получить приказ начальства.
Как отвратительна жизнь! Я теперь не могу больше тайком читать по вечерам, лёжа в кровати: жирафа внимательно следит за мной, к тому же они отобрали у меня замечательный рассказ из жизни индейцев «Скальп белой женщины». Эту книгу мне одолжил Хенсхен Лакс, а сам он получил её от Матиаса Цискорна, который тоже взял её где-то, и если я не верну её, я опозорю честь своего племени. Жирафа читает книгу под названием «Маленькая рыжеволосая графиня, когда же заговорит твоё сердце?». Я хотела стянуть у неё эту книгу и отдать Хенсхену Лаксу вместо «Скальпа белой женщины». Но это очень глупая и скучная книжка, в ней нет ни слова ни об индейцах, ни о людоедах. Даже о лунных эльфах и диких зверях в ней ничего не говорится.
Тётя Бетти заявила, что наша Элиза очень ленивая и любопытная, а Элиза говорит, что жирафа хитрый ребёнок, а сама тётя Бетти завистливая особа и что в разговоре с тётей Милли она говорит подлости о моих родителях. А мама однажды плакала и жаловалась папе, что у неё скоро не хватит сил выслушивать вечные колкости Бетти.
Отец сказал, что женщины по своей природе враждебно относятся друг к другу и что их нехорошие чувства всегда прорываются наружу. Я это тоже замечаю, когда вижу, как у противной фрау Мейзер, и у этой Кноль, и у фрейлейн Левених всё время прорываются по отношению ко мне всякие подлости. Но, правда, и во мне всегда тоже что-нибудь против них прорывается. А вот против моей мамы и Элизы у меня ничего не прорывается, а ведь они тоже женщины.
Элиза говорит, что над всем домом нависла мрачная туча и что если эти ауэрбаховцы пробудут у нас ещё десять дней, то произойдёт какое-нибудь ужасное несчастье. В этом можно не сомневаться, так как Элиза видела плохой сон — ей приснились разбитые миски и заплесневевший хлеб, завёрнутый в куньи шкурки. У Элизы есть настоящий египетский сонник, в котором объясняются все сны.
Я предотвратила ужасное несчастье, которое должно было случиться через десять дней, и сделала так, что оно произошло раньше и что ауэрбаховцы очень быстро уехали. А случилось это так.
Моя мама решила устроить небольшой праздник в честь тёти Бетти для того, чтобы маму при всём желании никто ни в чём не мог упрекнуть. Элизе она сказала: «Давай постараемся и устроим всё как можно лучше. Приготовим фаршированных голубей, ужин будет лёгким — у моей золовки больной желудок». И они с утра до вечера трудились на кухне. Папе было приказано вернуться со службы домой точно в назначенное время, потому что ему, как мужчине, поручалось приготовить пунш.
Пришли тётя Бетти и тётя Милли, наш сосед господин Клейнерц и дядя Хальмдах — двоюродный брат моего отца. Тётя Милли его терпеть не может, потому что он как-то пришёл к нам на первой неделе великого поста и сейчас же заснул на нашем шёлковом диване как был, в кепке и грязных сапогах! У меня от волнения и радости мурашки побежали по спине. Я ненавижу этот диван, на нём разрешают сидеть только гостям, и то скрепя сердце. А мне стоит только посмотреть на диван, как все уже кричат, что я его запачкала и протёрла шёлк. Один раз я привела к себе домой Христинхен Мозбах и ещё несколько девочек, потому что мама и тётя Милли ушли в город, чтобы купить новые гигиеничные корсеты, а на это нужно немало времени. Я мечтала только о том, чтобы они опять не принесли мне чего-нибудь ужасного: колючий шерстяной лифчик, или особенно удобные ботинки, в которых я не смогу бегать и над которыми другие ребята будут смеяться, или удобный и практичный клеёнчатый фартук для школы, над которым тоже все смеются, или практичный и полезный спинодержатель. Они говорят, что покупают эти вещи из любви ко мне, но всё полезное и практичное приносит мне одни мучения. Они не понимают, какое ужасное чувство испытываешь, когда ты единственная из всех детей идёшь в школу в практичной дождевой накидке из клеёнки и фланели, а рядом с тобой идут ребята, на которых не надето ничего смешного. Дождь мне нипочём, а вот накидка с капюшоном мне почём, и, когда в плохую погоду я должна надевать эту накидку, я снимаю её, как только выхожу из дома, и засовываю в портфель. Но на трамвайной остановке я всегда боюсь, что меня кто-нибудь увидит с непокрытой головой в такой дождь. И так как накидка немного помялась из-за того, что я часто ношу её в портфеле, меня теперь упрекают в том, что я плохо обращаюсь с хорошими вещами, купленными на деньги, которые отец зарабатывает тяжёлым трудом, и говорят, что для себя взрослые не имеют возможности покупать такие вещи. Я хотела бы, чтобы они не имели возможности ничего покупать для меня. А они требуют, чтобы я была благодарна и радовалась, когда мне что-нибудь покупают.
Когда мама и тётя Милли уехали в город, я повела Христинхен и остальных детей в гостиную и усадила их всех в ряд на шёлковый диван, потому что мне хотелось сделать им что-нибудь особенно приятное. Дети сидели на шёлковом диване, но были не очень довольны. Они надеялись, что я придумаю какую-нибудь игру или покажу им фокус. Но тут раньше времени возвратилась тётя Милли и замерла от ужаса. Дети ничего не могли понять — ведь я им сказала, что у моего отца сто таких диванов, так что они могут спокойно сидеть на нём и даже сломать его, я тогда на радостях выкину что-нибудь необыкновенное — может быть, даже покачаюсь на люстре. Мне казалось замечательным, что на этом глупом, мёртвом диване сидит так много детей.
Но тётя Милли не увидела в этом ничего замечательного. После истории с диваном все стали относиться ко мне как к злодею, который, нагло хохоча, осквернил священный алтарь, — это я вычитала в миссионерской газете, подписку на которую мои родители из экономии хотят прекратить.
Дядя Хальмдах преспокойно улёгся на диване. Он заявил, что с начала масленицы ещё не сомкнул глаз и что теперь ему нужен отдых и двадцать марок. А недавно ему захотелось выпить у нас бутылку коньяка.
Папы не было дома, а тётя Милли сказала, что у нас, к сожалению, нет штопора. На это дядя Хальмдах ответил, чтобы она не беспокоилась, что вообще-то он не блещет талантами, но зато у него врождённая способность откупоривать любую бутылку пилочкой для ногтей. Он доказал нам это на деле и ещё нарисовал на новой белой скатерти тётю Милли в виде огнедышащей паровой турбины. Тут тётя Милли рассвирепела, а дядя Хальмдах крикнул, что если у него когда-нибудь будет своя машина, то он посадит тётю Милли вместо украшения на радиатор, и тогда все постовые разбегутся. Только для этого нужна очень мощная машина, больше всего подошёл бы танк.
Тётя Милли терпеть не может, когда ей говорят, что она женщина крупных масштабов, потому что это означает, что она очень толстая. Надо сказать, что после обеда она с деловым видом съедает в кондитерской не менее пяти кусков вишнёвого торта со сливками для того, чтобы похудеть, потому что за обедом, по совету врача, не ест жирного соуса и супа.
Тётя Милли как-то сказала, что душа у неё — как у пугливой пташки, и что она по натуре нежна и привязчива, как плющ. Поэтому она терпеть не может, когда дядя Хальмдах говорит: «Милли, у тебя зад, как у боевого коня времён Фридриха Великого».
Дядя Хальмдах мне нравится. Он рисует смешные картинки для газет и однажды подарил мне чёртика в ящике.
После праздничного обеда все уселись в столовой. Жирафе и мне тоже позволили остаться. Нам дали выпить по полному стаканчику пунша и разрешили не ложиться до девяти часов. Но ещё до этого я успела устроить небывалый скандал.
Все были так вежливы друг с другом, как будто только что познакомились. Сквозь гардину пробивался жёлтый свет луны. Мама поставила на стол рядом с цветущим миндальным деревцем вазу с фиалками. Это деревце ей принёс господин Клейнерц, потому что из всех цветов она больше всего любит цветущий миндаль. Глядя на него, она вспоминает своё первое бальное платье, которое было таким же розовым и весёлым.
Цикуту мама считает плохой и уродливой, оттого что она ядовитая, а мне кажется, что цикута такая же красивая, как примула, и вовсе не плохая. Она никому не делает зла и не отравляет соседние цветы. Её нельзя только есть, как шпинат, но ведь большинству людей тоже не хотелось бы, чтобы их пропускали через мясорубку и ели вместо шпината.
Когда мама получает в подарок цветы в горшках, мы снимаем с них бумажные манжеты и высаживаем цветы в нашем саду.
Мама говорит, что в саду им лучше и они дольше проживут. Но иногда они всё же погибают. Манжеты от цветов мы с Хенсхеном Лаксом надеваем на себя вместо корон, когда играем в индейских королей и правим своим королевством.
«Какой нежный весенний аромат!» — воскликнула тётя Милли. «Разреши-ка, Бетти», — сказал мой отец и налил ей вина, а сам закурил сигару. «Большое спасибо, Виктор, — ответила тётя Бетти и пригладила волосы. — В твоём доме, Виктор, царит мир и благодать. Твоя жёнушка — очаровательное создание, но мне кажется, что она немного расточительна». — «Допей вино, Бетти», — сказал отец. Я очень злилась на тётю Бетти, потому что она перед этим заявила маме, что Элиза ворует. Дело в том, что на кухне мама похвалила Элизу за то, что та так старалась и с такой готовностью всё делала, и велела ей взять фаршированных голубей, и большой кусок торта, и ещё всякой всячины и угостить как следует Эриха. Мама сказала, что уж кутить так кутить, а после этого тётя Бетти стала ей подло нашёптывать в коридоре: «Ты слишком расточительна, дорогая, — эта девица за твоей спиной сама возьмёт себе больше чем нужно». — «Зачем ей делать это за моей спиной, Бетти, если она у меня на глазах может брать всё, что ей захочется? — ответила мама и добавила: — Она ещё совсем ребёнок. Надеюсь, что я не испортила ей удовольствия. Ведь моя непослушная дочь больше любит есть яблоки, которые крадёт из кладовой, чем те, которыми её угощают». — «Ну, знаешь, моя дорогая, такие оригинальные взгляды могут привести к плачевным результатам, — прошипела тётя Бетти. — Кончится тем, что она украдёт одно из твоих бриллиантовых колец». Мама усмехнулась: «У меня всего-навсего одно кольцо, Бетти, других колец у меня нет, да они мне и не нужны».
Тётя Бетти допила вино, крепко и совсем не ласково ущипнула меня за щёку и сказала: «Твоя дочурка заметно исправилась, дорогой брат, общение с двоюродной сестричкой пошло ей на пользу. Из любви к твоему ребёнку мне следовало бы принести себя в жертву и остаться здесь с Линой на постоянное жительство». Услышав это, я до смерти перепугалась.
Подошёл дядя Хальмдах и попросил налить ему коньяку или двойную порцию водки, потому что пунш, по его мнению, никуда не годился — ведь мужья вообще не способны готовить приличный пунш. Отец тихо сказал, что он позднее с удовольствием пойдёт с дядей Хальмдахом и господином Клейнерцем выпить по кружке пива.
А ведь у дяди Хальмдаха иногда бывают приступы отчаяния. Тогда он говорит, что пьянство к добру не приводит, что это сплошное свинство и что после выпивки его всегда мучают угрызения совести. Он жалеет о выброшенных на ветер деньгах, которые были заработаны тяжким трудом, и клянётся никогда больше капли в рот не брать. Но потом, когда ему уже не так плохо, он забывает свои слова.
Тётя Милли чокнулась с господином Клейнерцем и пролепетала: «Чего доброго, я ещё опьянею». — «Тогда ты нам откроешь свои мысли, Милли, — воскликнула тётя Бетти: — пьяные всегда говорят правду. Не так ли, кузен Хальмдах? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так, кажется, говорят в народе?» — «Вот старая перечница! — пробормотал дядя Хальмдах, обращаясь к моему отцу. — Когда этот несчастный жёлчный пузырь на двух ногах начинает рассуждать о народе, у неё настолько глупый вид, что мне из сострадания хочется поднести ей букетик цветов. Да будет тебе известно, что я неоднократно самым прекрасным образом врал в пьяном виде».
Тут мне пришло в голову, что, когда ребёнок говорит правду, взрослые никогда ему не верят и даже не дают договорить до конца, поэтому мне захотелось хоть раз в жизни притвориться пьяной и высказать всю правду. Я очень хорошо знаю, какие бывают пьяные; я знаю это по Леберехту, который живёт напротив нас. Его зовут Панкрациус. Я люблю повторять вслух необычные имена и названия, я получаю от них такое же удовольствие, как от пирожных. У нас в Кёльне есть, например, проезд Маурициуса и улица Маурициуса, и, когда я еду в трамвае, я всегда жду, чтобы кондуктор выкрикнул слово «Маурициус». Когда я слышу это слово, я радуюсь и волнуюсь, и у меня такое чувство, будто я вижу целую гору локонов, цветов и бархатных лент. В школу мне надо ехать только до остановки «Оперный театр», но я нарочно проезжаю иногда на одну остановку дальше, чтобы услышать, как кондуктор объявит «Проезд Маурициуса». Иногда он этого не делает, тогда я выхожу из трамвая и читаю это название на табличке до тех пор, пока оно не начинает звучать у меня в ушах.
Леберехт весь день таскается по кабакам и напивается так, что еле держится на ногах, а дети толпой бегут за ним по улице. Ноги у него заплетаются, он дико вращает глазами, и жене его, видно, приходится нелегко. Иногда он останавливается как вкопанный и, вытянув вперёд руку, начинает ругаться и угрожать кому-то. Потом теряет равновесие, падает, но не перестаёт говорить. Леберехт, как слепой: он ничего не видит, но знает, что вокруг него дети. Только обращается он не к детям, а к небу. Его голос звучит, как глухие раскаты грома, и говорит он всё, что ему приходит в голову.
Я хорошо знаю, как ведут себя пьяные, а главное, мне хотелось, чтобы тётя Бетти и жирафа уехали. Поэтому я притворилась пьяной, расслабила мышцы, как меня учили на противных уроках пластики, и упала на пол. Потом встала, покачалась из стороны в сторону, остановилась как вкопанная и, указывая пальцем на жирафу, застонала и затрясла головой точь-в-точь, как Панкрациус Леберехт.
Все вскочили и уставились на меня. Я заговорила глухим голосом: «Кузина Лина — плохая девочка, очень плохая. Тётя Бетти тоже плохая. Она говорит, что моя мама швыряет деньгами и что с такой женой папа пропадёт, и ещё тётя Бетти говорит, что мама была очень бедной и при всём желании не могла заполучить другого мужа, иначе она никогда не вышла бы замуж за такого вспыльчивого и бессердечного тирана, как мой отец. Всё это она говорила тёте Милли. А я это слышала и Элиза тоже. На днях, когда у нас к обеду был один только суп с капустой и больше ничего, тётя Бетти сказала, что в доме родного брата её хотят провести, прикидываясь бедняками. А сегодня она заявила, что моя мама устраивает ужины с фаршированными голубями для того, чтобы пустить бедной вдове пыль в глаза, и что с наследством её тоже обманули. Ещё она сказала, что Элиза ворует, — это я передам полицейскому Эриху — пустите меня, не держите меня, — я всё скажу полицейскому, я...» Если ты пьяный, то под конец нужно всё время повторять одно и то же.
Все старались меня успокоить. Я опять повалилась на пол и стала невнятно бормотать «ля-ля-ля-ля». «Она сошла с ума! — крикнула тётя Бетти моему отцу. — О, какой это ужас!» — «Она пьяна!» — простонала тётя Милли. Она наверняка боялась, что я и о ней начну что-нибудь говорить. «Совершенно пьяна! Боже милосердный, бедный ребёнок!..» — закричали все. «Ничего подобного! — сказал дядя Хальмдах. — У девочки не простое опьянение. У неё типичный приступ белой горячки. Это необычайно интересно!» — «Но ведь она не выпила ни одного глотка из своего стакана, — сказала вдруг тётя Милли сдавленным голосом. — Эта девочка — преступница по натуре, она просто симулирует». — «Но мне кажется, что она говорит правду», — заметил господин Клейнерц. Я люблю его: он умный и всегда приходит мне на помощь.
Я думала, что отец изобьёт меня, что все будут бить меня, но отец набросился на тётю Бетти, тётя Бетти — на тётю Милли, а тётя Милли — на Элизу, которая в этот момент принесла кекс. Я в качестве пьяного должна была лежать на полу и не могла, к сожалению, попробовать кекса.
Взрослые совсем забыли обо мне, они затоптали бы меня до смерти, если бы мама и господин Клейнерц не вытащили меня из комнаты. Я продолжала молчать и не двигаться. Мне хотелось только одного: чтобы всё хорошо кончилось, хотя я уже не помнила, что именно должно было хорошо кончиться и чего я, собственно говоря, добивалась.
Мама расплакалась и решила позвонить нашему врачу Боненшмидту, потому что она думала, что я опьянела или сошла с ума. Тогда я сразу же выздоровела и поцеловала маму. Она уложила меня в постель, мы помолились, а потом пришла Элиза. Мы с ней пели песню: «Я подстрелю оленя в глухом лесу, в косулю запущу стрелу, орла собью я на лету. Я подстрелю оленя в глухом лесу». Больше всего мне нравятся слова про орла. В этом месте мы обе плачем и поём очень громко, совсем как мужчины. Наше пение напоминает мне тогда воинственные крики дикарей и звуки боевых труб.
Но тут вошла мама и спросила: «Почему ты запела такую жестокую песню? Ты ведь любишь животных, — почему ты задумала всех их убить?» Но я никого не собиралась убивать. Мне просто хотелось громко петь, а песню про гордого орла, которого сбивают на лету, я очень люблю. Потом мама сказала Элизе: «Моя золовка получила телеграмму — она вместе с дочерью должна срочно выехать лейпцигским поездом. И просит, чтобы вы помогли ей уложить вещи. Я тоже помогу. Вы не очень устали?» — «Что вы, я от души рада помочь им!» — весело ответила Элиза. «Ну, а теперь спи, маленький чертёнок, — сказала мне мама, — но, пожалуйста, не думай, что твой ужасный поступок будет забыт». Потом она собрала вещи жирафы и поцеловала меня на ночь для того, чтобы я успокоилась. «Теперь спи!»
Но я была слишком взволнована и не могла уснуть. Я не переставала думать о жирафе, которая скоро разляжется в спальном вагоне. Спальный вагон — это такая кровать, которая всё время едет. Интереснее этого нет ничего на свете. Мне так хотелось бы хоть разок прокатиться в своей кровати — быстро и без остановок, по всем улицам, в гору и под гору, по холмам и долинам. Я представила себе, как я вместе со своей кроватью вылетаю из окна и поднимаюсь всё выше и выше, до самых туч. Внизу — дома, огни и поезда с кроватями, которые куда-то едут, в одном из них едет жирафа, а я в своей кровати лечу всё дальше и дальше...
ТЁТЯ МИЛЛИ ХОЧЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
Все кругом говорят, что тётя Милли перезрела. Она стала невыносимой, и мы от неё никогда не избавимся, если она не найдёт себе мужа. Элиза говорит, что у каждой женщины обязательно должен быть муж. У меня тоже когда-нибудь будет муж. Так уж заведено. Мой папа принадлежит моей маме. Дети тоже принадлежат своей маме. Правда, меня тётя Милли не взяла бы даже в подарок, да я и сама не позволила бы, чтобы меня ей подарили, но зато от моего маленького брата, когда он не кричит и не пачкает пелёнок, она бы не отказалась. Квартира тоже принадлежит моей маме. Тёте Милли здесь не принадлежит ничего, но она ругается, если я что-нибудь сломаю, всё время делает мне замечания и ябедничает на меня. С ней просто мучение.
Только что наша Элиза сообщила мне очень важную новость — по объявлению в газете тёте Милли присылают на выбор мужей. Об этом никто ничего не должен знать. Тётя Милли держит всё в секрете, но Элиза узнала и очень рада. Мы обе мечтаем о том, чтобы у нас забрали тётю Милли. Она дала в газету такое объявление: «По зову сердца! Моложавая сорокалетняя брюнетка, с весёлым характером и внешностью Юноны, нежная и серьёзная по натуре, любящая природу и имеющая небольшой капитал, хочет внести тепло и ласку в одинокую жизнь честного и материально обеспеченного идеалиста». Элиза говорит, что она не представляет себе, как такая брюзга и скандалистка решается сказать про себя, что у неё весёлый характер, но что, возможно, в присутствии мужчин она переменится и станет приветливой и ласковой. Женщины ведь на всё способны.
Элиза тоже хочет, чтобы тётя Милли уехала от нас, потому что тётя контролирует её самым подлым образом и гоняет с утра до вечера. Элиза тайком читает все письма от мужчин, которые присылают из редакции, и рассказывает мне, а я рассказываю господину Клейнерцу из квартиры напротив, а господин Клейнерц рассказывает моей маме, а та — моему отцу. Никто не верит, что какой-нибудь мужчина польстится на тётю Милли, но весь дом в ужасном волнении и беспокойстве. Тётя Милли накупает себе кофточки и банты, воротнички и специальные стельки от плоскостопия.
Каждому было ясно, что с тётей Милли происходит что-то неладное. В конце концов она сама всё рассказала моей маме, потому что господин Лотар Брозелиус собирался зайти к нам после обеда в заранее назначенное время для того, чтобы познакомиться с тётей Милли с глазу на глаз. Он написал тёте Милли письмо. Судя по письму, он был идеальным одиноким вдовцом, совсем ещё бодрым, и богато одарённой натурой.
Элизе поручили сварить настоящий кофе безо всяких примесей, а из буфета достали бутылку старого коньяка, и тут я не на шутку испугалась.
Надо сказать, что мама хранила эту бутылку коньяка для особого случая. Но этот особый случай один раз уже настал по вине дяди Хальмдаха. Он как-то пришёл к нам, когда никого, кроме меня, не было дома. Когда он приходит, он всегда спрашивает: «Нет ли у вас чего-нибудь выпить?»
Мама и тётя Милли ему никогда ничего не дают. Но дядя Хальмдах пообещал пойти со мной вечером в настоящий большой цирк — он может ходить куда угодно, потому что рисует картинки для газет, и ещё он обещал подарить мне футбольный мяч и надеть маску чёрта и напугать ею противную фрейлейн Левених, которая живёт на нашей улице, а кроме того, мне хотелось, чтобы дядя Хальмдах поиграл со мной и не уходил. Поэтому я тайком достала из буфета бутылку старого коньяка, она была уже раскупорена и один стаканчик был выпит на пробу; коньяк в ней намного старше меня. Я вовсе не думала, что дядя Хальмдах выпьет всё до дна, но он взял и выпил, и я очень испугалась.
После этого мы с ним вместе очень громко и красиво пели «Когда в лесу цветёт шиповник, шиповник цветёт...». А потом, чтобы никто ничего не заметил, я налила в бутылку холодного чая, у него ведь такой же цвет, как у коньяка, и спрятала её обратно в буфет.
И вот теперь эту бутылку поставили на стол для господина Лотара Брозелиуса. Едва ли это кончится добром. А рядом с бутылкой поставили нарциссы, и тётя Милли сто раз вытерла пыль со всей мебели. Элиза тут же сказала: «Как будто мужчина обратит на это внимание! Только женщины способны заниматься такой ерундой».
Тётя Милли надела своё тёмно-синее шёлковое платье. Мама сказала: «Да, это платье, пожалуй, больше идёт ей, чем то, в цветах». После этого тётя Милли заявила, что мама хочет, чтобы она выглядела старой, сняла тёмно-синее и надела цветастое платье, а потом опять сняла цветастое и надела тёмно-синее. Так она всё время меняла платья. А потом заплакала, большое зеркало в спальне моих родителей запотело сверху донизу от её дыхания. У мамы дрожали руки, мне приказали прекратить свист, тут раздался звонок, и все закричали, как безумные, а Элизе велели быстренько прогладить белый кружевной воротничок и одновременно открыть дверь. Я хотела было открыть дверь, но все подняли крик, чтобы я ни в коем случае ни во что не вмешивалась и что одно моё присутствие способно разбить любое зарождающееся счастье, поэтому мне пришлось подсматривать в замочную скважину. Ведь нужно же мне было узнать, чем кончится эта история со старым коньяком и избавимся ли мы от тёти Милли.
Элиза пошла открывать, крик в спальне прекратился. В гостиную вошёл, потирая руки, круглый человечек на очень коротеньких ножках, — там, где у него кончался живот, сейчас же начинались ноги. Он стал спокойно рассматривать висевшую на стене картину, которую когда-то нарисовал с меня дядя Хальмдах; я на ней выгляжу совсем как моя мама, когда она бывает похожа на меня. Никто бы не заметил, если бы он тайком отпил из молочника, стоявшего на столе, немного сбитых сливок, но круглый человечек очень хорошо вёл себя. Волосы у него были седые и аккуратно подстрижены, а лицо гладкое и красное, как помидор. На жилете у него висели оленьи зубы, которые меня очень интересуют, я с удовольствием рассмотрела бы их поближе.
Вошла тётя Милли, круглый человечек очнулся, в лицо ему светило солнце. На тёте Милли было цветастое платье, руку она прижала к груди, — а грудь у неё большая, как аэростат. Румяный человечек с шумом выпустил через нос воздух, как паровоз. У тёти Милли было такое выражение лица, как у сказочной феи в театре, когда она склоняет голову к стоящему на коленях принцу и помогает ему встать.
Они заговорили о кофе и тортах и о том, что у господина Брозелиуса был гастрономический магазин, теперь он перешёл к его зятю. Он сказал, что внешность тёти Милли ему нравится, что мужчине пожилого возраста хочется иметь возле себя спокойную и солидную женщину и что порхающие мотыльки его не устраивают. И ещё он сказал, что тётя Милли, наверно, так же как и он, любит природу, не бесконечные прогулки до седьмого пота, а отдых на берегу Рейна и концерты под открытым небом, что в этом вопросе он идеалист, что он любит музыку и знает все оперы. Его покойная жена страстно любила Вагнера, впрочем, она была такая же видная и полная, как тётя Милли. Он надеется, что они как-нибудь посидят вместе в ресторане и выпьют по стаканчику пунша.
Мне всё очень хорошо было слышно. Потом тётя Милли налила в рюмки старого коньяку, и у меня забилось сердце. Но всё обошлось, потому что тётя Милли только пригубила рюмку, а господин Брозелиус сделал один глоток, вздрогнул, но не сказал ни слова и не допил до конца. Потом все говорили, что умеренность этого человека производит самое благоприятное впечатление, а бутылку из-под старого коньяка, в которую был налит чай, положили обратно в буфет, потому что для коньяка лучше, когда он лежит.
Всё могло бы чудесно устроиться с господином Брозелиусом, и, может быть, нам удалось бы избавиться от тёти Милли, но тут она получила фотографии какого-то Бориса Кастора. Элиза, конечно, сразу же обо всём узнала.
Дело в том, что один молодой человек прислал тёте Милли письмо, в котором написал, что он венгр по происхождению, что он необычайно тонко чувствует музыку, что у него ужасно сложилась судьба и нет около него человека, который бы ему посочувствовал и пожалел его. Тётя Милли ответила ему, он ответил тёте Милли и прислал ей свою фотографию. Бледное лицо и огромные глаза навыкате. Тётя Милли больше и слышать не хотела о каком-то Брозелиусе, да и вообще ни о ком, кроме Бориса Кастора.
Тётя Милли плакала в комнате у мамы и кричала, что господин Брозелиус для неё слишком стар и груб, что судьба ей уготовила жизнь с другим, более утончённым человеком, который считает, что в её письмах чувствуется сильная и свежая, как юность, душа и что для него это самое главное. Тётя Милли кричала, что её хотят лишить счастья и что со всех сторон её окружают завистники. И что она выглядит намного моложе моей мамы, потому что не изнурена духовно и физически долгими годами замужества, и что недавно, когда она стояла около кинотеатра «Агриппина» (в качестве доказательства она может даже совершенно точно указать место), перед ней прохаживался мужчина и напевал: «Эх, девица, красавица девица...» — и при этом бросал на тётю Милли красноречивые взгляды. Она сказала, что в субботу днём встретится с господином Борисом Кастором и никакие враждебные ей родственники и никакие силы природы не смогут помешать этой встрече. Элиза узнала, что тётя Милли собирается встретиться с Борисом Кастором в гостинице «Принценхоф», и сказала, что никогда красивый молодой человек не женится на тёте Милли.
Мне так хотелось, чтобы он на ней женился, и Хенсхен Лакс сочувствовал мне, потому что мы друзья, и ещё потому, что члены нашей шайки дали клятву помогать друг другу. К тому же тётя Милли в понедельник наябедничала, что мы играли на поляне за нашим садом с англичанами в футбол, вместо того чтобы учить уроки. Поэтому мы с Хенсхеном Лаксом придумали замечательный план. Хенсхен Лакс сказал, что мы должны как-нибудь приукрасить тётю Милли, потому что она старая, жирная и очень некрасивая, даже новая шестимесячная завивка ей не помогла. А Бориса Кастора она могла бы заинтересовать только в том случае, если бы была княгиней. У Лаксов есть одна знакомая княгиня, она тоже некрасивая, но всякий раз, когда у неё умирает муж, она находит себе другого. Господин Клейнерц тоже считает, что в наше время княгини всё ещё в цене.
В субботу днём Хенсхен Лакс и я направились к гостинице «Принценхоф». Тётя Милли и бледный мужчина с глазами навыкате сидели у окна. Тётя Милли выглядела так, будто её обварили кипятком. Волосы у неё торчали во все стороны, как у сумасшедшей. Мужчина ел жареную утку и что-то говорил. Казалось, что он вот-вот заплачет.
Хенсхен Лакс приступил к выполнению нашего плана. Он пошёл к телефону-автомату напротив, на площади Рудольфплац. Перед этим он долго упражнялся для того, чтобы научиться говорить низким и солидным мужским голосом: «Прошу Вас позвать к телефону княгиню Милли фон Кальтвейс». Тёти Миллина фамилия Кальтвейс. Она, конечно, подойдёт к телефону, если её позовут. Мой отец тоже всегда подходит в ресторане к телефону, когда его вызывают. А Борис Kaстор подумает, что тётя Милли действительно княгиня и скрывает это, потому что хочет испытать, насколько искренне он её любит. Элиза читала роман о принцессе долларов и ловкачах, которые охотились за её деньгами. Доведённая до отчаяния принцесса оделась в лохмотья, а белокурый шофёр сжалился над ней и полюбил её. Он думал, что она скромная нищенка, но сквозь дырявую одежду всё же разглядел, что она собой представляет, и разгадал её тайну, потому что в действительности тоже был герцогом.
Тётя Милли обязательно скажет Борису Кастору, что она не княгиня, но он всё равно не поверит ей. И все в ресторане будут смотреть на тётю Милли, когда её позовут к телефону. Всем будет казаться, что она такая же красивая, как гордые и своенравные княгини.
По телефону Хенсхен Лакс решил говорить с тётей Милли не своим голосом, а голосом оракула. Для этого он специально выучил наизусть отрывок из книги «Яд человека-обезьяны». В этой книге дрожащая от страха девушка слышит ночью предостерегающий её таинственный крик: «Внимание, внимание, не бойся, красавица, спасение близко. К тебе на белом иноходце приближается счастье, но берегись опьяняющей сладости жгучего красного мака — избегай обманчивого яда, в каком бы он виде ни был».
Я очень долго крутилась у входа в «Принценхоф». Наконец, один из официантов крикнул: «Её высокоблагородие княгиня Милли фон Кальтвейс!» Он повторил это дважды, и звучало это чудесно. Когда тётя Милли с величественным видом направилась к телефонной будке, я сама чуть было не поверила, что она княгиня. Все смотрели на неё, а я была счастлива — теперь тётя Милли и Борис Кастор скоро поженятся.
Не успела я подумать о том, что Хенсхен Лакс, наверно, говорит ей про опьяняющую сладость жгучего красного мака, как вдруг ко мне подошёл Борис Кастор в пальто и шляпе. «Малышка», — сказал он на бегу и потянул меня за собой. Я никогда не позволила бы тёти Миллиным мужьям бить меня, я отдавила бы им за это ноги. Но он и не собирался меня бить. Он вынул из кармана три монеты, дал их мне и быстро проговорил, продолжая тянуть меня за собой: «Малышка, скажи той толстой даме, что сидела у окна, а сейчас говорит по телефону, — она только что пила кофе, вон та, в цветастом платье, — скажи ей, что её знакомому стало плохо — у него приступ малярии, которую он подхватил в тропиках, с тех пор приступы всё время повторяются. Пусть она не ждёт его». И он скрылся.
Сначала мы с Хенсхеном Лаксом разменяли десять пфеннигов в табачном магазине, потом мы разыскали за киоском «Соки — воды» на Рудольфплац грязного мальчишку, дали ему пять пфеннигов и показали, где сидит тётя Милли. Он должен был передать ей, что у её знакомого начался приступ тропиков и что ей незачем ждать.
Затем мы пошли есть мороженое — ведь мы вернули деньги, которые потратили на разговор из автомата. Всё в этом мире было нам непонятным. Почему он сбежал? Может быть, он ещё вернётся. Может быть, княгиня это слишком мало и нам надо было назвать тётю Милли королевой?
Вечером дома был большой скандал. Я этого никак не ожидала. У тёти Милли тоже был приступ, похуже, чем у бледного молодого человека. Все говорили, что в этом деле замешана я. Сначала я сказала, что так думать обо мне — настоящая подлость. Потом все начали донимать меня вопросами и донимали до тех пор, пока всё из меня не вытянули. Тётя Милли кричала, что я разрушила счастье всей её жизни, расшатала нервную систему моего отца и отравляю жизнь матери. А что делают взрослые, когда они вне себя от злости и досады? Они начинают бить бедного ребёнка. Пришёл господин Клейнерц и сказал, что тётя Милли от души должна быть мне благодарна, но это не помогло. Тётя Милли кричала, что Борис Кастор — чуткая, благородная натура и что его отпугнули: ведь он подумал, что она пускает в ход подлую и неуклюжую ложь. Его нервы расшатались в тропиках, и теперь, когда он узнал, что она лгунья, и разочаровался в ней, это потрясение вызвало у него приступ малярии. Наверно, этот несчастный молодой человек в отчаянии бродит по городу. «Он даже забыл уплатить за порцию утки, кто возместит мне этот расход?» — «Ловкий вам попался мошенник, нечего сказать!» — воскликнул господин Клейнерц, а тётя Милли закричала, что господин Клейнерц грубиян, что человек, страдающий смертельным недугом и стоящий одной ногой в могиле, забывает иногда о земном и что во всём виновата я.
Потом пришёл дядя Хальмдах, и отец ему тут же сказал: «Ты опять малость хлебнул!» Дяде Хальмдаху всё подробно рассказали. Сначала я очень боялась, что он забыл про историю с коньяком и опять его потребует. Но ему, слава богу, сразу же дали стакан мозельского, которым отец в этот момент успокаивал свои нервы.
Тётя Милли глотала пилюли, плакала и говорила, что никогда не переживёт того, что предстала лгуньей в глазах скромного и застенчивого молодого человека, который владеет огромной недвижимостью в Венгрии, хотя только вскользь упоминает об этом. И что я не ребёнок, а настоящий чёрт.
Тогда дядя Хальмдах стукнул по столу кулаком и, чтобы меня утешить, пообещал принести мне из зоологического сада одну из маленьких пантер, которые мне очень нравятся. Но, к сожалению, он почти никогда не выполняет своих обещаний.
КАК Я БЫЛА ВУНДЕРКИНДОМ
Вся эта дурацкая история произошла из-за того, что у мамы в буфете хранилось огромное количество цукатов. Я их очень люблю, но они мне никогда не идут на пользу. После того как я их съела, мне пришлось целую неделю пролежать в кровати. Я мучилась и скучала, к тому же я ещё поссорилась с Хенсхеном Лаксом, который пришёл навестить меня и поиграть со мной в дельфийского оракула. Дело в том, что когда я очень сильно прижимаю руки или подушку к лицу, то вижу маленькие и большие светящиеся звёзды; у меня перед глазами кружатся разноцветные яркие солнца и мелькают сверкающие полосы. Я вижу тогда такие замечательные цвета, какие бывают только на небе. Я рассказала об этом Хенсхену Лаксу, и он решил, что я должна стать дельфийским оракулом.
Хенсхен Лакс пришёл ко мне с швейневальдовскими детьми, на подносе они принесли угли, которые стащили из утюга у нашей Элизы. Эту гадость они поставили около моей кровати и зажгли для того, чтобы мне, как настоящему оракулу, дымом затуманило глаза. Потом я прижала к лицу подушку и должна была нараспев рассказать о том, что вижу, а Хенсхен Лакс толковал эти видения и угадывал в них повеления свыше. Он заявил, что ещё сегодня должен пойти с Швейневальдами на Старый рынок и дать там представление кукольного театра. Меня очень разозлило, что они хотят начать это дело без меня, хотя мы давно уже задумали его все вместе, для того чтобы заработать немного денег. Мы сшили кукол, смастерили ширму и разучили замечательные пьесы, — я уверена, что зрителям понравилось бы, а Хенсхен Лакс и я должны были по очереди ходить с тарелкой и собирать деньги. Может быть, когда-нибудь мы со своим театром объедем весь мир.
Меня, конечно, разозлило, что они собирались начать представление без меня, а меня превратили в оракула, да ещё Хенсхен Лакс сказал в присутствии швейневальдовских детей, что оракул, то есть я, — лишь ничтожное орудие в руках толкователя, главное лицо — это он, толкователь. Это мне показалось слишком уж большим нахальством, и я нараспев объявила: «Хенсхен Лакс — подлая свинья». Подраться как следует мы, к сожалению, не смогли, потому что я была больна и лежала в кровати. Хенсхен Лакс обиделся и убежал, за ним побежали швейневальдовские дети, а вонючие, тлеющие угли остались, и мне стало плохо. Когда после болезни меня отправили в школу, мама дала мне записку для нашей классной руководительницы фрейлейн Шней. Фрейлейн Шней даже и не взглянула на записку и тут же бросила её в ящик своего стола. Я это очень хорошо запомнила.
Из-за ссоры с Хенсхеном Лаксом я не могла заработать денег кукольным театром, а приближалась пасха, и я решила продать свои старые учебники девочке, которая на один класс моложе меня. Дома об этом ничего не должны были знать. Я только сказала, что хочу ещё раз перечитать свои старые учебники и проверить, не забыла ли я чего-нибудь. Все заявили, что это очень хорошо, но не могли понять моего усердия и по-настоящему поверить мне. Я ужасно долго договаривалась об этих учебниках с Мютти Кугель из младшего класса — более глупую девочку трудно себе представить. Она думает, что её не переведут в следующий класс, и поэтому боится взять у матери деньги на учебники, которые ей понадобятся в следующем году, а ведь я продаю ей эти книги по самой дешёвой цене. Правда, книги не в очень хорошем состоянии, и каждому известно, что Мютти Кугель ни за что не переведут. Но я изо всех сил убеждаю её, что её всё-таки переведут, для того чтобы её утешить и продать свои книги. Когда я всё рассказала нашему соседу господину Клейнерцу, он сказал, что, по его мнению, легче продать брюки настоятельнице монастыря, чем договориться с Мютти Кугель. Теперь я начинаю понимать, какая у моего отца трудная работа — ведь он коммерсант.
Получить от Мютти Кугель взнос было нелёгким делом, я просто выбилась из сил, совсем как папа на своей работе. Но в конце концов я получила немного денег и сразу же побежала разыскивать двух своих лучших подруг. У нас троих в тот день была страшная неприятность. Гретхен даже плакала, а мы её утешали. Во французском диктанте она сделала двадцать семь ошибок, но это её как раз меньше всего беспокоило. Плохо было то, что ей нужно было на другой день вернуть тетрадку с подписью матери, а она, идиотка, не догадалась сразу же заявить, что её мать уехала путешествовать на север. Вот потому-то Гретхен и плакала.
Надо сказать, что мы давно договорились между собой. Нам не раз приходилось вызывать в школу наших родителей только для того, чтобы дать возможность учительницам самым подлым образом обругать нас, а после этого дома у нас были большие неприятности. Поэтому мы заставили своих родителей вести очень интересную жизнь, такую, как ведёт богатая фрау фон Кравальд, которая живёт в квартире под нами. Мы с грустью в голосе заявляли учителям, что наши родители беспрестанно разъезжают по всему свету. Мы посылали их как можно дальше и в такие места, откуда не так-то просто вернуться обратно. Кое-что мы знали из уроков географии, и, кроме того, мне всегда помогал господин Клейнерц. Элли Пукбаум, Гретхен и я по-честному поделили между собой страны. Я очень надолго отправила своих родителей в Египет, а Элли сказала, что её отец принимает участие в чрезвычайно опасной экспедиции в Южную Америку.
Для Гретхен мы держали в запасе поездку на север, а она забыла воспользоваться этим. Видно, у Гретхен совершенно расшаталась нервная система, как это часто бывает у наших матерей. У нас с Элли нервы тоже расшатались, поэтому и нам необходимо было взять пример со взрослых и устроить себе передышку. В конце концов я всё-таки получила деньги от Мютти Кугель, и мы, вместо того чтобы пойти в школу, решили хоть раз в жизни посидеть днём в кафе-мороженое у Монатто. Для этого мы тайком отыскали в столе у фрейлейн Шней старые записки наших родителей. В этом учебном году Гретхен болела один день, а Элли — два дня, и от моей мамы тоже ещё сохранилась записка, в которой она писала, что я пропустила два дня из-за простуды.
В то утро, когда мы отправились в кафе, была пасмурная и ветреная погода. Мы ели лимонное мороженое с орехами, много-много порций подряд, и малиновое с ванилью — его я особенно люблю.
А в это время весь наш класс писал противную контрольную по арифметике. Я лично никогда не могу решить ни одной задачи. Мы громко смеялись и злорадствовали, что так хорошо отделались от этой контрольной. Мы даже бросили наши ранцы на пол и положили на них ноги.
На другой день мне и Элли пришлось прогуливать одним, потому что у Гретхен кончился срок, указанный в записке. У нас больше не было денег на мороженое. Мы стояли на висячем мосту, мёрзли и плевали в Рейн. Мы очень боялись, что всё может раскрыться, и по глупости вынули из ранцев свои справки о болезни и в тысячный раз проверили, заметит ли фрейлейн Шней, что мы отрезали старые числа.
Под нами протекал широкий Рейн. Недавно какой-то мужчина прыгнул в воду прямо с моста — могу ли я так прыгнуть, спросила меня Элли. Я не знала, что ей ответить, но мне захотелось свалиться вниз. Когда-нибудь я это сделаю. Потом мне стало страшно — я всё время смотрела вниз на воду и замечталась до того, что у меня закружилась голова. Вода казалась серой, холодной и зловещей, в ней не было ни тепла, ни солнца, и вдруг, о боже, записка выпала у меня из рук. Я кричала, а записка плыла по Рейну. Я уронила её и нечаянно и нарочно. Я думала, что в тот момент, когда записка исчезнет, в мире произойдёт что-нибудь ужасное. Мне казалось, что что-нибудь ужасное случится и со мной, и поэтому мне вдруг захотелось, чтобы это случилось. И ещё я надеялась, что всё вокруг сразу переменится и станет интересным. Мы перестанем мёрзнуть и скучать на холодном мосту и будем ужасно волноваться. Я не знаю, почему я так поступила, мне вовсе не хотелось этого, а потом я очень испугалась, но вместе с тем и обрадовалась. Но я ни за что не созналась бы Элли, что сделала это нарочно. Она была уверена, что случилось несчастье. Мне было стыдно и казалось, что я совершила нечестный поступок, сама не знаю почему.
Сначала мы решили, что всё погибло. Но потом вспомнили, что в столе у фрейлейн Шней лежит ещё одна записка от моей матери — мама написала её, когда я пропустила неделю из-за того, что объелась цукатами. Я не чувствовала больше никакой радости, а только очень боялась, как бы всё не раскрылось. Мы договорились, что Элли и Гретхен принесут мне эту записку завтра после уроков и мне придётся вторично прогулять неделю — другого выхода не было.
Кончилась моя беззаботная жизнь. Каждое утро я должна была вовремя уходить с ранцем из дому, чтобы никто ничего не заметил. Я бродила в той части города, которая дальше всего от школы, из боязни с кем-нибудь встретиться. Ноги мои уставали, непрерывно моросил дождь. Я садилась на одинокие скамейки в некрасивых мокрых скверах, и мне больше всего хотелось плакать.
И вот однажды, когда я проходила мимо археологического музея, я увидела, что навстречу мне идёт священник Хен. Он, слава богу, очень набожный и строгий человек, взгляд его всегда обращён внутрь. Он никогда не замечает, что делается вокруг. Поэтому мне удалось скрыться в музее прежде, чем он меня заметил.
Мне было немножко не по себе, я ведь никогда до этого не была в музее, но знала, что по музеям можно ходить и всё осматривать, как в старых замках. Я даже обрадовалась, что мне не надо бегать под дождём, и решила каждый день прятаться в музее.
Сначала я побоялась подняться по лестнице и разгуливала по нижним залам. В них были выставлены разные монеты, целые кучи денег, камни, уложенные пирамидами — казалось, что Руди Книппер играл здесь в кубики, — и неинтересные стаканы и кружки. Но потом я пошла дальше и увидела необычайную вещь: стеклянный гроб и в нём настоящую мумию.
Мы с Хенсхеном Лаксом читали книгу, которая называется «Вечная тайна сфинкса», в ней всё было подробно описано, и теперь я узнала, что это правда, а тогда наша Элиза ничему не хотела верить. Я очень разволновалась. Никогда в жизни я не видела ничего более замечательного!
Ко мне подошёл служитель. У меня от страха подкосились ноги. Я подумала: сейчас он меня прогонит или запишет мою фамилию и сообщит в школу, потому что детям запрещено всё по-настоящему интересное, даже в кино ходить нам не разрешается. Но служитель был очень любезен — дёрнул меня за косу и рассказал о мумии: сколько ей лет и почему её в Египте так запеленали. Я заметила, что она немного похожа на фрейлейн Бирнак, мою учительницу музыки. Служитель сказал, что это вполне возможно. На днях, например, он до смерти испугался: ему показалось, что мумия ожила, стоит около своего собственного гроба и с интересом рассматривает его. Но когда он подошёл ближе, он увидел, что мумия всё ещё лежит под стеклом. Второй мумией оказалась старая американка. Настоящая мумия была гораздо меньше сморщена. Потом служитель показал мне ещё несколько очень дорогих картин, полюбоваться ими приезжают люди из всех стран мира. Но, по-моему, картины ничто по сравнению с мумией. Служитель согласился со мной и сказал, что мумия действительно самое интересное в музее.
На следующий день я первым делом опять отправилась к мумии и к двум гробам со скелетами, которые мне показал служитель. Мертвецам, лежащим в гробах, на дорогу в другой мир дали по монете. А ведь на небе деньги совсем не нужны, в аду же их наверняка отбирают. Было бы куда правильнее всегда давать немного денег детям.
Потом я прошла наверх, туда, где написано «Старое хранилище».
Картины, картины, картины — одни окровавленные святые. Я их уже тысячи раз видела в церкви. Картины хотя и в красках, но некрасивые. Мне понравился только «Святой Антоний, терзаемый демонами», но всё же он не такой интересный, как мумия.
Я хотела снова спуститься вниз к мумии, но попала в маленький зал и увидела там страшную картину под названием «Судный день». С одной стороны нарисованы одни лишь красивые голые девушки с жёлтыми вьющимися волосами, которых ангелы ведут в церковь, с другой стороны — страшные черти и драконы, которые тащат в ад невероятно жирных людей зеленоватого цвета. В животе у каждого чёрта нарисовано ещё по одному лицу с отвратительным красным языком. Мне стало страшно: боже милосердный, если бы я сейчас умерла, черти схватили бы меня своими огненными когтями, ни один ангел не помог бы мне — ведь я такая грешница! Мне захотелось сейчас же исповедаться, покаяться и молиться, чтобы бог помог мне исправиться и искупить мои грехи. Я невольно заплакала при мысли о том, какой я стану хорошей. «Взгляните-ка на этого ребёнка — как его растрогала живопись!» — вдруг сказал кто-то за моей спиной очень громко и на ломаном немецком языке.
Я испугалась и быстро обернулась. Передо мной стояла старая дама, она была похожа на англичанку; в воскресенье точно такая же дама каталась с нами на пароходе по Рейну. Рядом с ней стоял маленький человечек с белыми, как у пуделя, волосами. Я хотела пробежать мимо них, но дама задержала меня и потрепала по щеке. Мне так и захотелось укусить её в руку. Интересуюсь ли я живописью? «Да». Она крепко держала меня и рассматривала с таким видом, как учитель на уроке закона божьего. Мне сразу стало как-то не по себе. Только бы она меня отпустила! Сколько мне лет? «Одиннадцать». Тут она вздохнула, а человек, похожий на пуделя, положил мне руку на голову. Я этого терпеть не могу. Рисую ли я? «Да». На уроках рисования мы ведь все рисуем. «Так», — сказала дама, а маленький человек кивнул головой. Служитель говорил им, что я и вчера здесь была? «Да». Почему я такая робкая и так сильно дрожу? Нет ли у меня каких-нибудь неприятностей? «Отпустите меня!» — крикнула я. Мне показалось, что эти люди — черти, принявшие человеческий облик для того, чтобы наказать и помучить меня. Дама сказала своему спутнику, что я наверняка вундеркинд, что у меня душа художника и что тяжёлые материальные условия и грубое окружение губят, должно быть, мой талант. Тут я заметила, что дама эта вовсе не чёрт и что я ей очень нравлюсь. Но когда она меня спросила, где я живу и сказала, что хочет заняться моей судьбой, я вырвалась и убежала.
После обеда мама позвала меня к себе в комнату. По её голосу я сразу же поняла, что случилось что-то неприятное. Но случилось не неприятное, а ужасное: на нашем диване сидела дама из музея. Боже мой, зачем я рассказала симпатичному служителю, где я живу и как меня зовут? Мне стало так плохо, что даже затошнило. Ноги у меня подкосились, а мама спросила: «Эта дама говорит, что она видела тебя вчера и сегодня в музее. Как ты попала туда одна, да ещё утром?» Я хотела ответить, что это была вовсе не я, но вдруг окончательно лишилась сил. Я ничего не сказала. Мама спросила, есть ли у меня рисунки, дама хочет их посмотреть, и тут же рассказала ей, что до сих пор я рисовала только уродливых человечков на светлых обоях в спальне, да и то из озорства, и что по рисованию у меня всегда двойка. Я молчала. Тут дама вздохнула: «Бедное дитя!» — и сказала, что зарывать и губить талант преступление. Мама рассердилась, а дама крикнула, что она уйдёт, но ещё вернётся.
Зачем я только сказала маме, что пойти в музей мне приказала наша учительница фрейлейн Шней? Взрослые всегда вмешиваются в дела детей, и, конечно, она позвонила вечером Шней, прежде чем я успела испортить телефон, — я бы и это сделала, ведь теперь мне уже всё было безразлично. Мама начала говорить с фрейлейн Шней, и голос её отдавался у меня в животе, так что мне даже больно стало. Мама сказала, что она очень расстроена тем, что детей посылают одних в музей, это просто возмутительно. «Что вы сказали? Вы никого в музей не посылали? Да, но...»
Меня спрашивали, допрашивали, расспрашивали. Как взрослым не стыдно так мучить ребёнка! Звонили то от нас, то к нам, отцу Элли и матери Гретхен, и постепенно всё выяснилось. Всю ночь я не могла заснуть. Я думала о мумии и о страшном суде, и о том, что я всё же, может быть, вундеркинд, как говорила англичанка, и что меня никто не понимает. Мне пришло в голову, что если я очень сильно захочу, то смогу, пожалуй, сейчас же умереть, не дожив до завтрашнего дня, и избавиться от предстоящих мучений.
Мы сидели в комнате директрисы и ревели. Пришла мать Гретхен, моя мама и толстый господин Пукбаум. Он всё время смеялся и делал испуганное лицо, когда мамы возмущённо оглядывались на него.
Потом пришли директриса и фрейлейн Шней. Они сейчас же, с притворной улыбкой, подошли к нашим родителям, а на нас, детей, сначала не обратили никакого внимания.
Мы чувствовали себя ужасно. «Может быть, детей слишком длительное время предоставляли самим себе, вы ведь совершали далёкие путешествия, сударыня?» — спросила фрейлейн Шней. «В каникулы я с детьми была в Эйфеле», — ответила моя мама. Мне казалось, что все слышат, как стучит моё сердце. «Надеюсь, вы довольны результатами вашей экспедиции, господин Пукбаум?» — сладким голосом спросила директриса. «Что же, это можно назвать и экспедицией», — сказал господин Пукбаум. Он часто бывает в отъезде, потому что торгует вином. Но противная директриса не переставала допытываться: «Вам приходилось вступать в бой с дикарями?» Господин Пукбаум стукнул кулаками по столу: «Вы совершенно правы, они действительно дикари, настоящие дикари!» С каждой минутой наше положение становилось всё хуже и хуже. Элли начала громко плакать. «Вы собрали ценный научный материал, господин Пукбаум?» — «Э, нет, — сказал господин Пукбаум, — этого я бы не сказал. Всего лишь парочку жалких заказов. В Хунсрюкке все предпочитают пить пиво».
В конце концов выяснилось решительно всё. Мы плакали, наши матери тоже плакали. Господин Пукбаум заявил, что он не в силах больше смотреть на наши слёзы, попросил у дам разрешения принести им по рюмочке коньяку и сказал, что мы искренне раскаиваемся и нас следовало бы простить.
Все называли нас погибшими созданиями, которых необходимо отдать в исправительный дом, так как нам понадобится немало лет для того, чтобы искупить свою вину, и добавили, что подстрекательницей была я, и что они ещё придумают для меня особое наказание, а пока что нам следует отправиться обратно в класс.
Нам больше не хотелось жить, и вполне возможно, что мы бы умерли с горя. Никто не разговаривал с нами, а пойти домой мы боялись. Но когда закончились уроки, за нами зашёл господин Пукбаум. Он сказал: «Так, так, дети, плохи ваши дела. Если ты, Элли, ещё раз пошлёшь меня к индейцам в Южную Америку, то тебе несдобровать, я расправлюсь с тобой, как индеец. А если вы сейчас же не перестанете реветь, то вам всем тоже не поздоровится. Пойдём лучше в кондитерскую, выпьем по чашечке какао. У вас вид как у мертвецов». Каждой из нас он купил по пять кусков торта с кремом, который нам был крайне необходим для того, чтобы подкрепить свои силы. Постепенно мы пришли в себя. Господин Пукбаум сказал, что в воспитательных целях хочет дать нам несколько полезных советов. По его мнению, виной всему моё посещение музея и встреча со старой болтуньей, принявшей меня за вундеркинда. Лично он считает, что старинная рейнская песня — это вещь, а всё остальное искусство таит в себе большие опасности, и поэтому нам лучше обходить его стороной. Господин Пукбаум сказал, что знаком со многими людьми, которые стали нищими из-за того, что увлекались искусством. Сегодня мы на своём опыте могли в этом убедиться. А посему этот день должен послужить нам уроком.
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Вечером мама зашла ко мне в комнату и спросила: «Что это ты делаешь?» — «Как, что я делаю? — ответила я. — Я ничего не делаю». Я до смерти перепугалась и сейчас же спрятала под одеяло ноги и французский словарь. Дело в том, что я плевала на этот словарь для того, чтобы покрасить ногти на ногах в красный цвет. Словарь — в красном переплёте, и переплёт этот линяет. А мне хочется быть такой же красивой и модной, как Рена Дункель, потому что я сейчас влюблена. Рена Дункель тоже часто красит ногти на руках и на ногах. Я очень страдаю. Случается, что люди умирают от любви, — будет просто чудом, если у меня всё кончится благополучно.
Я считаю, что всегда нужно быть в полной форме, подобно древним восточным принцессам, в которых так часто страстно влюблялись. У Рены Дункель есть романы, в которых это описано. Завтра днём я хочу пойти к Тэо Самандеру, чтобы сказать ему, что я никогда в жизни не выйду замуж ни за кого другого, кроме него, потому что люблю его. Я ужасно боюсь, сердце у меня всё время бьётся как сумасшедшее. Вот уже три недели, как я собираюсь пойти к нему, но завтра пойду обязательно. Я должна это сделать, потому что поклялась Рене и Элли Пукбаум, моей лучшей подруге, что завтра совершу самый большой подвиг в своей жизни. Я им не сказала, что именно я сделаю. Но теперь они ждут большого подвига, и я должна во что бы то ни стало сдержать клятву. Для того чтобы не отступить в последний момент, я подкрепила эту клятву ужасными условиями. Вечером, лёжа в кровати, я сказала, что, если завтра не пойду к Тэо Самандеру, у меня выпадет глаз и мама перестанет меня любить, а папа обнаружит, что я тайком продала альбом с марками, которые он собирал, когда был старшеклассником. Продала я его альбом потому, что мне очень хотелось купить себе чулки-паутинки, такие, как у Гретхен Кац и у Элли Пукбаум, а тётя Милли мне всегда покупает толстые чулки в резинку.
Я дала эту страшную клятву и потому пойду завтра к Тэо Самандеру. Хотя, по правде сказать, я с большим удовольствием любила бы его на расстоянии.
Мне исполнилось тринадцать лет, и поэтому глупо и преступно обращаться со мной, как с ребёнком. Выйти замуж я смогу только через три года. Ждать ещё долго, но и это время когда-нибудь наступит. Мы будем ждать вместе с Тэо Самандером.
Я много читала в книгах и пьесах о любви и знаю, что любовь — это когда крепко обнимают друг друга. Я так и сделаю, когда пойду к Тэо. Кроме того, иногда осыпают друг друга горячими поцелуями, это мне не очень нравится. На рождество мне всегда приходится целовать всех приглашённых родственников, а они целуют меня. После этого моё лицо становится противным и мокрым, и я убегаю из комнаты, чтобы побыстрее вытереться. Взрослые думают, что я расчувствовалась, да я и правда растрогана, но всё-таки тайком вытираю лицо. Тэо Самандера мне было бы куда приятнее любить страстно, но без жгучих поцелуев.
И ещё мне хотелось бы умереть за него или принести ему большую жертву. Больше всего мне хотелось бы спасти ему жизнь. Например, вытащить его из горящего дома. Он уже в безопасности, а на мою голову падает балка, я теряю сознание, все с плачем окружают меня и опускаются передо мной на колени. Иногда, лёжа вечером в кровати, я представляю себе всё это.
Когда я приду к нему, я начну плакать и расскажу, что часто бываю очень гадкой. Я мечтаю о том, как он положит руку мне на голову, прижмёт к своей груди к станет утешать. Больше всего, по правде говоря, мне нравится момент, когда он меня утешает. Когда я об этом думаю, мне хочется плакать. «Тот, кто так плачет и так несчастен, как ты, — благородный человек», — скажет он и будет потрясён до глубины души. Он захочет меня успокоить, но я не успокоюсь, потому что я никогда не могу себе представить, что произойдёт дальше. На этом, наверно, всё интересное кончится.
Правда, мне иногда хочется, чтобы кто-нибудь с весёлой песней отнёс меня в горы, где пасутся стада овец, как в опере «Долина», когда Педро относит Марту. Но я не могу себе представить, что произойдёт в горах после того, как Педро посадит Марту на землю. Может быть, на этом всё хорошее кончится? Мне кажется, что самое красивое и благородное в любви — это отчаяние. Но мама любит моего отца и совсем не отчаивается, разве только изредка из-за меня. Я думаю, что между ними нет настоящей любви, такой сильной, как в операх или сейчас у меня. В том, что я влюблена, виновата Рена Дункель, мамина троюродная сестра. Я тоже влюбилась после того, как Рена два раза брала меня с собой в оперу. Один раз показывали «Долину», второй раз «Тангейзера», и оба раза главные партии, Педро и Тангейзера, пел Тэо Самандер. После спектаклей я не могла сказать ни слова, мне хотелось только плакать. Я мечтала стать доброй, как ангел, искоренить в себе всё злое и даже собиралась перестать есть. Но на это у меня, к сожалению, не хватило сил.
Зато я пошла к Тэо Самандеру. Я была у него. Он живёт на остановке Хохенцоллернринг, причём очень высоко. На каждом этаже я садилась на ступеньку и боролась сама с собой, я думала, не лучше ли мне убежать. Я надела светло-серый костюм Рены. Юбка была такая длинная и широкая, что мне пришлось завернуть её под жакетом в толстую колбасу. Это было незаметно, но в одном месте юбка висела. Во всяком случае, у меня был совсем взрослый вид. Мне очень хотелось попросить у Рены её лису, но Рены не было дома. В чулане я нашла старую мамину лису и надела её. Вид мой сразу же изменился. Правда, на улице при дневном свете я заметила, что мех почти совсем вылез. Мама правильно делает, что гоняется за молью как сумасшедшая. Лиса напоминает кусок старой кожи. Поэтому я, как настоящая дама, небрежно набросила её на руку.
Цветами я тоже запаслась — у меня был большой букет сирени, которую я с опасностью для жизни наворовала накануне вечером в городском парке. От волнения и в спешке я, к сожалению, нарвала одни гроздья, да к тому же мне пришлось спрятать их на ночь в гардероб, чтобы никто их не увидел. Поэтому букет получился не такой красивый, как мне бы хотелось.
На верхней площадке я нажала кнопку звонка, и маленькая женщина открыла мне дверь. У неё было чуть сморщенное лицо и большие карие глаза. Она сказала, что господина Самандера нет дома. Я чуть было не вздохнула с облегчением, но тут на меня опять нашла любовь, — любовь, за которую надо бороться до последнего вздоха. И раз я уже пришла, я решила войти в переднюю. Здесь я села на стул и сказала, что подожду его. Маленькая женщина посмотрела на меня и спросила, какое у меня к нему дело; если не очень важное, то я могу сказать всё ей, — она фрау Самандер, его жена. Я сейчас же ответила, что у меня очень важное, важнее и быть не может.
Тогда женщина ушла в другую комнату, а у меня в желудке стало происходить что-то странное и постепенно начала затекать левая нога. В квартире было душно и тесно, слышалось непрерывное тиканье часов, а на стене висел лавровый венок с золотым бантом и портрет Тэо Самандера, на котором он с улыбкой поднимает бокал. Я никогда не думала, что у него есть жена, но теперь мне это было совершенно безразлично. Я обдумала всё, что ему скажу: никогда ни одна женщина не полюбит его так страстно, как я. Он должен это понять.
Вернулась жена Тэо и спросила: «Может быть, ты выпьешь со мной чашечку чаю? Я даже не знаю, как тебя называть, на «ты» или на «вы». Я ответила ей совершенно спокойно и как взрослая, что пора бы в конце концов понять, что через три года я вырасту настолько, что смогу выйти замуж. Мне было очень жарко, надо было снять жакет, и от волнения я так и сделала, но в тот же миг моя юбка сползла вниз. Тогда я сказала, что мне страшно холодно, и опять надела жакет.
Мы пили чай, и я поперхнулась. В комнате было много красивых лавровых венков. Куда ни посмотришь, везде одни лавровые венки. На одной ленте было написано: «Божественному певцу». Я всегда знала, что он божественный. Мне жалко эту женщину, но, когда я выйду замуж за Тэо Самандера, мы заберём с собой все лавровые венки.
Жена Тэо угощала меня хлебом с малиновым вареньем. Я с удовольствием поела бы, но боялась посадить пятно на скатерть и на Ренин костюм. Тогда жена Тэо сама сделала мне бутерброд. Я решила, что ей, пожалуй, можно будет оставить два-три лавровых венка.
Я рассказала ей о школе, а она мне сказала, что у её мужа репетиция «Тристана». Она была такая милая, что мне захотелось оставить ей половину лавровых венков, ведь Тэо Самандеру всё время будут дарить новые.
Вдруг раздался телефонный звонок, и жена Тэо сказала мне, что, к сожалению, её муж не приедет домой после репетиции, а пойдёт обедать в ресторан, и оттуда сразу же на спектакль. Мне пришлось уйти. Жена Тэо очень любезно пригласила меня снова зайти в ближайшие дни.
На лестнице я решила, что мне вообще не надо никаких лавровых венков.
По правде говоря, мне вовсе не хочется снова идти к Тэо Самандеру. Я ведь уже сдержала свою клятву, теперь я хочу любить его только издали и видеть его ночью во сне.
Рена, слава богу, не спросила меня, какой подвиг я совершила. У неё и без того ужасно много забот. Но зато Элли всё время приставала ко мне. Она ещё до этого знала о моей страстной любви и восхищалась мной. Она делала за меня домашние задания по арифметике и отрывала лепестки у ромашки, чтобы гадать «любит, не любит». Я не могла ей рассказать, как всё было на самом деле, потому что я ведь не стала его женой. Поэтому мне пришлось сказать ей, что я была у Тэо Самандера, и попросить, чтобы она меня больше ни о чём не спрашивала. Элли очень разволновалась и сейчас же спросила: «Ах, как я тебе завидую! А вы с ним целовались?» Я подумала и ответила: «Нет, мы взялись за руки и пошли навстречу солнцу». Я вычитала из книг, что так делают влюблённые. «В комнате?» — спросила Элли, а я ответила: «Да, мы ходили по комнате, от двери к окну». Правда, в книгах в таких случаях всегда пишут про цветущие луга и поля. И ещё мне пришлось сказать Элли, что он стоял передо мной на коленях и пел.
Каждый день мне приходилось рассказывать Элли что-нибудь новое — моя страстная любовь становилась всё более страстной, и я представляла себе всё так ясно, как будто пережила это на самом деле. Когда я рассказывала Элли, я сама начинала верить, что говорю правду.
Но всё кончилось очень плохо. Рена не может мне помочь, — она уехала и выходит замуж за человека, у которого самая отвратительная на свете профессия: он учитель в маленькой деревне на Аре. Рена сама сказала, что будет удивлена, если этот роман хорошо кончится, но что она не может побороть своей любви. Когда я узнаю, где она живёт, я убегу к ней.
Сегодня меня вызвали к директрисе. Голова у меня идёт кругом, и я больше не могу плакать. По правде говоря, во всём виновата Элли. Она поклялась, что никогда и никому не откроет моей тайны. А потом не выдержала и рассказала всё Гретхен Кац, но взяла с неё слово, что та никому не скажет. А Гретхен Кац тоже не выдержала и рассказала всё Кордуле Миннинг и тоже взяла с неё слово никому больше не говорить об этом. Потом Кордула Миннинг передала всё Лисси Юнкланг, а Лисси Юнкланг сделала большую подлость: взяла и рассказала всё своему отцу. После этого ей запретили ходить в школу, но зато профессор Юнкланг сам пошёл в школу к директрисе и сказал, что он не может оставить своего невинного ребёнка в этом грязном болоте, где порочное существо заводит романы с каким-то тенором. Порочное существо — это я.
Я убежала из школы. Элли — вслед за мной, хотя у нас был ещё урок рисования. И вот мы сидим на скамейке в городском парке. Чтобы искупить свою вину, Элли разделит мою участь и, кроме того, обещает подарить мне свою золотую брошку. Я не хочу брать её. Ведь она ещё не знает, что я ей врала. Она думает, что мы сможем пойти к Тэо Самандеру и убежать вместе с ним. Боже милосердный!
Рано или поздно Элли узнает, что я её обманывала. Директриса и профессор Юнкланг не верят, что я всё выдумала. Меня обязательно выставят из школы. Сегодня же вечером всё сообщат моим родителям. И когда я подумаю, что, может быть, всё станет известно Тэо Самандеру и его жене, мне хочется сгореть от стыда.
Я всего этого, конечно, не переживу, ну, а если переживу, то больше никогда не буду страстно влюбляться. Никогда, никогда, никогда в жизни! Любовь — это самое ужасное, что может быть на свете. Страдания, которые приносит любовь, девочке вообще не под силу выдержать. Теперь я это хорошо знаю.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
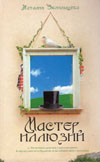
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





