ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
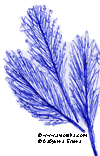
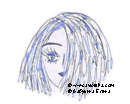
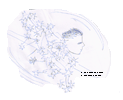
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Журавлева Зоя 1966

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В школьном буфете волнующе пахнет бульоном, кипяченым молоком, соевыми батончиками.
Одуванчики, ярые в своей желтизне, пьют из литровой банки воду с сахаром — чтобы дольше стоять. В окна лезет май.
С белой стены подмигивает рыжее бритое солнце, с ухмылкой пятиклашки, в облаке набекрень — вместо берета. Солнце, похоже, прогуляло все пять уроков в березовом раю, в том самом, что на другой стене, прямо за спиной тети Шуры — буфетчицы.
— Разрисовали, что тебе цирк, застрелись... — несердито ворчит тетя Шура. Она от полноты жизни ворчит. Когда в весенние каникулы смывали зимний рисунок и наводили свежий, тетя Шура банным листом ходила за девятым «б», художниками. Просила за солнце: «Рожу-то ему повеселей начертите, ребята. Чтобы смеялось, застрелись оно совсем!»
Тетя Шура жизнь прожила под багетом с «Мишками» и никак не давала их выносить, когда по-новому оформляли. Грозилась: «В другую школу уйду!» Потом вошла во вкус. Говорили, будто даже свою собственную комнату перекрасила в четыре цвета.
— Темная была, как бутылка, — наговаривает на себя тетя Шура.
У окна за столом ложками рвут сардельки словесник Елена Федоровна, полная, в глухом костюме, и Зинаида Петровна, математик. Зинаида Петровна вся состоит из прямых тонких линий, пересеченных под острым углом. Она считает, что ее можно выразить алгебраической формулой. Только Зинаиде Петровне некогда этим заняться. Вот выйдет на пенсию и займется. Она уже года четыре выходит.
Волосы Зинаида Петровна красит так удачно, что девочки из десятого «в» — кто-кто, а они в этом деле доки — подходили в неофициальной обстановке, спрашивали — красит или свои? Надо же, ну ни капельки не похоже! А чем? Надо же, большая химия! А губы — никогда? Ну а чуть-чуть? Надо же!
Голос у Зинаиды Петровны широкий, густой, будто вся она в голос ушла.
— Логический провал, — гудит Зинаида Петровна. — Уроки хороших манер ввели, а в буфете ни одной вилки. Не говоря о ножах...
— Да не все уж сразу, Зинаида Петровна, — объясняет Елена Федоровна, запивая непринципиальные разногласия крутым чаем. У Елены Федоровны округлый, приятный разговор, с чуточной волжинкой. По утрам она просматривает газеты и мысленно подчеркивает слова, трудные старшеклассникам: ингредиент... дискредитировать... Джеты-Огуз — поселок, кажется... Как бы ни была интересна книга, стилистические ошибки так и лезут, выпукло, со страниц. Глаза у Елены Федоровны острые, с легким прищуром — от тетрадей.
— Противоречие, — гудит Зинаида Петровна. — Это, знаете, я на выставке достижений прочитала, в отзывах: «Наши инженеры освоили выпуск сложных электронных машин, а обыкновенного фломастера в магазине не купить».
— Неумно, — говорит Елена Федоровна, — и наверняка чужой фамилией подписался. Не в вилках счастье.
— Не скажите, — гудит Зинаида Петровна, — как мы можем воспитывать у них хорошие манеры...
— Манеры... — ворчит тетя Шура, — одна у них манера, застрелись, — руками хватать...
— В конце концов, — говорит Елена Федоровна, — без той определенной суммы знаний, которую мы им даем, никакие манеры...
— Святой Ильф! — с порога возмущается Ирина Витальевна. — И тут урок! Битых два часа просидела со своими, а Валеева все равно пишет: «пелка», «пегает».
— Да уж с Валеевой — ясно, — говорит Елена Федоровна. — На второй год так или этак.
— Сегодня мамонта поминали, — говорит Ирина Витальевна, — я на нее смотрю: знает? «Знаю, — отвечает, — слоны такие, они еще до человека перемёрли. Мамонт большо-о-ой такой, у него даже хвост, — и так меня оценивающе оглядела, будто измерила, — даже хвост намного больше вас...»
— Ну девка, застрелись! — охает тетя Шура.
— Если бы вы знали, — мечтательно гудит Зинаида Петровна, — как старший Валеев, в девятом «г», чувствует пространство, просто удивительно!
— Вам, конечно, виднее, — не уступает Елена Федоровна, — но переводить девочку во второй класс без знания звонких согласных я бы не рискнула.
— Старший Валеев потруднее был, — говорит Ирина Витальевна и рассеянно оглядывает витрину. — Чего-нибудь, немножко...
Тетя Шура играет на счетах, отщелкивает Ирине Витальевне винегрет — для аппетита, пожарские котлеты (как ни назови — все едино: киевские, пожарские, московские, лучше в нас, чем в таз), чай с тройным лимоном — как только люди пьют такую кислять? — и на костяшку хлеба; отчитывает Ирину Витальевну:
— Рано тело теряешь, Ириша. Вы, учителя, все темные, как бутылки, бёгом кушаете. Хоть бы на Елену Федоровну покосилась, за примером и ходить недалеко.
— Да уж не так сказала, тетя Шура, — смеется Елена Федоровна, подвигая себе под бок второй стул; ей только на диване удобно, хоть бы додумалась мебельная промышленность до полуторных стульев, честное слово. — Я до первого своего худющая была, прямо рыбья кость. Муж обижался — мол, с тобой ходить, будто с тенью, места вовсе не занимаешь.
— Все большие философы сухощавы, — отвлеченно гудит Зинаида Петровна, — ничто так не изнуряет тело, как сосредоточенная мысль.
— А парень родился, — говорит Елена Федоровна, — в зеркало погляжу, и реветь: талию жалко, себя, тощую, прежнюю, жалко до невозможности. Врачи сказали: только второго завести. Будет девчонка — похудею, ну а парень — тогда всё, сильнее разнесет...
— Васька и народился? — догадывается тетя Шура. И шикает на дверь, в которой торчат полпередника и триста грамм любопытных веснушек на коротком носу: — После придешь, застрелись! Учителям без вас и куска не съешь!
— По улице иду, — вздыхает Елена Федоровна, — и непрерывно себя чувствую, словно из каждого окна смотрят: куда такая бомба?
— Чистая психика, — гудит Зинаида Петровна. — Вы, Елена Федоровна, вполне в геометрических пропорциях.
— На базаре, говорят, уже свежие огурцы, — мечтает над винегретом Ирина Витальевна.
— Три пятьдесят кэгэ, — подтверждает Елена Федоровна. — Это Васька у меня, никогда «килограмм» не скажет — всё «кэгэ», «кэмэ». «Давай, говорит, мулька, каждый вечер по десять кэмэ на велосипеде, авось пару кэгэ и сбросишь...»
— У меня через раз шли, — говорит тетя Шура, — девка — парень — девка и опять же парень. Подряд, что ли, вредно для организма?
— Внутренняя секреция, — гудит Зинаида Петровна, отодвигая тарелку, на которой почти не убавилось. — Нет лучше учителя, чем старая дева. Так что для вас, Ириночка Витальевна, все уже потеряно.
— Муж читал где-то, — вспоминает Елена Федоровна, — не то в «Англии», не то в «Америке»: как девушка замуж выходит, ее отстраняют от преподавания.
— По логике вещей — разумно, — гудит Зинаида Петровна. — Только где нас взять столько?
— У меня Юкка, правда, в экспедицию ехать надумала, — говорит Ирина Витальевна.
— Вашей Юкке надо развивать пространственное воображение...
— И так воображает достаточно...
— Вашей сколько? — спрашивает Елена Федоровна. — Шестнадцать?
— Послезавтра стукнет, — говорит Ирина Витальевна.
— Да уж невеста, — говорит Елена Федоровна. — А самой-то?
— Тридцать три, — говорит Ирина Витальевна.
— Рановато, — говорит Елена Федоровна.
— Конечно, — соглашается Ирина Витальевна и смотрит прямо на Елену Федоровну зелеными глазами.
«Ты не смотри на меня зелеными глазами, — говорит Юкка, — я, честное-честное, правду сказала». Обычно глаза у Ирины Витальевны черные, удлиненные, как у персидской княжны.
— Палька Волков четвертый день не обедавши, — громко сообщает тетя Шура. У тети Шуры, опытной буфетчицы, абсолютный слух на всякий разговор, даже шепотом. — Деньги обедошные не для хорошего копит...
— Недляхорошего? — механически переспрашивает Ирина Витальевна.
— Еще стаканчик? — сомневается Зинаида Петровна. — Шура, сделайте нам грамм двести «Каракума»!
— Спасибо, я уже, — отодвигается Елена Федоровна.
— Волков ребятам ляпнул: «Коплю, идиот!» Самому про себя ловчее видать, не ошибется.
— Я сказала своему старшему: иди в педагогический, — говорит Елена Федоровна, — конспекты оставлю, библиотека такая роскошная, сколько сил съела. Иди на литературный факультет. И Васька тут стоит, как же без него. Ничего не ответили, только дико захохотали: нам, мол, и одного учителя в семье хватит.
— Мужики — они все темные, как бутылки, — говорит тетя Шура.
— «Идиот» — это не Палькино слово, — соображает Ирина Витальевна. — У него самое-рассамое «гадский глаз».
— Два дня с ними не разговаривала, следом ходили, извинялись. «Мы, говорят, мулька, тебя очень уважаем, тебе, говорят, памятник надо поставить. Только какой же нормальный парень по собственному желанию в пе́дик пойдет?»
— Его не его, а вот этими ушами словила, врать не буду.
— Берите, девочки, «Каракум», добрее будете!
— Да уж Волков из всего класса самый тяжелый, совершенно не умеет работать в системе, — говорит Елена Федоровна. — Спрашиваю стихотворение о весне, а он: «Я про весну не учил. Я хочу про осень, у меня осень — любимое время года».
— Конфеты сейчас из какой только дряни не делают, застрелись. Я лучше полкило сахару съем.
— Если бы у вас, Ириночка Витальевна, было математическое мышление, вы бы сразу догадались, — гудит Зинаида Петровна. — Ваш Волков сказал: «Куплю диод».
— Вот я и говорю, — подтверждает тетя Шура.
— Так он у меня за «весну» с двойкой и сидит...
— А вы, девочка, гуманитарий, это логично, — гудит Зинаида Петровна.
— Я — всё! — возражает Ирина Витальевна. Она, действительно, всё — в первых четырех классах она бог-отец, бог-сын, бог — дух святой. Четыре года ведет она сорок своих маленьких человек — от алфавита до умножения и деления. Четыре года... Это немалый срок, если у тебя в классе и смышленые от природы, острые умом, любопытные донельзя, к которым школьная наука липнет сама, как бумага к гуммиарабику. Если у тебя в классе обязательно несколько «дундучков», таких, как Валеева, с редкими — пока! — проблесками, туповатых от воспитания, невнимательных, без музыкального слуха: никак не может отличить «пелку» от «белки». И все-то у нее «пелка пегает»...
— Не думаю, чтобы у него хватило терпения на что-нибудь серьезное, — не отстает от Пальки Елена Федоровна. Она теперь классный руководитель пятого «а», Палька — ее камень преткновения.
— Диод — это деталь приемника, — объясняет тете Шуре Зинаида Петровна. — Волков и у меня на тройках ползет, а смелая голова, смелая...
Про первый класс говорят: «перваши», «первачки». Потом — незаметно — второй, третий, четвертый... Ребята вырастают и уходят дальше — по лестнице из классов. Они переходят в пятый, становятся «пятаками», уходят к другим учителям, увлекаются диодами, транзисторными приемниками, всякой разной техникой. А для Ирины Витальевны они все равно свои, Ирина Витальевна ломает голову, на что копит «обедошные» деньги Палька Волков. И всерьез просит Зинаиду Петровну, технического человека, физика, математичку:
— Поучили бы, что ли, — говорит Ирина Витальевна, — не угнаться за пятаками.
— Да уж они к вам, Ирина Витальевна, очень сильно привязаны, — говорит Елена Федоровна. — По-моему, они к вам на всю жизнь сохранят теплое чувство.
— Надо вас поучить, — соглашается Зинаида Петровна. — Уровень гуманитариев всегда был показателем культуры нации. Еще в Древнем Египте...
— Ирина Виталевна! — кричат далеко в коридоре.
— Безобразие... в середине урока... — говорит Елена Федоровна.
— Ирина Виталевна! — влетает в буфет мальчишка, горячий от лапты и от солнца, в крепких ссадинах и в первом, лыжном еще, загаре. — Вас внизу тетенька ищет!
— Ты, Викулаев, почему не на уроке? — спрашивает Елена Федоровна. Но она спрашивает пустоту: его уже и след простыл, и ни одна половица под ним не пискнула.
— Чисто оборотень, — несердито ворчит тетя Шура.
— Бегу! — запоздало отвечает Ирина Витальевна и, пока идет к двери и еще немножко уже за дверью, все слышит Зинаиду Петровну:
— Под всей нашей техникой я чувствую глубокую философскую платформу. И платформа эта по сути своей гуманитарна. Отсюда такие успехи теоретической физики, теоретической астрономии. Вот нейтрино...
2
Голос Зинаиды Петровны, растекаясь коридором, теряет густоту, убежденность и, обесцвеченный, растворяется без остатка. Ирину Витальевну обступают другие, рабочие шумы, из которых складывается школьная тишина середины урока:
«...происходит присоединение водорода по месту разрыва двойной связи...» — и потом несколько шагов почти бессловесных, пока не попадешь в зону притяжения другого класса:
«...деклинире дизес зубстантив! Деклинире дизес зубстантив!» — мощным шквалом несется через закрытую дверь, стена, кажется, вибрирует, и воздух прогибается в коридоре, — так весело, так дружно. И сразу стойким безусловным рефлексом в памяти Ирины Витальевны вспыхивает: «Анна унд Марта баден, вир фарен нах Анапа». Единственное, что удержалось сквозь годы. А сзади догоняет уверенное: «Конъюгире дизес верб, конъюгире...» Так что всего два шага укладываются в относительную тишину. И уже другое:
«...из внешних признаков крупного рогатого скота обращают на себя внимание рога...» И трудная пауза. И чье-то сорвавшееся, не успевшее под учительскую фразу: «Хи-хи!» У Ирины Витальевны немеют руки всегда, если волнуется.
«...они находятся на костных выступах черепа и внутри полые...» — и снова пауза. Что-то не пускает Ирину Витальевну дальше. Ребята между собой зовут биолога «Клавди́я», ударяя на «и». Будто сама так представилась: «Клавди́я Васильевна». Она читает им морали-тянучки: «Напрасно вы, девушка (юноша), надумали идти учителю в противовес, это до добра не доводит». Долбит по учебнику, буква в букву. Учебник составлен бездарно.
«...рога служат для защиты от хищников...»
Ирина Витальевна стряхивает с себя усыпляющий голос, вырывается из него. Летят мимо классы. Литература — геометрия — рисование — русский, наполняя коридор, сливаются в обычную школьную тишину. Невнятно попискивают половицы.
Внизу никакой тетеньки нет. Только завхоз Евдокия Романовна, наступая на мальчишек плоской широкой грудью, выталкивает их из коридора на крыльцо. Мальчишки рвутся в школу, бьют себя в грудь, приводят доводы:
— Собрание же назначено!
— Зинаида Петровна искать будет!
Завхоз молчаливо теснит их, добираясь до крюка. У завхоза трудная судьба, в которой нет места ни мальчишкам, ни девчонкам. Завхоз любит картины со счастливым концом, как можно счастливей. Если и поговорит, то о кино.
— Евдокия Романовна, «Два воскресенья» смотрели? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Чепуха, — говорит завхоз. — Девка деньги — фють! А могла шубу купить. Нечего и глядеть...
— Евдокия Романовна, — просит Ирина Витальевна, — подождите минуточку закрывать. Я только взгляну...
На крыльце тоже нет тетеньки. И во дворе не видать. Только девчонки на бревне, уложив на колени передники, чинно играют в города. Девчонки малы и самостоятельны, в городах они эрудиты.
— Баку! — кричит первая, она там родилась, и это точно.
— Украина... — ощупью находит другая.
— Дурочка, это же страна, — снисходительно поправляет первая и косится на Ирину Витальевну. На Украине у девчонки мамин брат, и это точно.
— Урал...
— Другое дело, — соглашается первая. — Лы... лы... лы... Ленинград!
— Тамбов! — легко находит другая. В Тамбове живет мамина сестра и ихний Валера. Это точно. Ирина Витальевна возвращается к крыльцу.
— Проведите! — канючат мальчишки.
— Тетрадку забыл, — врет один.
— Дома чего делать? — откровенничает другой. — Мамка с работы еще когда-а-а придет...
Хорошо, что человек рвется в школу просто так, плохо, что невозможно их всех пустить, ни пяди свободной, с дундучками негде присесть, обе смены забиты.
— Мы — тихонько, — обещают мальчишки.
— Вот урок кончится, — обнадеживает Ирина Витальевна.
— Нагулялась, Виталевна? — говорит завхоз и непримиримо брякает крюком перед мальчишками. — Только сор таскают.
— Чужих не видали? — успевает спросить Ирина Витальевна. — Женщину?
— В синем платке? — кричат с крыльца.
— В красных босоножках? — кричат с крыльца.
— Давно бы сказала, — говорит завхоз. — Наверх пошла...
Лестница в школе широкая, с низкими выбитыми ступенями. Над лестницей, по-современному, без рам, раскачиваются Тургенев, Толстой, Достоевский и другие, кого надо знать. На площадке висит «Прожектор»: длинный коммунарский поезд нацелился на Москву, а в другую сторону, под откос, катится зеленый вагон. На вагоне крупно: «9-г». Из окон торчат безответственные рожи. Текст суров и принципиален:
«18 мая «9-г» в полном составе сбежал в кино с урока биологии. Позор «9-г»! (комсорг Д. Валеев). По правилам соревнования за этот безобразный поступок с «9-г» снимается 20 очков».
Рядом приписка — мелко, химическим карандашом: «Не видать Москвы позорникам из 9-г!» И еще рядом: «Закрой варежку!»
Летом коммунарский отряд-победитель премируется поездкой в Москву. Девятый «г» был претендентом из первых.
В лестнице до площадки семнадцать ступенек, а после площадки еще двадцать. Ирина Витальевна наступает на каждую, хотя можно и через одну. Считает ступеньки особым счетом, как ее первачки научили, вместо «раз!» — слог модной припевки:
Как у бабушки Татьяны
завелися тараканы,
стала бабушка считать:
раз, два, три, четыре, пять!
— Как!-у!-ба!-буш! — считает Ирина Витальевна, отбивая шаги. И в этот четырехступенчатый ритм сами собой, легко, укладываются стихийные мысли, обо всем сразу, как всегда на ходу.
— Ки!-тать!-я!-ны! (Как она жадно спросила: «А вашей? А вам? Рановато!» И глаза почти убрала. Значит, невтерпеж хотелось. Значит, и сейчас перемалывают за спиной ее, Юкку. Значит, все-таки стойко держится еще в учительской мещанин, махровый, уверенный только в своей непогрешимости...)
— За!-ве!-ли!-ся! (Была просто девчонкой, второй курс филфака, без особых забот, со смутными ожиданиями. Получала веселые письма от старшего брата, мелиоратора, из Ашхабада: «Дайте мне воду, и я завалю мир дынями». Письма без нотаций, от самого близкого человека. Потому что был брат — за отца и за мать, за всех сразу, остались вдвоем с ним после блокады, так уж получилось...)
— Та!-ра!-ка!-ны! (Сейчас в любом справочнике: «Ашхабад был сильно разрушен землетрясением 6 октября 1948 года». Уже — история. А тогда просто пришло письмо незнакомым почерком, на общежитие, от соседки брата. Мол, погиб, и жена тоже, поздно откопали, а девочка ихняя — живая, Юлечка. Пока, мол, живая, слабенькая только очень, известно — грудное дите без родителей...)
— Ста!.. (В такие минуты раздумывать не приходится — как лучше, правильно ли. Просто — делаешь, иначе не можешь. Заняла денег на самолет, забрала Юкку, уехала с ней подальше в деревню, на молоко, в сельскую школу, на первые свои трудовые хлеба...)
И вот Юкке уже шестнадцать, послезавтра. И никто ничего не знает, кому не нужно знать. Юкка зовет ее «мамой», и она любит Юкку. И Юкка любит ее. И все прекрасно. А о филфаке глупо жалеть. Вся эта филологическая схоластика — Руслан со своей Людмилой, Меджнун со своей Лейли, Витязь со своей Тигровой шкурой — было бы что жалеть...
Ирина Витальевна чувствует, что стоит на площадке. Навстречу спускается женщина в синем платочке, в красных босоножках. Все верно. Тетенька...
— А я уж забегалась, Ирина Виталевна! Такой на вас спрос, никак не поймаю.
— Лидия Осиповна! — радуется Ирина Витальевна. — Никак вас не ожидала в такое время...
— Пришлось отпроситься, — говорит женщина и медленно улыбается. Лицо у нее отдельно — черное, жесткое. Улыбка отдельно — неумелая, мягкая. Если бы это лицо и эта улыбка могли объединиться, женщина была бы красивой.
— А и похудала, Ирина Виталевна, — качает головой женщина.
— Откормлюсь, — обещает Ирина Витальевна. — Вы тоже не поправились.
— С чего бы? — говорит женщина. — Вчера снова дружков навел, бутылки сдали, у соседей занял, сегодня проспал в завод.
— А местком? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Ну, вызвали, пристыдили, а дома того хуже стал. Вчера Саньку снова ремнем иссек. Пришла, дак парень и сказать ничего не вяжет, дрожит весь...
— За что?
— Санька в сочинении, в классном, что ли, опять свое «димуш» написал. Это, небось, на всю жизнь осталось, не отучу. Вроде у него отвращение получилось к «почему». Диму́ш да диму́ш...
— И не надо его носом тыкать! Это у нас уже свое, классное словечко. Никто «почему» не скажет, всем Санькино «димуш» нравится...
— Так-то так, да Елена Федоровна за обиду посчитала. Вроде он нарочно. В тетради все перечеркнула и в дневник записала. Парень дома с душой дневник выложил, а у отца уже мозги залило: «Дефективный! В девятую школу переведу, к таким же!» Когда я пришла, дак парень зашелся весь, слова не может...
— А я закрутилась сегодня, никого не видала из пятаков.
— Оно бы ладно, — говорит Лидия Осиповна. — Саньке вчера завуч приказала: «Двадцать пятого будь с матерью в гороно. Комиссия обсудит твое дело».
— Ничего не понимаю, — говорит Ирина Витальевна. — Опять насчет телефона? Какая комиссия?
— Я сейчас у завуча была, да не поняла. Какая-то комиссия из родителей, городская. Это, говорит, не для вашего сына, это для воспитания других родителей. А Санька ночью к Симушке подлез и шепчет в ухо: «Симуш, если меня еще куда поведут обсуждать, я прямо не знаю, чего сделаю!» Утром до еды не дотронулся, все молчком, дневник вовсе забыл либо нарочно оставил. А она говорит — для других, назидание...
— Так, — говорит Ирина Витальевна.
— Если бы Симушку куда вызывали, я бы слова против не сказала. Хоть сто раз, если надо. Да парень, уж как вам не знать, Ирина Виталевна, нервный, едва оттаяли, спасибо вам. Он мне еще после того родительского комитета, серьезно так: «Я, мама, вот, — и рукой себя по шее чиркнул, — вот так все понял! Только ты мне, говорит, больше не напоминай никогда».
— Хорошо, — без выражения говорит Ирина Витальевна, — ладно.
— А сегодня как раз сменщица с отпуска вернулась, удобно вышло отпроситься. Мастер видит — надо. Сразу по человеку видать, если сильно надо...
— Я вам обещаю, Лидия Осиповна, — говорит Ирина Витальевна, каждый слог у нее отдельно стоит, будто говорить не умеет, — я обещаю, что Саню больше теребить не будут. И в партком обязательно сходим. Или я одна схожу, как хотите.
— Все равно, видно, с ним не жить, — медленно улыбается женщина. Лицо у нее отдельно, улыбка отдельно. — Мне, главное, парня...
— Парень будет в порядке, — говорит Ирина Витальевна. Она шагает вверх через две ступеньки, ни о чем не думая, до самого кабинета директора. Бывает такая злость, что ни одной мысли. Чистая злость.
За директорским столом, лицо в ладони, сидит завуч старших классов Маргарита Сергеевна. По кабинету ходит девушка из Горэнерго, только-только выпускница и потому отчаянно серьезная.
— Три месяца назад подавали, — говорит завуч.
— Не знаю, как получилось, — удивляется девушка. — Нам в отдел сегодня утром передали заявку, и я сразу пришла.
— Понимаете, какая ситуация, — говорит завуч, — школа еще осенью приобрела светильники, и до сих пор не можем повесить. Нам нужно компетентное обследование...
— Я дам заключение, — заверяет девушка.
— По нормативам полагается в классе шесть ламп по триста ватт, — объясняет завуч, — но мы вынуждены заниматься при ста пятидесяти. А у нас переходный возраст, много с ослабленным зрением...
— Я понимаю, — заверяет девушка.
— На свой страх и риск мы приобрели светильники, — говорит завуч, — и вот до сих пор не имеем возможности...
— Проводка старая? — спрашивает Горэнерго.
— Довоенная, вместе со школой, — говорит завуч.
— Боюсь, что не выдержит, — вслух размышляет Горэнерго, — нужно проверить всю сеть. Если на каждый класс триста... на шесть... Сколько у вас классов?
— Двадцать один...
— Тысяча восемьсот ватт помножить на двадцать один класс, — считает Горэнерго, — итого, получается тридцать семь тысяч восемьсот ватт. Очень боюсь, что не выдержит. А кабинетов?
— А где же Данова? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Потом, Ирина Витальевна, потом, — машет завуч. — У нас с товарищем исключительно серьезный разговор. Ситуация такова, что, может быть, наши новые светильники... Простите, четыре кабинета и мето́д.
— Скоро придет? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Тысяча восемьсот ватт помножить на пять кабинетов...
— Улетела Данова, — объясняет завуч Ирине Витальевне, — двухчасовым. Совершенно неожиданно, с матерью что-то случилось, даже доклад для гороно не успела подготовить. Прямо не знаю, как я выдержу эту нагрузку.
— Рита, у тебя Покровская была? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Да, многовато, многовато получается. Какие еще помещения?
— Какая Покровская? Еще швейные мастерские, столярная. Мы лучше с вами пройдем. А-а-а-а, родительница... заходила. Из гороно звонили — обсуждение состоится двадцать пятого, так что никаких эксцессов.
— Обсуждение нужно отменить, — говорит Ирина Витальевна, — Санька психует, обязательно надо отменить.
— ...к тридцати семи тысячам восьмистам ватт прибавить то, что в кабинетах да в мастерских...
— Это от нас не зависит, уважаемая Ирина Витальевна, — говорит завуч. — Я прекрасно помню, что Покровский — твой эксперимент, но, поверь, это от нас не зависит. А ему только полезно.
— Получается около пятидесяти тысяч ватт. Конечно, проводка не выдержит...
— Я знаю семью. Поверьте, Маргарита Сергеевна: ничего, кроме вреда, это разбирательство не принесет.
— Относись к детям проще, Ирина. Они уже в пятом классе, они уже отходят от тебя. Я понимаю, трудно с этим примириться. Но мелочная опека...
— Если только чертежи сохранились... Товарищи, у вас сохранилась документация?
— Вся история с телефоном была насильственно раздута. Вы это не хуже меня знаете, Маргарита Сергеевна.
— Нет, чертежи, к сожалению, погибли в войну. Простите, Ирина Витальевна, здесь не время и не место для такого разговора. Ваши намеки не имеют под собой никакой почвы.
— Ладно, — говорит Ирина Витальевна, — мы продолжим разговор, когда вы освободитесь.
— Уверяю вас, Ирина Витальевна, это от нас не зависит, мы с вами не можем координировать работу гороно.
— А учительская у вас на сколько ватт?
3
Учительская до отказа забита столами, угластыми шкафами, смягчена старым диваном, на котором отводят душу, приводят в чувство и выводят за год. На шкафу, самом угластом, забыт земной шар почти в натуральную величину, щедро присыпанный пылью в районе Северного полюса. В дареной вазе распускаются указки. Колюче каменеют кактусы, их не поливали всю зиму, прикрываясь их засушливым происхождением. На самое видное место выбился древний плакат: «Запомни особенности: ткач — ткацкий, казак — казацкий». Доска приказов украшена строгим выговором и двумя благодарностями. Репродуктор-динамик, перекрученный чьей-то твердой рукой, молчит вторую неделю. Последнее, что он успел изречь, было литературной передачей: «...образ одинокого утеса и посетившей его золотой тучки...»
— Классический пример морально-бытового разложения, — сказала тогда Ирина Витальевна. Это решило судьбу динамика.
Учительская до времени пуста. Только тяжелые педагогические портфели, столь любимые малышами и тайно осмеянные старшеклассниками, давят на стулья. Да проливается на казенный кумач строптивая непроливайка. Сверху на этот рабочий беспорядок одобрительно посматривает Карл Маркс, лукавый от художника и от солнца. Солнце собирается заходить, ему пора.
Ирина Витальевна, в одиночестве, крутит тугой телефонный диск, вызывает гороно. Никто, естественно, не подходит, потому что рабочий день кончен. Ясно, что никто и не подойдет.
— Есть живая душа? — просто так спрашивает Ирина Витальевна, прежде чем положить трубку.
— Есть! — неожиданно отвечает трубка близким голосом.
— Здравствуйте, — говорит Ирина Витальевна, — простите, что поздно.
— Добрый день, — отвечает трубка. — Я уже с лестницы услышала. До того не хотелось возвращаться. А кто говорит?
— Это из четвертой школы, Тимофеева, — представляется Ирина Витальевна, — учительница начальных классов.
— Тимофеева… — соображает трубка. — А-а-а, я вас помню. Это вы на чтениях выступали с крамольно-психологическими тезисами? Что надо воспитывать вопреки семье. Еще налетели на вас...
— Конечно, — говорит Ирина Витальевна, — бывает ведь, что семья безнадежна. Никакого учителя не хватит, чтобы воспитать сначала бабушку-дедушку, а потом уж... Лучше сразу с ребенка начинать. Вы согласны?
— Применительно к вам, насколько я знаю, — согласна...
— Надо доверять такту учителя...
— Верно, конечно, — соглашается трубка. — Тут каждое неточное движение... У меня случай был, если вам интересно. Просила седьмой класс подготовиться к опросу по русскому. И вот парень — кстати, умница, но (увы нам!) второгодник — исписал две тетрадные обложки. А я не спросила. Он даже руку поднял, а я не поняла. И потеряла парня на целых два месяца.
— Очень понимаю, — говорит Ирина Витальевна. — Мне раз такого подсадили в четвертый, пятнадцатилетнего. Захожу в класс, а у него шариковая ручка. У тебя, говорю, ручка не ученическая, и даю ему ручку с закрытым пером. Развалился: «Я к шарику привык!» Это меня не касается, говорю, мне нужно, чтобы ты писал ученической. И по глазам вижу — если не возьмет, ничего у нас с ним не выйдет.
— Взял? — спрашивает трубка.
— Минуты две кривлялся — взял. Веду урок, а руки дрожат.
— У вас интересно в школе? — спрашивает трубка.
— Тысяча триста душ... Всяко... Вон завтра «Карандаш» будет, битком.
— Что? — не понимает трубка.
— Клуб старшеклассников, — объясняет Ирина Витальевна, — в зале уже карандаш висит во всю сцену, острый, а на нем: «Книга — книгой, а мозгой двигай!»
— Гм! — говорит трубка.
— Простите, — говорит Ирина Витальевна, — а я ведь так и не знаю, с кем говорю.
— Елистратова, — говорит трубка. — Я тут как раз дела принимаю.
— Значит, вы мне не сможете помочь, — огорчается Ирина Витальевна.
— А что случилось? Почему не смогу?
— У нас в пятом «а» есть такой ученик — Саня Покровский. У него два месяца назад была неприятная история — ничего страшного, просто заскок. Теперь это хотят вынести на городскую родительскую комиссию. По-моему...
— Считаете — лишку? — размышляет трубка. — Уверены?
— Ручаюсь, — говорит Ирина Витальевна.
— А Данова что считает? — говорит трубка.
— Дановой сейчас нет, у нее с матерью что-то...
— Правда, как я забыла, — сокрушается трубка. — Мы же ей сегодня обкомовскую бронь доставали. Очень трудно улететь.
— Думаю, она бы поняла, — говорит Ирина Витальевна.
— Я этого дела не знаю, — говорит трубка. — Но уверена, что можно вашего Покровского заменить, случаев в городе, к сожалению, хватает. Если, конечно, докажете...
— Я завтра приду после уроков, — говорит Ирина Витальевна, — я только хотела договориться...
— Считайте, что договорились, — заканчивает трубка. — И меня заодно прихватите на «Карандаш». Я, кажется, сегодня совсем не уйду — в соседнем кабинете трезвонят.
У Саньки Покровского желтый, диковатый взгляд и жесткая черная челка.
Санька начал говорить на четвертом году, с последних слогов. «Ко!» — говорил он, и это значило что угодно: молоко, петух, далеко, близко. «Ти!» — говорил Санька, и это вмещало уйму глаголов.
Отец кричал матери: «Спасибо! Родила придурка!» Исчезал из дому на недели. Лидия Осиповна работала в две смены, плакала по ночам, почти не понимала сыновьих рваных рассказов. Санька силился сказать доступно, длинным желтым взглядом смотрел на мать. Мальчишки тыкали в него пальцами: «Гы!» Девчонки сторонились. Санька буйно дрался.
В школу его привели силком. Гневно, глядя в лицо Ирине Витальевне, Санька говорил тарабарское, жестикулировал, отбивал ногой невнятные такты. Ирина Витальевна еще никогда так не хотела понять. Слушала, тяжелея Санькиной болью. Будто от этого зависела жизнь — понять. Как опалило: «Ведь он ругает меня, его же насилу притащили!» Улыбнулась Саньке: «Погоди! Может, я еще и не такая плохая!»
Санька остался в классе.
Его отвлекало все: машина под окном, шаги в коридоре, картинка в букваре. Ирина Витальевна сидела с ним вечерами, когда школа затихала. Учила Саньку читать: одно белое слово на черной доске. Только тогда слово ложилось намертво. Прочитанный урок Санька запоминал наизусть — где какое слово. Поэтому каждый день брали новый текст. Письмо давалось легче.
Зимой к первачкам Ирины Витальевны пришла комиссия. Санька не ответил ни на один вопрос. На каждом уроке поднимал руку: «Мо мо ти у олеги?» «Можно мне пойти в туалет?» — понимала Ирина Витальевна и отпускала: «Конечно, Саня».
Комиссия в один голос решила: этого ребенка не научить!
Врач нашел у Саньки острое расстройство нервной системы, велел сделать перерыв. «Придется отдохнуть, Саня», — сказала Ирина Витальевна.
— Годик отдохнешь, — вздохнула мать, — окрепнешь. Не знаю только, какая учительница попадет...
— Диму́ш? — спросил Санька.
— Потому что Ирина Витальевна через год будет уже учить второй класс...
Когда мать ушла на работу, Санька хозяйственно собрал тетрадки, комнату запереть забыл.
Вошел в класс посреди урока, ничего не говоря, стукнул мальчишку, который сидел на его месте, сел, опустив голову, вцепившись в парту обеими руками. На следующий день самозабвенно пересказывал Ирине Витальевне «Козу-дерезу»:
— Ду, ду ногах, нешу кошу плечах, кочу кожу почечи, тупай кожа печи!
На перемене Елена Федоровна, учительница старшей Санькиной сестры Симы, спросила у него, знают ли родители, что Серафима Покровская часто пропускает занятия. Если не знают, то пусть Санька скажет. Близко глядя в глаза учительнице, Санька говорил горячо и долго, отбивая такт ногой. Учительница отвела Ирину Витальевну в сторону, попросила перевести.
— Он говорит, — сказала Ирина Витальевна, — что вы обо всем можете сами спросить его маму, а передавать он ничего не будет, он не доносчик.
— Надеюсь, вы это так не оставите? — спросила Елена Федоровна.
— Я с ним совершенно согласна, — сказала Ирина Витальевна.
— Как? — не поняла Елена Федоровна.
В первом классе Ирина Витальевна и нашла для Саньки ругательно-ласковое: «дундучок». Потом уже на всех перенесла, с кем трудно.
Дома Ирина Витальевна хранит многие сочинения своих ребят, первые диктанты, отзывы о книгах.
«Я читал книгу «Русские богатыри». Мне понравилось, как Илья Муромец дрался с врагами, — написал Санька в третьем классе. — Схватил Илья Муромец Калина-царя за ногу и стал его крутить, как веточку. Ильи Муромца была победа. Так Илья Муромец освободил Киев от Калина-царя вместе с татарской ордой. Когда читаешь эту книгу, то в тебе есть что-то мужественное и благородное».
Поднять такого Саньку до Ильи Муромца не легче, чем сыграть Гамлета, угодив автору, или без кибернетики расшифровать письменность майя.
Санька Покровский летом живет у бабушки, на острове, где всего-то четыре дома. Далеко уплывает на лодке, один, потому что на острове нет людей его возраста. Сам себе диктует диктанты и придумывает задачи на местные темы: «Рыболов поймал 13 щук и две из них упустил. Диму́ш он, раззява, упустил?.. То есть, — исправлял себя Санька, — сколько щук принес рыболов бабушке?» Санька ужасно боялся отстать за лето. Учился он на твердые четверки.
Когда Саньку принимали в пионеры, он пошел крапивницей, до того переживал. Пионервожатая говорила много официальных слов, и ребята от этого сбивались и косноязычили. Но тогда встали близнецы Ишанины, Олега и Серёга, и одновременно попросили слова. Сначала дали, конечно, Олеге, потому что он как-никак старше на полчаса. Олега сказал:
— Зимой я свихнул ногу. Врач мне перебинтовал. Я хотел идти домой, а нога не помещалась в валенок. Саня Покровский дал мне свой валенок, а сам взял мой. Но я идти не мог. Тогда Саня и Женя Рулла понесли меня на закорках...
Олега удивленно посветил глазами, углубясь в далекое зимнее прошлое, и закончил:
— Так они и донесли меня до дому.
— Законно! — одобрил Палька Волков.
— Этот поступок, — объяснила пионервожатая, — говорит о том, что Покровский верный товарищ и не оставит человека в беде. Так и должны поступать пионеры.
Она бы, может, и еще поговорила, но тут встал Серега и сказал:
— Один раз мы катались с горы на лыжах. Я боялся ехать с горы. Но Саня Покровский мне сказал, чтобы я не боялся. Я поехал вниз. И больше я уже не боялся ездить с гор.
— Я не поняла, — спросила вожатая, — что же он тебе сказал? Почему ты перестал бояться? Он, наверно, тебе что-нибудь убедительное сказал, правда?
— Он мне просто сказал, чтобы я не боялся. И я поехал вниз, — повторил Серега. Его всегда трудно сбить с мысли.
— Этот поступок говорит о том, — объяснила пионервожатая, — что Покровский пользуется среди класса заслуженным авторитетом. Поэтому товарищи прислушиваются к его мнению.
— Саньшу все в одну душу любят! — крикнул с места Палька Волков, человек резкий и несентиментальный, у которого чуть что — и по шкире.
— Я думаю, что на этом мы можем закончить обсуждение кандидатуры Покровского, — сказала вожатая. И Саньку, первого в классе, приняли в пионеры.
Теперь Санька уже в пятом. Он стал нормально говорить, вообще стал нормальным парнем, компанейским, с хитрецой, с заскоками, со светлым будущим, с техническими наклонностями, — как большинство мальчишек. На технике он и сорвался два месяца назад, когда задумал провести телефон у себя дома. Всякие детали, конечно, есть в магазине, но Санькин отец пропивает получку за три дня, и мать, Лидия Осиповна, едва сводит концы с концами. Поэтому в магазин Санька не ходок. Поэтому Санька и сорвался два месяца назад...
— ...Ну? — набросились все на Женю Рулла.
Теперь трудно вспомнить, кто предложил Женю в председатели совета отряда, — менее подходящего человека трудно найти. Женя не может крикнуть. Даже повысить голос. И на шестом уроке уши его горят от усердия. Если Женя поднимает руку, это такая застенчивая рука, которая сама прижимается к плечу и готова упасть от неточного взгляда. Женя часами читает бабке вслух, потому что Ирина Витальевна недовольна его дикцией. Бабка у Жени абсолютно глухая, но слушает Женю с удовольствием, и это лучше, чем читать самому себе.
Про Женю ребята рассказывают: «Шестиклассник как полезет на Серегу Ишанина. Серега — чего? — самый маленький в классе. А шестиклассник — во! Выхваляло! Лезет и лезет! Жека сбоку стоял, не видел сначала. Потом как подойдет! Как даст по шкире! Тот — раз! — развернулся. Жека его — во! — за пиджак! Раз — на пол! Шестиклассник блямц-брык, лежит! Жека костюм отряхнул и пошел. Шестиклассники между собой ши-ши-ши... А Жека так ничего и не сказал».
Словом, Жека Рулла — стоящий парень.
— Ну? — набросились все на Женю.
— Я сказал, — доложил Женя, — что буду заниматься с Волковым.
— А Елена?
— Я знаю, говорит, что ты, Евгений, серьезный и... — Женя честно задумался, припоминая, — ...самостоятельный человек. Разрешила. Только долго не велела.
И все посмотрели на Саню Покровского, который боком сидел на обычном месте и покрывался крапивными пятнами. Острая Санькина челка съехала на глаза. Из-под челки съезжали слезы по черным щекам на черную парту. Люська Тарнаева сидела рядом и сушила парту промокашкой. Уже вся промокашка была мокрая.
— Давайте решать, — сказал Женя Рулла, и его строгие, чистые уши запылали от длинной речи.
— А чего решать? — сказала Люська Тарнаева. — Я сейчас сама зареву. У нас во дворе большие мальчишки вообще разобрали телефонную будку. И, представьте, им даже ничего не было!
— Брехло! — сказал Палька Волков.
— Девочки, честное-пречестное, — поклялась Люська Тарнаева. — И никто из них даже не сознался.
— У нас мама все по запаху узнает, — сказали близнецы Ишанииы, похожие на летучую мышь. — Мы соврем, что дома сидели, а она волосы понюхает: ххы- хы!.. «Зачем вы, мужчины, неправду говорите! Вы же в футбол гоняли». И точно! Или понюхает Серегу: «Ты же, мужчина, целый день просидел у Руллов». Точно!
— Во дает! — сказал Палька Волков. — А в газете писали, одна девчонка через сейф печати определила. «Почему, говорит, у тебя, папа, столько много печатей?»
— Читали! — закричали все. — Грамотные!
— У нашей мамы, — сказали близнецы Ишанины, — в эвакуации даже справка была от врача. Сам врач написал, что мама не может стоять в очереди. Мама в очереди падала в обморок.
— От голода! — закричали все. — А вот в Ленинграде...
— И вовсе не от голода, — сказали близнецы Ишанины. — Мама от запахов падала. Она слышит, как каждый человек пахнет. У мамы лежит такая справка.
— У нас во дворе соседский Тузик, — сказала Люська Тарнаева и достала новую промокашку, — тоже любые запахи определяет.
— Дура! — сказали близнецы Ишанины.
— А вот «Тарзан» был, такое кино...
— Еще «Маугли» — будь здоров! — сказал Палька Волков. — Продолжение «Тарзана».
— Не понимаю, зачем мы здесь собрались? — сказала Алевтина Адлер. — Я в музыкальную школу ну каждый день опаздываю...
— «Помню, я еще молодушкой была!» — пропел Палька Волков прямо на Алевтину.
— Дурак! — сказал Алевтина Адлер и показала Волкову вполне розовый язык с гофрированными краями.
— Я прямо сейчас сама зареву, — сказала Люська Тарнаева.
— Я не хотел... — сказал Саня Покровский. — Я хотел дома телефон сделать. А трубки же нет! А он говорит — в будке. А я говорю — как? А он говорит... А я трубку дернул и пошел. Он убежал... А меня дядька как схватит...
— У тебя же есть голова! — сказала Алевтина Адлер. — Он, конечно, малыш, в третьем классе. Но ты же...
— Он говорит — пошли! — сказал Саня Покровский. — Мы пошли, а тут — будка. И нет никого. Я только...
Tax! Tax! Tax! — загрохотала дверь. И швабра замоталась в ручке. Палька Волков зажал швабру, зашипел Рулле: «Спроси!»
— Кто там? — вежливо спросил Рулла. — Тут дополнительные занятия.
— Открывай! — завопили из-за двери. — А ну, снимай швабру!
— Я тебе сейчас сниму! — пообещал Палька.
— Волков, своих не узнаешь? — завопили за дверью.
— Парни, — узнал Рулла, — Цветаев!
— Цветай? — спросил Палька. — Ты? А ну вали отсюда. У нас закрытый актив. Ослеп, что ли?
— Робя, — взмолился Цветаев, — авторучка пропала. Папец только из Ленинграда привез. В парте оставил...
— Впусти! — сказали близнецы Ишанины. — Что он, трепач, что ли?
— Гадский глаз! — возмутился Палька. — Закрытый же актив!
— Интересно, — сказала Алевтина Адлер, поднимаясь во весь свой длинный рост, — вот я таких слов, как у тебя, Волков, нигде больше не слышу.
— А ну, подвинься, маяк! — сказал Волков Алевтине и выдернул швабру, из нее полетели резиновые ленты, отличные для рогаток.
— Ищи свою ручку, — сказали близнецы Ишанины, которые вечно теряли необходимые предметы и еще ни разу не находили.
— Папец только привез, — повторил Цветаев. — Если на свет смотреть, Кремль было видно.
— Законная ручка, — сказал Палька, — у моего отца тоже такая была.
— Ой, в «бэ» учительница какая смешная, — сказала Люська Тарнаева. — Говорит на уроке: «Теперь вооружимся авторучками!» Представляете — вооружимся?!
— Ахнулась ручечка, — сказал Цветаев.
Глаза у Юры Цветаева густо-серые, в крапинку, чисто и четко отчеркнутые темными ресницами. Юра ходит в черном продольной вязки свитере. Дает щупать бицепсы: «Во!» Уверяет, что был «моржом» в третьем классе, но схватил крупозное воспаление.
Юра сам рисует и сам делает подписи. Однажды изобразил кота-котище и под ним: «Если был бы я Маркизом, я ходил бы по карнизам». Елена Федоровна отобрала на уроке. Потом говорит: «Почему по карнизам?» — «Так он же кот», — объяснил Юра. «А вообще — что такое «маркиз»?» — спросила Елена Федоровна. «Я же говорю — кот!» — удивился Юра. «Нет, как ты понимаешь значение этого слова?» — «Так кот же!» — повторил Юра. «Какие вы еще маленькие!» — сказала Елена Федоровна и вернула рисунок.
Когда шли домой, Юра все это показывал в лицах. Так смеялись, умора. Он ей — «Кот!» А она: «Значение?» Он ей — «Так кот!» На самом-то деле вовсе была карикатура на физрука. Глаза закроет и спит, а еще физкультура. Если старый, так зачем лезть? Маркиз! «За дурачка посчитала», — рассказывал Юра.
Из-за рисунков Юра сразу получил большой авторитет, хотя перешел в эту школу только с третьей четверти.
— Поискал и вали, — сказал Волков, — закрытый актив.
— Секретики? — сказал Цветаев. — Я, между прочим, тоже актив. В редколлегию выбирали? Выбирали!
— Давай-давай! — сказал Палька. — А то мы тебя сейчас разберем, а собирать не будем!
— А чего Волков командует? — спросила у всех Алевтина Адлер.
— Покровский прямо рыдает, — сказал Цветаев. — Во дает.
— Пускай остается! — закричали близнецы Ишанины. — Что он, трепач, что ли? И потом — в редколлегии.
— Правда, робя, что происходит?
— Покровский хотел себе телефон провести, — объяснила Алевтина Адлер. — Они пошли с одним парнем. Трубку один раз дернули, а дяденька подбежал и Покровского в милицию.
— Какой дяденька?
— Ну, вроде дяденька стоял, а на самом деле — милиционер. Оказывается, в этом автомате уже две трубки сорвали. Милиция там установила переодетое дежурство.
— Да уж, автомат выбрал! — пробурчал Палька.
— Потом в милиции майор Санькиной матери говорит... Погоди, забыла... Как это, Покровский?
— Он был вовсе лейтенант, — поправил Саня, убрал слезы и объяснил: — Он сначала со мной говорил. Спрашивал, с кем дружу... Потом разное про школу. И тут мама прибежала. Он меня в другую комнату послал и с мамой говорил. А мне мама сказала: товарищ лейтенант...
— Нет, — сказал Волков, — это с тебя капитан допрос снимал. Высокий такой и ноздри видать?
— Не, — мотнул Саня, — не видать. Лейтенант. Он маме сказал, что уверен. Мы, говорит, больше с вашим сыном не встретимся на плохой дорожке. И что я честный...
— Конечно, честный! — горячо сказала Люська Тарнаева. — Пришел и сам нам все рассказал!
— ...мама еще спросила: «В школу нужно сообщать?» А он сказал: «Считаю, что не стоит».
— Главное, Саня все понял, — сказала Люська Тарнаева и снова заработала промокашкой.
— Значит, Покровский, у тебя строгий закрытый выговор, — сказала Алевтина Адлер. — Руль, запиши в секретку!
— Я записал, — сказал Женя Рулла.
— Санькиного отца все знают? Значит, кто протреплется, гадский глаз, — сказал Волков, — пусть лучше в школу не ходит...
4
Ирина Витальевна кладет трубку, и телефон освобождений крякает: «К-к!» Потом в нем что-то само дзынькает: «Дз!» Но Ирина Витальевна не обращает на него внимания — она слушает. Приближается Инна, Инна Андреевна. Сначала из глубины лестницы нарастает неясный шум, сложенный из веселых препирательств Инны Андреевны и завхоза, которая любит кино. Остро и целенаправленно звенят половицы. Толстая дверь в учительскую отлетает, как занавеска. Земной шар на шкафу начинает медленно вращаться вокруг оси.
— Эпохально! — говорит Инна Андреевна. — Галантерею рядом поставили, видала? Ларек. На стрекозу похож. Корбюзье периода расцвета!
— А я с Маргаритой сцепилась, — сообщает Ирина Витальевна.
— Ой, погоди, Ирэн! — говорит Инна Андреевна. — Я смотрю — на витрине трико. А мне — надо. Говорю: «Какой размер трико?» А дядечка изнутри, пенсионный, располагающий, — знаешь, торговый интеллиго? — вежливо мне из-под очков: «Извините, это трусы». — «Какой, говорю, размер?» — «Сорок второй, говорит, но они до сорок шестого влезают. Берите, сейчас сезон, расхватают». И даже из очков вылез. Я говорю: «Да мне малы!» А он так по-дерибасовски: «Втиснетесь, не в троллейбус!»
— Рюкзаков у него нет? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Только исподнее. И здо́рово ты с Марго?
— Юкке рюкзак надо купить, — вдруг правда уедет?
— Трудности, значит? — говорит Инна Андреевна. — Вот у меня так действительно...
У Инны Андреевны всегда самые пышные горести. Например, один человек толкует о двоичном коде, машинном времени, сложных вероятностных системах. Этот человек высок. Он потрясает филологическую сущность Инны Андреевны. Он получает крупную премию, такую, что хоть покупай «Волгу». И спрашивает сам себя: «Сколько старикам отправить?» И решает: «Сорок рублей». Идет на почту и заполняет бланк на двадцать. А Инна Андреевна случайно в соседнем окошечке подписывается на «Науку и жизнь». Они, естественно, здороваются, и Инна Андреевна механически пробегает бланк. Высокий человек видит ее ватное лицо и поясняет с той степенью интеллигентской клоунады, которая, он считает, действует на Инну Андреевну безотказно: «Чтоб на шею не сели...»
Человек занимается кибернетикой, это так важно — кто понимает, так модно — кто не понимает, так ново для небольшого города. Он дико талантлив, он почти гений, говорят все — радио, специальный журнал, соседи по квартире, директор института, в котором он работает, муж Инны Андреевны, просто знакомые. А Инна Андреевна утверждает: нет, он не гений, он сволочь. Но никто не принимает ее слова всерьез. У Инны Андреевны всегда или праздник или поминки.
«Никак не обрасту защитной шкурой», — говорит Инна Андреевна.
Она производит много веселого шума, исключительно от темперамента. Инна Андреевна носит самые светлые в школе волосы и самые открытые плечи. Ей всегда можно спихнуть мальчишку с вывертами, от которого у всех голова идет кругом. Или девчонку-вундера. Инна Андреевна любит брать запутанно-одаренных и с ними возиться. Часть класса остается сама по себе. За это ее ругают на педсоветах.
Инна Андреевна заочно кончила литфак и теперь ведет старших. Когда увлечена, может даже присесть на крышку парты. Представители делают замечание: вульгарно! Девочки из десятого «в» находят, что это самая элегантная поза из доступных учителю. Надо сказать, в позах девочки из десятого «в» разбираются, как никто в школе.
Сынишка Инны Андреевны второй год лежит по туберкулезным клиникам. Поэтому на праздники она всегда исчезает. Появляется еще громче. «Опять в Москву летали?» — удивляются люди, которые не устают удивляться. «Провинция! — говорит Инна Андреевна. — В «Современнике» же премьера!» — «Счастливая!» — завидуют люди. И про себя, конечно, добавляют: «Ишь ты, премьера...»
— Еще в одних родителях разочаровалась, — говорит Инна Андреевна, — эпохально!
— Ты не знаешь, что такое — Елистратова? — спрашивает Ирина Витальевна.
— А что, понравилась? Ленинградка, кончила студию при ТЮЗе, не Алиса Фрейндлих, конечно... Так слушай, Ирэн! Притащилась я к Кирилловым. Никого нет, только младшая. Тата. Знаешь, наверно? Вундер из третьего «д», стрижена под мальчика...
— Помню, — говорит Ирина Витальевна. — Нет, не артистка.
— Тогда понятия не имею, — говорит Инна Андреевна. — Я, конечно, из-за старшей сестры пришла, а вундер «Боги, гробницы, ученые» кончает, представляешь? И сразу мне: «Вы думаете, я чего-нибудь не поняла? Вы, в таком случае, ошибаетесь. Чересчур даже поняла, как мама выразилась...»
— Были у меня такие, скучно, — говорит Ирина Витальевна. — Эта Елистратова из гороно или что-то в этом духе...
— Главное, Ирэн, она каждое слово эдак по букве, со вкусом, пропуская через себя. «Очень, говорит, много серых, невыразительных произведений. Таких, как, например, «Голубая чашка», «Чук и Гек». И в каждой фразе у нее по два вводных, не меньше. «Прямо не знаю, говорит, что со мной будет к пятому классу, если я уже сейчас за шестой все прочитала». А «Тимур и его команда»? — спрашиваю. «Это, докладывает вундер, самая пламенная книга, которую я читала».
— Хоть тут сошлись, — улыбается Ирина Витальевна.
— Я, конечно, не удержалась, — горячится Инна Андреевна. — А как же стихи? Тоже всё невыразительные? «Вот мы, говорит, учили стихотворение о весне: «И вишня машет под окном — «Растем, товарищи, растем!» Но уж вишня, во всяком случае, говорить не может! Я люблю читать про то, что в жизни бывает, а стихи, особенно про природу, — сплошь чепуха и неправда... Вон у Маяковского, помните? «Упираются леса в самые небеса». Объясните мне, пожалуйста, как это может быть, если небо состоит из воздуха?!»
— У меня половина класса не смогла правильно объяснить, — говорит Ирина Витальевна.
— Так, Ирэн, я ж ее и спросила! «Кто не знает строительных лесов, — отвечает. — У нас, правда, один мальчик на уроке сказал, что это настоящий лес на горизонте синеет и как бы сливается с небом». Значит, умеет видеть, говорю ей. Да ее разве собьешь! «Это очень неразвитый мальчик, брезгливо так мне разъясняет, по-видимому, с ним дома совсем не занимаются. Он такое иногда скажет, как в первом классе...»
— Н-да, — говорит Ирина Витальевна, — бывает...
— Вот именно, Ирэн! Я уж ей посочувствовала. Скучно тебе, говорю? Ты с кем дружишь? «Конечно, созналась, большинство ребят гораздо ниже меня по развитию. Но, по-моему, ребята меня уважают. Я много занимаюсь с отстающими. Есть такие ребята, они никак не могут усвоить даже таблицу умножения». Веришь, Ирэн, до того я устала от этого разговора...
— Очень представляю, — говорит Ирина Витальевна.
— Потом спрашиваю ее: у тебя никогда не было собаки? Такого круглого, теплого щенка? «Я всяких щенков, отвечает вундер, наверное, тысячу видела. Ведь папа по образованию биолог, даже точнее — зоотехник. И собаку у нас тут негде держать. Вы, по-видимому, забыли, что щенки до шести месяцев гадят прямо где попало».
— Больной от лекарства отказался, — хмыкает Ирина Витальевна. — Я с первачками гуляла вчера, так одна Дюймовочка стрекозу тащит: «Во! Стрекоза!» Какая, говорю, голубая! «Сейчас, говорит, ее убью. Стрекозы, говорит, вредные, их нужно ис-треп-лять».
— Вот-вот, ищи папу зоотехника. Кстати, Ирэн, ты с пятаками в поход пойдешь?
— Конечно. А вдруг, говорю, эта голубая — принцесса? Стрекозиного царства — бабочкиного государства... Смотрю — рот раскрыла. И вдруг как заорет: «Принцесса! У меня принцесса!»
— А когда поход намечен?
— Второго июня пойдем...
— Знаешь, Ирэн, — как бы между прочим говорит Инна Андреевна, — я хотела тебя попросить... Взяла бы ты и моих кроликов заодно. Послушание — гарантирую. Я как раз в эти дни думаю смотаться в Москву. Представляешь, там...
— Обеими руками, — перебивает Ирина Витальевна, соглашаясь. Она сразу соглашается, даже поспешно, потому что не хочет слышать, какую премьеру подготовил «Современник», потому что видит по Инниному лицу, что с сыном там, в Москве, опять плохо и не смотаться уже просто нельзя... — Конечно, возьму, — говорит Ирина Витальевна, — вместе даже веселей будет. Со мной такие крепкие родительницы идут, вполне справимся...
— Вспомнила! — говорит Инна Андреевна. — В гороно, кажется, есть Елистратова. А тебе зачем?
— Да снова с Покровским тут...
«Снова с Покровским» ничего бы не произошло, если бы закрытый актив так и остался закрытым. Как постановили ребята. Они хорошо знали друг друга, но Цветаев был новеньким в классе, и Цветаева они знали не так хорошо, как друг друга.
И осталась бы эта история с телефоном между ребятами, и ни завуч, ни гороно, ни другой кто не стали бы два месяца спустя теребить Саньку Покровского... Если бы не то воскресенье, следующий день после выговора, записанного в классную «секретку».
Это было последнее воскресенье марта. Уже подступала весна, градусник показывал минус четыре. В полынью запускали досаафовских водолазов на сигнальных шнурах. На «моржей» опоздали, Руль прособирался.
Водолаза вытягивали, как котенка из проруби. В довершение он оказался женщиной. Юра оглянулся — где ребята?
Пошел набережной, захватывая глазами как можно больше. По аллее вдоль залива жали на великах гоночники, узкошинные, широкозадые на подбор. Уже тренируются... Заливом, серым, будто в разводьях, возвращались лыжники... Тетка с девчонкой катят на санках с игрушечной кручи, девчонка впереди. Юра подождал, пока упадут. Конечно, тетка придавила санки, они заскрежетали, как целый поезд, и засели на камне. Тетке хоть бы хны, девчонка с ревом вылетела из санок. Летела — будь здоров!
— Цветаев? — спросили сзади.
Еще один! Юра глубже ушел в ушанку, независимо развел плечи. Не обернулся, проверяя волю. За последний год попалось уже четыре Цветаевых. Это было обидно. Руль за целую жизнь не встретил ни одного Рулла, везет.
— Да уж точно, Цветаев, — сам себе подтвердил голос. И Юра теперь услышал, что голос ему знаком: он слегка припадает на «о» и чуть затягивает слова, словно жаль с ними расставаться. Так говорит Елена Федоровна, классный руководитель.
— Шапка толстая, как глухой, — оправдался Юра.
— Отличная шапка, — подтвердила Елена Федоровна, — моим бы мальчикам такую. Ни разу не видала в продаже...
— Их не продают, — объяснил Юра, — папец из экспедиции привез. Их только по заказу делают, из молодого оленя.
— Твой папа часто ездит? — спросила Елена Федоровна.
— Каждое лето, — пожал плечами Юра. — Он недавно открыл балладу. Его даже в Ленинград вызывали.
— Какую балладу? — спросила Елена Федоровна.
— Вообще, — объяснил Юра, — жанр.
— Я и не знала, что у тебя папа литератор, — сказала Елена Федоровна. — А ты, наверно, хочешь быть художником?
— Большую картину легче рисовать, чем маленькую, — уклонился Юра, — на маленькой как не туда провел — будь здоров, а на большой во можно развернуться.
— Ты один пришел? — спросила Елена Федоровна.
— Я их потерял, — сказал Юра и подумал: конечно, парни нарочно оторвались. — Нас много было: Ишанины, Рулла, потом из пятого «б»…
— Как Женя вчера с Волковым позанимался? — спросила Елена Федоровна. — Долго сидели?
— Где? — не понял Юра.
— Да уж в классе, наверное, — сказала Елена Федоровна. — Даже закрылись, чтоб не мешали. Я видела — ты стучал.
— Так это вы про актив? — не понял Юра.
— Актив? — переспросила Елена Федоровна. — Какой актив?
— Закрытый, — сказал Юра. — А вы никому не скажете?
— Ты же пионер, Цветаев, — сказала Елена Федоровна, — а пионеры говорят только правду и не торгуются.
— Так парни постановили...
И после этого Саньку Покровского поставили перед педсоветом, потом — перед родительским собранием, потом... Потом отец избил Саньку до полусмерти. И Санька два дня заикался, как в первом классе. И вздрагивал от каждой тени. И ребята, весь класс, объявили бойкот Юре Цветаеву. Две недели Цветаев разговаривал только, когда его вызывали к доске. Больше — ни с кем, бесполезно, пятый «а» выдержал характер.
С улицы школа опоясана туго натянутым звуком. Прохожие рвут ленточку, налетают на острое: «Контрольная? Не успеть! Атас!» Сердце у прохожих — тум-тум-тум в пятки. Радуются: «Это не нам, не нам! А мы уже взрослые, не возьмешь!» Вспоминают: «Было в табеле — четыре, четыре, четыре, три. Она и за год вкатила — трояк». Сожалеют поздним раскаянием: «Встречал ведь потом — не здоровался, будто не вижу. А она прямо в школе шла по коридору, и вдруг: «Ой, да ничего, воздуху что-то не хватает...» Сказали — инфаркт. Правильная была тетка, вредная».
Послушаешь взрослых — чем дальше от школы, тем лучше учились. К шестидесяти — все золотые медалисты, в крайнем случае — серебряные. В кого только внук уродился? Опять подпись подделал в дневнике...
Толстый звонок рассыпается на каждом этаже в свою мелкую дребезгу. Дда!-да!-да!-дда! — резко бьется на первом. Дз!-дз!-дз!-дз! — мухой с пропеллером рвется на втором. Дя!-дя!-дя! — мягко выговаривает на третьем. Бом! — вылетает дверь первого класса. Бэм! Бум! Бам! — еще-еще-еще! Р-ры! — изнутри взрывается школа. Чуть опережая взрывную волну, к учительской тук-тук-тукают каблучки. Острые, с узким носом — молодые, средние каблучки — постарше, низкие, вовсе микропора, танкетки, широкие туфли с аккуратной шнуровкой бантиком — плюс-минус пенсия. Самые большие ноги — у физкультурника: сорок первый размер.
Десять минут перемены вмещают вечность и еще немножко. Столы ломятся от тетрадей. Тускло блестят красные карандаши.
— Нет, я Невретдинова к экзамену не допущу!
— В восьмом «в» хоть трое сильных есть, а в «г» — никого...
— А он ей класс все-таки помог убирать!
— Еще бы не помочь — любовь. Все парочками сидят, не знаешь, как и урок вести.
— Нет, не допущу Невретдинова!
— По-моему, головастый парень...
— Кисляев на пару написал, Костик на пару написал, но у них двойки больше к трояку клонятся, с надеждой.
— Елена Федоровна, вас к телефону! Сын, кажется.
— А Невретдинов на кол написал. Абсолютно никакого понимания!
— Слава тебе господи, шестой урок...
— Я вот о чем думаю: вытягиваем их, вытягиваем, а кому это нужно? Зачем?
— Сынуля, сынуля! У тебя почему такой голос? Что? Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему...
— Мой мужичок говорит: ты меня «сынуля» не зови. Я, говорит, уже большой, мне Дом пионеров инструктором в лагерь предлагает.
— Нет, все-таки не допущу.
— Слышали, как они говорят: «фара». «Двойка» теперь не говорят, «пара» — и та устарела...
— А пионервожатым, как думаете, тоже прибавят?
Перед последним уроком вечность часто сокращают до девяти минут, чтобы скорее. Кто остается — на урок или на дополнительное, — тот всю перемену висит в окне, ногами отбиваясь от дежурных, надрывается:
— Баран! Эй, Баран! Панька-а-а, толкни Барана! Бара-ан!
Наконец столь необходимый Баран, Баранов тож, задирает голову. И видит — в окне третьего этажа болтается кулак, немощный на такой высоте до смешного.
— Чего? — спрашивает Баран, зная все наперед.
— Только приди, — грозятся сверху, — я тебя так налажу, Баран!
— Я тебя сам налажу, — отбрехивается Баран и свободно сплевывает на клумбу, под дощечку «цветы». Цветов еще и в помине нет, а Баран по себе знает жгучую тоску шестого урока.
— Приду-у-у-у! — кричит вверх Баран.
А из окон так и сыплется:
— Вентиль! У тебя «чи́та» за диктант! — И торчат в подкрепление четыре пальца — «чи́та».
— Московченко, ты меня вчера не видел, слышь?!
— Книжку гони, биб-ли-о-теч-ную...
— Шишня на палочке! Шиш-ня, говорю!
Перед последним уроком в коридорах убойное движение вниз, лихорадочные глаза, портфели нараспашку. Почище, чем на большой перемене, когда валом валят в буфет.
Сегодня, в разгар буфетной страды, Волобуева из шестого «а», та, что два года лежала, а теперь ходит на костылях, оступилась на лестнице. «Скорая» увезла, еще неизвестно, чем кончится. Поэтому сейчас учительский патруль на лестнице удвоен. Все равно несутся...
Родители, поток которых к шестому уроку довольно густ, короткими перебежками одолевают высоту. Учительская принимает родителей на старом добром диване, за шкафом, во всех своих отгороженных пространствах. Родители балдеют от шума, им хочется разговора наедине. Не понимают, что в учительской все настолько близко, будто наедине. Каждый слушает свою откровенность. Общие дети дырявят штаны о перила, зубрят Пушкина, путаются в законах Ньютона и лепят из пластилина Бородинскую битву.
— Как на демонстрацию идти, надела теткино габардиновое пальто. Хочу, мол, покрасивше быть... Во всех дети как дети, а у моей с одиннадцати. Разве она что понимает? Ребенок ведь...
— Большая травма, — гудит Зинаида Петровна самым широким голосом. В учительской на перемене у любого голоса исключительно малый капэдэ.
— Как подменили, — вздыхает мама, — бабушку обзывает всяко...
Ирина Витальевна не слышит слов, она только видит, как мама беспомощно разводит руками: «Как подменили!» Эта мама сама во всем виновата.
— На бабушку кричит, — жалуется мама, — ты у нас глупая, даже косвенных падежей не знаешь, бревно...
...Бабушка зимой долго лежала в больнице. Наконец позвонила, что выписывают. Мама тогда жаловалась: «Так хорошо мы с Валечкой без нее живем, укладываемся в зарплату, пальто вот справили. Могла бы и не торопиться, верно? Чего старому человеку нужно? Кормят неплохо, четыре человека в палате, лежи...»
— Мы все принимаем во внимание, — говорит Зинаида Петровна, — это логично. Но как же вы, взрослая женщина, могли ее послушаться?
— Уж так она просила, — оправдывается мама, — плакала на весь этаж. «Я знаю, кричит, мамушка, я не успела решить. Ты, говорит, отнеси, никто и не увидит».
Валечка не решила на контрольной ни задачи, ни примера. А вечером Зинаида Петровна стала проверять работы — и Валечкина лежит в общей стопке, и правильно все, как никогда, только в примере напутано. Выходит, наврала на себя Валечка — решила. Получила «четыре», небывало много. А через неделю девчонки проболтались: Валечка с черновика отличницы списала после уроков и подослала маму в учительскую, с инструкциями — куда подложить тетрадку. Валечка до сих пор не созналась, мама — та сразу, она всегда легко сознавалась.
Зинаида Петровна когда-то учила и маму. Мама была неспособна к математике, в геометрии так прямо тупа. Сидели в классе до десяти вечера, если не больше, тогда ведь экзамены были. Потом Зинаида Петровна давала деньги на автобус, и мама ехала одну остановку, до самого дома. Иначе нужно было идти мимо кладбища, а мама и простой темноты смертельно боялась. У Валечки тоже совсем нет пространственного воображения.
— Как же это ты, девочка? — говорит Зинаида Петровна маме. — Давай-ка пришли ее ко мне в воскресенье.
Они сидят на самом людном перекрестке, на трассе «диван — телефон». Где селось, там и сидят. А вокруг бурлит учительская.
— Странная вы какая: как я могу его допустить.
— Уйду на спокойную работу!
— Девочка совершенно не терпит никакого вмешательства.
— Куда уйдешь?
— А дети так и будут слепнуть? Мой класс третий год во вторую смену. Войдешь — одни очкарики.
— Я же вам повторяю, товарищи: за каждого недопущенного пойдете лично отчитываться в гороно, какая с ним проделана индивидуальная работа. Я же предупреждала...
— Почему это я пойду отдуваться за балбеса?
— А если бы вашего ребенка балбесом назвали, так небось отлаяли бы с университетским образованием!
— Насчет Волобуевой звонили — недели две пролежит...
Иногда специально садишься в троллейбус, чтобы подумать. И пока он ушами по городу трясет, так хорошо решаются все проблемы. «Кто забыл обилетиться? — кричит кондуктор. — Обилечивайтесь, пассажиры!» — «В такой давке бесплатно надо возить!» — кричат пассажиры. «Молодой человек, уступите пожилой женщине!» — кричит кондуктор. «Я под шляпку не заглядывал, сколько ей», — оберегает себя молодой человек. А у тебя изнутри поднимается, разрастаясь, такая глубинная тишина, которая отталкивает все звуки. И только трях-трях — мягкое движение подталкивает мысль.
Ирина Витальевна любит учительскую в перемену. Лучше, чем троллейбус.
— Считай вот так. Мне школа дает три лишних часа, но я все равно не влезаю в программу... — доносится издалека.
...Юкка вчера пришла: «Я ходила в институт геологии, наверное возьмут в экспедицию... И не смотри на меня, пожалуйста, зелеными глазами, я же должна закаляться?! Как будущий мелиоратор?»
— Но если все учителя города не влезают в программу...
...Вряд ли они возьмут Юкку. Куда им девчонка? Хотя кто их знает. Она говорила — «записатором». Словечко, почище «клопиноля». Сначала был «клопомор». Нет, не то. Выдумали — «антиклопин». Снова — не то. «Клопиноль», о, то самое…
— Я не имею морального права требовать оплаты за дополнительные, школа мне дала все сто часов, а я не уложилась. Значит, я где-то шаляй-валяй... — доносится издалека.
...Записатор ходит за оператором и заносит показания нивелира — или как его? — в блокнот. Или как его — в пикетажку? Вопрос — кто еще оператором попадется? Вдвоем ведь целые дни ходить...
— А я вот ни одного урока шаляй-валяй, а тоже не уместилась.
— Значит, программа неправильная...
...Экспедиции, говорят, пьют в стельку...
— Ирина Витальевна, ты где? — говорит завуч Маргарита Сергеевна. — Я уже все шкафы обошла.
Раз! — соскочили уши троллейбуса. Треск, искры. Народ валит из обеих дверей, чужой друг другу, будто и не было коллектива под трях-трях. Уши у троллейбуса соскакивают всегда удивительно не вовремя.
— Что? — говорит Ирина Витальевна. — Рита? Освободилась?
— Не видать нам светильников, — говорит Маргарита Сергеевна. — Тут еще доклад в гороно, какая-то перманентная перегрузка.
— Большому кораблю — большой якорь, — говорит Ирина Витальевна.
— Шутишь? Тебе хорошо, твой класс работает в системе, и никакая общая ситуация на тебе не отражается.
— Поноем? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Очень сложно быть администратором, — говорит Маргарита Сергеевна, — ты, Ира, не понимаешь...
На Маргариту Сергеевну нужно смотреть в профиль. Если глядеть прямо и близко, лицо ее кажется ускользающим, неопределенным в чертах, глаза — слишком выпуклыми и светлыми. В профиль глаза приобретают притягательную глубину. Маргарита Сергеевна всегда старается сесть боком к собеседнику, к классу.
Они вместе с Ириной начинали на филфаке. Ирина исчезла со второго курса. Сначала говорили: по убеждению, от филологической схоластики, в народ, в дыру, где у директора семь классов образования. Оказалось — проще, оказалось — дочка. Кто отец, так и не узнали.
В прошлом году Маргариту Сергеевну повысили: в четвертую школу завучем. Вот и встретились. По работе им не особенно приходится сталкиваться, потому что у Маргариты Сергеевны — старшие классы. Но иногда так хочется сказать кому-то «ты». И без отчества.
— Знаешь, Ира, я тут подумала: не лезь ты в эту историю с Покровским. Ничего плохого ему не сделают, речь даже не о взыскании. Просто им нужен хороший пример детской безнадзорности.
— Безнадзорности?
— И потом, сейчас просто неуместно соваться с этим в гороно. Во-первых, конец года, документация плюс дрязги, и, во-вторых, там идет крупная пертурбация, кой-кому дали по шапке, это между нами.
— Пертурбация?
— Сейчас умнее не напоминать о себе и не привлекать внимания к школе. Потом, согласись, если бы этот Покровский не был твоим экспериментом, ты бы ведь не лезла в бутылку...
5
Дда!-да!-да! — начал звонок. Дз!-дз!-дз!-дя!-дя!-дя! — поднимается этажами. И резко обрывается дверью. «Убивают!» — кричит техничка. «Где?» — кричит учительская. «Во дворе!» — кричит техничка, скатываясь по лестнице. За ней стучат каблучки, острые, с узким носом, средние, низкие, микропоры, танкетки.
«Только бы не мои», — думает каждый.
— Второе чепе, — считает завуч, — только приняла школу...
— Все на одного, — объясняет техничка.
— Цветая лупят! — несется коридорами. — Пятый «а»!
«Мои!» — падает сердце. У Ирины Витальевны немеют руки.
...Идет последний урок. Рабочая тишина расползается по школе. От самосвалов поекивают стекла. Техничка закручивает краны. Посыпает хлоркой «для девочек» и «для мальчиков», добром поминает раздельное обучение — «для девочек» чего убираться, красота.
Идет последний урок. Учителя слушают — разное, думают — разное.
— Такие черты характера, как трудолюбие, наблюдательность, любовь к знаниям, помогли Фадееву впоследствии создать...
«Какая их муха?.. Вот тебе и «в системе», примерный класс! В тихом омуте, как говорится, до поры до времени...»
— Ньютоном называется, когда...
— Не «когда», а «что»!
— Ньютоном называется, если тело с массой в один килограмм движется с ускорением один метр в секунду-квадрате...
— Что же называется? Тело?
— Ньютоном называется сила, когда...
«Мои-то в первую смену, чего же я испугалась? Прямо желудок будто в кулак схватило. Пейте, говорят, мед — чайную ложку за час до еды, будет не желудочно-кишечный тракт, а шоссе Энтузиастов. Нет, мои бы не стали, мои вышли из этого возраста...»
— Происходит присоединение водорода по месту разрыва двойной связи... Записываем реакцию! Все открыли тетради?
«А ведь предлагали мне этот пятый. Хватило ума отказаться, интуиция. А вон Зинаида Петровна сама хотела, вот бы хлебнула... Забыла бы и логику! Кажется, даже ногами... зверство! Мы тоже когда-то дрались, но разве так...»
В учительскую заглядывает последнее солнце. Спускается по Марксу, через планету Земля, бледным светом ощупывает диван. На диване лежит Юра Цветаев, левая рука — будто она не его, а сама по себе. Школьный медпункт считает ему пульс.
— Ы! — стонет Юра.
— Валерьянки! — требует медпункт. Зинаида Петровна, непривычно торопясь, меряет капли. Юра стучит зубами по стакану.
— Неужели перелом? — волнуется Маргарита Сергеевна.
— Ушибы, — успокаивает медпункт. — Вообще, рентген покажет.
— Кто бил? — спрашивает Маргарита Сергеевна. — Назови!
— Я пойду за такси, — говорит Зинаида Петровна, — это логично. Может быть, дома узнаем...
В классе весь пятый «а», кучей. Они могли разбежаться, но стоят, как привели. Люська Тарнаева растирает слезы передником, прячется за Алевтину Адлер. У Алевтины ломит скулу. «Приложи, а то во как раздует», — шепчет Палька Волков и сует ей двадцать копеек. Алевтина давит на скулу, синяк лезет из-под монеты. Покровский отбивает ногой невнятные такты. Серега Ишанин потерял очки во дворе, но сходство с летучей мышью от этого не уменьшилось. Глаза у Сереги большие не по росту и круглые, как очки. Олега держит его за руку, чтобы чувствовать себя старшим.
— Да вы понимаете, что наделали? — говорит Елена Федоровна, более обычного припадая на «о». — Вы же докатились до настоящей кулачной расправы, как какие-нибудь...
— Аля, брось тереть, — говорит Ирина Витальевна, — надо медным.
— А вон как помогло! — показывает Алевтина Адлер. Синяк расползся, сколько мог, и перестал расти.
— Извините, Ирина Витальевна, — говорит Елена Федоровна, глаза у нее острые, голос узкий, будто с трудом. — Я хочу с ними поговорить как классный руководитель, потому что в конце концов за все их безобразия несу ответственность именно я.
— Конечно, — говорит Ирина Витальевна, — вы руководитель...
Был уговор, что после четвертого класса, дальше, их поведет Зинаида Петровна. «Чтобы воспитатели одного типа», — сказала директор. В последний момент почему-то переиграли. «Елена Федоровна — опытный педагог, — сказала директор, — она ни одного человечка не упустит. Вы только поддерживайте умный контакт, Ирина Витальевна».
Умный контакт с Еленой Федоровной…
— Ну вот, — сказала Елена Федоровна в конце первой четверти, — в нашем классе появились рогатки, сама видела! Вы говорите — ваши ребята честные. Сколько держала после урока, с каждым беседовала отдельно, и все-таки никто не сознался. Завтра буду вызывать родителей.
— Диму́ш, ребята? — спросила наутро Ирина Витальевна.
— Она говорит, — сказал Волков, — допустим, у тебя действительно нет, но ты же можешь назвать, кто стреляет...
— Она сказала, кто назовет, тот может идти домой...
— ...и ему ничего не будет...
— Она говорит, — сказали близнецы Ишанины, — что так сделает маме на работе, что маме будет стыдно...
— Димуш она кричит? — удивился Саня Покровский.
— Вы просто не поняли Елену Федоровну, — сказала Ирина Витальевна. — У нее вчера было восемь уроков, и она очень устала. Ведь бывает, что очень устанешь и уже трудно разговаривать спокойно.
— Конечно, — сказали близнецы Ишанины, — мама пошла на новую работу, а потом говорит: «Не возражайте мне, мужчины, а то я буду на вас кричать, просто руки отламываются». К нашей маме целый день была очередь.
— Женя? — спросила Ирина Витальевна, потому что даже Рулла поднял руку, застенчивую, тесно прижатую к плечу, готовую тотчас упасть, если ее не заметят.
— Папа вчера пришел на обед, — сказал Женя, — и говорит маме: «Я кушать не буду, я устал».
— Вот видите, — сказала Ирина Витальевна. — Если у кого есть рогатки, пусть сам скажет, а дома сам выкинет.
Подняли руки двенадцать мальчишек и три девочки.
— А вы зачем? — удивилась Ирина Витальевна. — Вы же не стреляли?
— Зато мы их держали в руках, — объяснила Алевтина Адлер.
— А у нас во дворе есть мальчишка, — сказала Люська Тарнаева, — он из рогатки убил настоящего попугая, красного, зеленого, синего. Этот попугай даже умел говорить.
— Люся, — сказала Ирина Витальевна, — ты забыла, что у нас нет попугаев. Это было где-нибудь в Африке...
— Брехло, — сказал Палька Волков.
— Может быть, попугай убежал из зоопарка? — сказала Люська Тарнаева.
— Мы лучше рогатки положим на стол, — сказали близнецы Ишанины, — чтобы Елена Федоровна не волновалась.
— Как хотите, сами большие, — сказала Ирина Витальевна.
— ...Испугались все-таки, — рассказывала тогда Елена Федоровна, — прихожу на урок, а рогатки на столе.
— Я вас последний раз спрашиваю: кто зачинщик? — говорит теперь Елена Федоровна. — Я все равно узнаю, поэтому лучше сознаться! Пионеры не должны покрывать хулиганов. Вы боретесь за звание отряда Павлика Морозова, а сами... Ну, председатель совета отряда назовет нам зачинщиков!
— Все били, — говорит Рулла. И его строгие, чистые уши пылают от длинной речи.
— Нет, ты не пионер! — говорит Елена Федоровна.
...Женя Рулла был, пожалуй, единственный, кто за пять лет ни разу не плакал. Он пришел в первый класс очень замкнутым человеком. Он доставал из своего портфеля свои учебники, аккуратно обернутые белой бумагой, и писал в своей тетради своим собственным пером. Если тетрадка неожиданно кончалась, Женя не просил другой, как делали все; отказывался брать, если все-таки давали. Он знал, что никто не обязан с ним делиться. Так же хорошо он знал, что если у соседа сломалось перо, а у Жени лежит запасное в портфеле, то это его — Женино, запасное. И никто не имеет на него никаких прав.
«Сам себя за уши не вытащишь, дак никто не нагнется», — говорила мама.
«Спасителя за семь пятьдесят продали на новые деньги, — говорил отец. — Что с самосвала упало, то пропало».
«Тьфу!» — сердилась мама.
В конце первого года, когда обсуждали отметки за четверть, ребята потребовали, чтобы Ирина Витальевна поставила Рулле «читу» — четверку по поведению. За что — сформулировать не могли, но привели много примеров. Выходило: за индивидуализм. «Ты понял, Женя?» — спросила Ирина Витальевна. «Нет, — ответил Женя, потому что честность была его обязательным принципом, — ведь я же для себя учусь, а не для них?!»
Во втором классе Женя увлекся коньками. И тут старался — один, в сторонке. Попал на катке в кучу-малу, сломал сразу обе ноги, так повезло. Пролежал три месяца. Каждый день, сначала в больницу, потом домой, ходила к нему Ирина Витальевна. «Все симулируешь? Ну, что у нас на сегодня?»
Прибегал Палька Волков, шмякался на стул, в темпе выкладывал новости: «В почтовый ящик контакты провел и звонок в комнату: как почтальонша газеты кинет, так динь-динь-динь! А то парни балуются, газеты таскают. Хошь, вам сделаю?» Орал под окном: «Руль, еще забыл! Придешь — рядом сядем, Ирина Виталевна разрешила!»
Вежливо вытирала ноги Алевтина Адлер, хвалила бабкины коврики: «Мягкие какие! Моя мазер ничего дома не делает, хоть в валенках на кушетку». Деловито спрашивала: «Катю и крокодила» не читал? Нет? Так и знала, принесла». — «Чего в классе?» — спрашивал Женя, чтобы она не сразу уходила. «Ой, я же в музыкалку опаздываю!» — вскакивала Адлер. Не зря Женя не любил музыку.
«Напиши мне о своей любимой книге», — сказала назавтра Ирина Витальевна. И Женя написал:
«Моя любимая книга «Катя и крокодил». Эта книга рассказывает о девочке, которой подарили зверей. Как эти звери потерялись. Эта книга учит тому, что хоть умри, а что тебе доверили — сохрани».
Когда же Алевтина Адлер, забирая книгу, спросила: «Понравилась?» — Женя скучно ответил:
«Ничего. Лучше бы про войну». Он никогда не любил про войну, это Волков все про войну.
«Значит, не понял, — сказала Алевтина Адлер. — Ладно, я принесу «Военную тайну».
«Больные такие капризные, — пожаловалась она дома, — что ни принесу, все не нравится. И даже нельзя обидеться!»
Ирине Витальевне иногда хотелось спросить Женю, но понимала — нельзя. Раз только он сказал вдруг: «Ненавижу церковь...» Ирина Витальевна молча взглянула. Женя ответил:
«Нет, нипочему. Просто живу рядом. Бабка туда ходит. Я ей говорю: «И не противно тебе по полу валяться?»
Ирина Витальевна знала, что мама Рулла тоже ходит, ни одного церковного праздника не пропустит.
— Я в тебе ошиблась, Евгений, — говорит Елена Федоровна. — Думаю, что в следующем году класс найдет себе более достойного, более честного председателя совета отряда.
— Руль, что ли, один виноват? — говорит Палька Волков.
— С тобой, Волков, будет особый разговор. А у Руллы не хватает мужества назвать хулиганов…
«Запомни, — говорил отец, — ты для себя учишься, не для них!»
«Щас в пионеры вступишь, после в комсомол, после — куда хотят, туда и пихнут. Этого хочешь? — кричала мать. — У тебя отец дерьмо возит на поганой машине, и ты того хочешь?!»
«Никаких пионеров!» — сказал отец.
Через месяц мать нашла галстук, топтала, хлестала Женю по лицу...
— Круговая порука вас не спасет, — говорит Елена Федоровна. — Пока не назовете зачинщиков, будете сидеть, хоть всю ночь. Родители прибегут, пусть полюбуются!
...Он стал забывать дома галстук. Раз, другой, третий... Подойдет: «Ирина Виталевна, сам не знаю... опять...» И видно, что голова тяжелая, не поднять.
Вдруг пропустил целый день. Пришел — рот от уха до уха, улыбка — первая в истории. Галстук аж хрустит. «Ирина Виталевна, я никак не мог прийти, никак. А справки у меня нет, потому что не болел». — «Ничего, Женя, это бывает, что люди никак не могут...»
— Не может быть такой причины, чтобы поднять руку на своего же товарища, — говорит Елена Федоровна. — Вы вообразили, что можете делать что угодно? Но школа вам этого не позволит! Рулла, я последний раз спрашиваю!
— Я не могу сказать, — говорит Рулла.
— Но ты же обязан, как председатель! Почему не можешь?!
— Так, — говорит Рулла, — не хочу.
...Мама не выкинет, если заплачены деньги. Женя искал наверняка. В шкафу, на маминой полке, в чемодане.
Нет, она не могла выкинуть. Нашел в самом низу сундука, весь в нафталине. Концы разлохматились, когда топтала, ерунда починить.
«Чего потерял?» — спросила мама, и по голосу было видно, что сразу же поняла.
«Сама выгладишь и сама на кровать повесишь, — сказал Женя, — или я больше в школу ходить не буду».
«Вот как? — сказала мама. — Отец, полюбуйся!»
«Хоть забейте», — сказал Женя.
«Нет, нет, нет», — повторяет Ирина Витальевна и, слепо нащупав дверь, выбирается в коридор. Против учительской, у окна, лицом в ладони, стоит завуч, Маргарита Сергеевна, говорит себе нескладуху: «Это не то чепе, вот это — чепе».
— Знаешь, Рита, — говорит Ирина Витальевна, и Маргарите Сергеевне вдруг кажется, что сейчас она наконец скажет, кто Юккин отец.
— Знаешь, — говорит Ирина Витальевна, — через год, а может быть раньше, Жене Рулле уже будет все равно, пионер он или не пионер. Он будет действительно забывать дома галстук.
— Фу! — говорит Маргарита Сергеевна. — Вдруг чепуха такая подумалась.
— Знаешь, — говорит Ирина Витальевна, — если Покровский вот так отбивает ногой, механически, значит, он плохо слышит. Он когда волнуется, всегда хуже слышит. Иногда диктуешь, а он по губам ловит. И не сознается. Я-то знаю...
— Что ты думаешь об этом эксцессе? — говорит Маргарита Сергеевна.
— Инцидент, не имеющий прецедентов, — говорит Ирина Витальевна. — Тебе, Рита, никогда не мешают умные слова? Вообще — слова?
— Лет в семнадцать бывало, — говорит Маргарита Сергеевна. — Цветаевские родители так не оставят, я уверена.
— Когда очень плохо, — говорит Ирина Витальевна, — почему-то думается речитативом, без запятых и без точек. У Цветаева крапчатые глаза, он с Адлер был на одной парте, а потом Адлер отсела. Я спросила: «Почему?» — «Если я вам скажу, говорит, нам обеим будет противно...»
— У меня в классе был мальчик, Волосян, — говорит Маргарита Сергеевна, — я на тетради исправлю — «Волосяна», а мать снова перечеркнет: Волосян! Потом пришла: «Почему вы склоняете моего мальчика?» На все внимание обращать — надорвешься.
— Надорвешься... — говорит Ирина Витальевна.
— Елена Федоровна считает его своим помощником. Без Юры, говорит, мне было бы трудно поддерживать нормальную дисциплину, потому что класс воспитан в традициях круговой поруки.
— Покровский осенью два дня пропустил, — говорит Ирина Витальевна, — пришел без справки: «Мама опаздывала и не успела написать, завтра можно?» Она на него: «Прогулял? Как нет, когда да? Лучше сознайся! Где прогулял?!» Вечером мать прибежала — парень отказывается идти в школу.
— По-моему, — говорит Маргарита Сергеевна, — ты слишком близко подпускаешь их к себе. Все-таки нужна разумная дистанция, иначе перестаешь существовать как личность.
— Знаешь, Санька в этот день впервые понял, что говорить ей правду — это не достоинство. Скажи, что прогулял, и тебе ничего не будет! Понимаешь?
— По-моему, ты просто ревнуешь ее к своим пятакам, — говорит Маргарита Сергеевна. — Она человек с более жесткими принципами, а тебе все кажется...
— Знаешь, Рита, если я возьму тебя за горло и припру к стене, ну к этой хотя бы, тебе захочется разговора по душам? Уродуй своих детей, раз уж они твои, но зачем — чужих?
— Я тебя очень понимаю, — говорит Маргарита Сергеевна, она видит, как открывается дверь класса, как трудно выходит в коридор Елена Федоровна, — я все понимаю. Но согласись, что избивать мальчишку до полусмерти — не метод.
— Нужно вызывать по одному, — говорит Елена Федоровна, — все остальное я испробовала.
— Что ж, — соглашается завуч Маргарита Сергеевна, — можно в кабинет директора. В такой ситуации лучше всего спокойный разговор.
— Я не согласна, — говорит Ирина Витальевна.
— У Ирины Витальевны всегда собственное мнение, — говорит Елена Федоровна, припадая на жесткое «о», — но мы все желаем детям только добра. Со своим Васькой я бы не так поговорила...
— Наши разногласия, — говорит Маргарита Сергеевна, — мы вынесем на педсовет, а сейчас я прошу вас, Ирина Витальевна, соблюдать хотя бы разумный нейтралитет.
6
Первой в кабинет вошла Алевтина Адлер.
Она была самой длинной девочкой в классе и поэтому слегка сутулилась. Вчера мама долго глядела, как Алевтина выкомаривает под душем, и наконец сказала: «Придется купить купальник». А в прошлом году смеялась, что Алевтина загорает в майке. Алевтина презирает банты, потому что банты непомерной величины носит Люська Тарнаева, чтобы понравиться Волкову. Но Волков и не смотрит на Люську.
В кабинет директора обычно вызывают только махровых двоечников или если кокнешь стекло. Алевтину еще в жизни не вызывали. Поэтому у нее противно дрожит коленка.
— Вот скажи мне, Адлер, — говорит завуч Маргарита Сергеевна, — ты любишь свою школу?
— Да, — кивает Алевтина.
— И тебе бы, конечно, не хотелось, — говорит завуч Маргарита Сергеевна, — если бы ты вдруг не смогла здесь учиться дальше?
— Да, — кивает Алевтина.
— Вот видишь! — говорит завуч. — А после сегодняшней истории с некоторыми ребятами из вашего класса нам придется расстаться, понимаешь? Мы вынуждены будем исключить. И нам очень не хочется, Адлер, — говорит завуч, — чтобы такая серьезная, хорошая ученица, как ты, попала в их число.
— Да, — кивает Алевтина.
Просто возьмут и вычеркнут из журнала, скажут — иди! А дома папа, длинный, веселый и тонкий, как торшер, крикнет незнакомым голосом: «С тобой, как с чирием, носятся, а ты!» Так было всего один раз, но все-таки было. И Алевтина не может, чтобы он кричал еще...
— Вот видишь! — говорит завуч. — А чтобы этого не случилось, ты нам сейчас расскажи все по порядку: что у вас произошло с Юрой Цветаевым, почему ты, например, от него пересела? Вас ведь, кажется, вместе посадили?
— Так, так, — подтверждает Елена Федоровна. — Она без разрешения перешла. У них в классе это бывает.
— Просто так, — говорит Алевтина. — Я не люблю на первой парте, из-за меня не видно.
«Даже себе не повторю, что сказал Цветай, никогда! И даже думать об этом не буду! Как они не понимают!»
— Мне помнится, — говорит завуч, — что кому-то ты говорила другое, а? Ну, ладно, предположим, что так. Ты нам скажи, Адлер, почему вы сегодня все на одного? Разве это честно? Неужели ты тоже била?
— Да, — кивает Алевтина.
— Вот видишь, — говорит завуч, — тебе стыдно. Но мы знаем, что начала, конечно, не ты. Ты просто пошла у кого-то на поводу и за это будешь наказана. Но полной мерой ответит за сегодняшнее безобразие тот, кто его придумал.
«Сейчас она спросит про Волкова. Елена не любит Волкова. За три ошибки лепит фару. А Цветаю за то же — читу с минусом. А Ирина Витальевна молчит, она теперь уже не классный руководитель. Но хоть бы сидела! Ирина Витальевна встает — как она медленно встает! — и уходит. Только пусть не спрашивают...»
— А Рулла тоже бил? — спрашивает завуч.
— Не помню, — говорит Алевтина.
— А Волков? — говорит Елена Федоровна.
— Волкова совсем не было во дворе, — быстро говорит Алевтина. — Он как раз был в раздевалке, он там дежурил.
У окна сбит кучей актив пятого «а». Они ждут своей очереди. Серега выпрямляет очки. Олега смешит Люську Тарнаеву, чтобы не так крупно ревела. Палька стоит в стороне предельно независимо. И по тому, что никто ни о чем не спрашивает, Ирина Витальевна понимает, что Палька только-только отскочил от замочной скважины и что информация была железная.
— Вот вам одна минута, — говорит Ирина Витальевна, — и чтоб за эту минуту никого не было в школе.
— Как? — не понимает Рулла.
— А так, — объясняет Ирина Витальевна.
— Мы Адлер подождем, — говорят близнецы Ишанины.
— Сама большая, — говорит Ирина Витальевна, прикидывая, что в такой майский вечер подождут и во дворе. — Двадцать секунд ушло на болтовню!
— Димуш отпустили? — удивляется Покровский. — Грозилась, до утра будем сидеть...
— Поговорим завтра, — объясняет Ирина Витальевна, — а сегодня все подумаем.
— Атас! — бесшумно свистит Палька. — Оборвись!
Ирина Витальевна смотрит, как они дружно скатываются с лестницы. Слышит, как внизу крякает крюк, охает дверь, рассыпается смех. Не хочется возвращаться в кабинет, где все идет как надо и нельзя помешать. Она уходит в учительскую.
— Ты умная девочка, Адлер, — говорит завуч. — Ты понимаешь, такая драка не могла возникнуть из ничего. И обязательно должен быть тот, кто начал первым, правда?
— Все начали, — говорит Алевтина. — Разве разберешь в куче?
— У них, в этом классе, удивительная манера прикрываться всеми. Никаких концов не найдешь! — возмущается Елена Федоровна. — Ты же отлично понимаешь, Алевтина, что говоришь неправду. Здесь нет никого, кроме нас. Назвать хулигана — ведь это не значит выдать товарища, ты понимаешь? Это значит — помочь человеку, у которого не хватает мужества. Они просто неправильно воспитаны, Маргарита Сергеевна.
— Видишь ли, Адлер, — говорит завуч. — Есть два понимания товарищества: истинное и ложное. Ты стоишь сейчас на позициях ложного товарищества. Твой папа выступает с такими принципиальными статьями! Ему будет больно узнать, что дочь замешана в столь неприятной истории. Ты об этом подумала?
— Да, — кивает Алевтина.
— Ты ведь серьезная девочка, — напоминает Елена Федоровна.
— Да, — кивает Алевтина.
— Значит, плохо подумала, — продолжает завуч. — Ты видишь, вот я пишу записку: «Товарищ Адлер! Срочно зайдите в школу по вопросу избиения вашей дочерью Алевтиной ученика 5 класса «а» Цветаева Юрия...» и отправляю ее в редакцию. Как стыдно будет папе!
Алевтина молчит и смотрит в пол.
— Что вы, Маргарита Сергеевна! — волнуется Елена Федоровна. — Я уверена, что до этого не дойдет, Аля не захочет доставлять отцу таких тяжелых минут. Правда, Аля?
Алевтина молчит и смотрит в пол.
— Конечно, может, она не так виновата, как кто-нибудь другой, — говорит завуч, — но раз она не желает даже с нами разговаривать, мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам.
Алевтина молчит.
— Кто-то захотел свести личные счеты с Цветаевым и прикрыться именем класса, так? Кто-то решил сыграть на неправильном понимании понятия «дружба». А отвечать за это придется тебе, твоим родителям. Хотя если бы...
— Да, — кивает Алевтина.
— Что — да?
— Если я скажу — кто, — говорит Алевтина, — вы никого больше не будете спрашивать?
— Конечно, — обещает завуч. — И все, о чем мы беседовали, останется между нами.
— Пионеры не торгуются, — говорит Елена Федоровна. — Я всегда знала, что ты честная девочка, Адлер.
— Да, — говорит Алевтина, — это я предложила. Я его первая ударила! Я подговорила ребят!
«С тобой, как с чирием?» — Пусть! «Ты любишь школу?» — Пусть!
— Я!.. Я!.. Я!..
7
Почему-то в конце последнего урока, когда терпение на пределе, вдруг вытаскиваешь к доске свое самое горючее горе. Горе бросает неотложные дела, вроде втыкания пера в соседа на предмет испытания соседской воли или сдувания с парты единым духом книжки в двести страниц, и начинает плоским голосом разбирать:
— ...такого проливного дождя...
— ...проливного... это будет... местоимение...
— ...это будет... прилагательное... среднего рода…
— Почему же среднего?
— ...отвечает на вопрос «какого»...
И тут в класс врывается звонок, последний, разнузданный в своей долгожданности. И горе у доски всем своим постным видом подчеркивает, что ты изверг, что ты мучитель и лишаешь бедного ребенка скромных радостей жизни. И ты все-таки разрешаешь классу: «Идите!» — и поворачиваешься к горю: «А тебя это не касается, продолжай!»
— ...нет, это женского рода... по существительному «дождя»...
— Значит, «моя дождь»? — ехидно спрашиваешь ты. Тебе просто хочется накричать на горе, сорваться от души, даже стукнуть. В конце концов, до каких пор, с утра до ночи? У тебя дома два таких своих кипариса. От одного последнее время определенно попахивает «Беломором». Наводящий вопрос — где он берет средства?
— ...это будет... мужского рода... — бродит в потемках горе. И вдруг тебе становится безразлично, тупо, — в конце концов «моя дождь», «мое дождь» — разница невелика, лишь бы не попасть без зонтика.
— ...такого... это будет... прилагательное...
А звонок звереет, закручиваясь жгутом, пробивает школу насквозь, вертит школой, как хочет. Еще и еще! Еще! Техничка заинтересована всех выгнать, — хватит, навозились, пора дело делать. Толку ото всех — одна грязь. Учителя, а прямо тяпают — туда-назад, ноги не вытирают, даром тряпка постлана.
— ...будет местоимение… — метит в яблочко горе.
— Чего молчишь, товарищ октаэдр? — спрашивает Зинаида Петровна у радио. — Хоть бы последние известия рассказал, глаза сэкономил, а?
— Бесполезно крутить, — говорит Ирина Витальевна, — обиделся. Я думала, вы прямо от Цветаевых — домой...
— Логично, — гудит Зинаида Петровна, — тем более у Цветаевых с последнего толку сбилась. А контрольную не прихватила, пришлось возвращаться. Такая старая гипотенуза, как я, может себе позволить — вернуться. Хоть десять раз, никто не ждет.
— Вас завуч искала, — говорит Ирина Витальевна.
— Ох, верно, забыла, — гудит Зинаида Петровна. — Удивительно, как возраст лупит по памяти. Обещала ведь Маргарите Сергеевне рассказать, что да как. Ушла?
— Заседают с Еленой Федоровной в директорском.
После шестого урока, если ни педсовета, ничего, учительская не рассиживает. В темпе отбирает тетрадки, чтоб вечер не пропал, тайно подкрашивает губы, просматривает журнал кровных, своих, поправляет капроновые швы, заглядывает в зеркало.
— Ой, девушки, новая морщина! Сегодня утром глядела — не было. Вот, пожалуйста, работа восьмого «в»!
— Я Галине вывела три. Лучше твердая тройка, чем натянутая четверка.
— Горизонтальные морщины счастливые, от спокойной жизни. Вот если по вертикали пойдут, тогда...
— Галина, может, вам эту четверку пятеркой бы отработала...
— Интересно, доживем, чтобы косметический кабинет в городе открыли?
— Геннадий? Абсолютно умный парень. У него? Да нет, два, три, три с минусом, два. Но — голова! Я его с восторгом слушаю, абсолютно.
Зеркало за диваном, небольшое, на полтора лица, не успевает отражать. Конечно, все помнят: Волобуева оступилась, упала; у директора с матерью что-то; чепе в пятом «а», — трудный день. Но в разговорах этого нет.
Учительская, как всякая уважающая себя семья, не кричит о своих бедах. Тем более — трудностей каждый день навалом. Вот вчера: девятый «г» сорвал биологию; шестой «б» привел овчарку на географию, там все помешаны на пограничниках, покусала, к счастью, только одного, этот один, сегодня звонили, через окно удрал от укола в живот; Юра Трифонов ходил по карнизу на третьем этаже, на спор, как в «Войне и мире», творческое освоение классического наследия, которым теперь занят комитет комсомола. И другое, разное, помельче.
О радостях учительская тоже кричать не любит. Во-первых, как бы не сглазить, больно дело живое — воспитание. Во-вторых, радость требует еще большей тишины внутри себя и вокруг, чтобы пыльца с нее не облетела.
Вот сегодня утром постучали в учительскую, робко, как двоешникова мама. «Можно!» — крикнул кто ближе. И вошел мужчина, габаритный, с руководящими залысинами, в положительном черном костюме. И мнется на пороге, будто его за ноги хватают. «Вы к кому, товарищ?» — спросили кто ближе. А он все возвышается и мнется...
Тогда Зинаида Петровна вдруг надела очки и пошла прямо на него, потому что у нее чутье. Подошла вплотную да как загудит на самых ласковых оборотах: «Севка? Вымахал... логично... Девочки, это же Севка Шарапов». «Я…» — расплылся Севка, и будто сразу вылез из своего габардина и аккуратных залысин. Тогда его узнала вся старая гвардия. Как не помнить! Если знаменитую «Республику Шкид», в первой ее, конфликтной, половине, перевести на одного человека — Севка и будет.
Учителя соглашались лучше из школы уйти, чем взять Шарапова в свой класс. Ему кола по поведению много, тройку едва натянули, для комиссий. А когда Севку почти решились исключить, Зинаида Петровна вдруг схватилась за виски: «По-моему, он хорошо чувствует пространство, попробую». Кстати, до того никаких дел с Севкой она не имела, вообще шестых не вела в тот год, но насчет пространства как в воду глядела.
Так вот, Севка Шарапов, главный инженер стройтреста, только что переехал в родной город. Но далеко, в новый район. И очень ему хочется, и жена тоже просит, чтобы его парень ходил именно в эту школу, расстояние — наплевать, мальчишка тренированный, вратарь, левый край — кто хочешь. А чужим они боятся отдавать: парень — как бы это сказать полегче? — в школе способный, а того и гляди, не то чтобы, но все-таки...
— По поведению — три? — спросила Зинаида Петровна.
— Выправился малость, — успокоил Севка, — на четверку тянет.
— Тогда-то чего?! — засмеялась Зинаида Петровна.
Ушел Севка — в улыбке, родной, весь положительный, но не чересчур, судя по глазам: взгляд — как рыба-меч, рраз! — и снова тихо. Зинаида Петровна только и сказала:
— Устойчивая вещь эта ДНК, даже удивительно! Трояк поведения и тот передался.
— Дэ-эн-ка? — переспросила молодая историчка.
— Дезоксирибонуклеиновая кислота, — объяснила Зинаида Петровна, — наследственное вещество. Читали, наверное? Хотя вы же законченный гуманитарий, это логично.
— Не забыл, — подтвердила учительская.
Один такой Севка может надолго смягчить больные вопросы. Остается ли что-нибудь в людях, которых ты учишь, не всех умея понять и не всех принимая сердцем? Не умея всех сделать друзьями. Будут они, взрослые, драться или мимо пройдут: «Так, ничего особенного, — хамом больше, хамом меньше, — три к носу...»
Или правда что-то крепкое теряет современная молодежь по сравнению с тем, нашим, поколением?
На вечер к старшим пришла, а они раскачиваются на одном месте, один сон смотрят. А танец — это же выражение себя в движении! Порыв! Искра! Может, и правда, это проявление их жизненной позиции — пассивная расслабленность? А! Чушь! — попробуй разбегись в школьном зале...
Может, именно на Севкином сыне и обломаешь зубы, но поймешь наконец что-то главное для себя. Нутряным наитием.
После шестого урока редко кто пускается в длинные разговоры. Если только подопрет...
— Думаю переоборудовать биологический, — говорит Клавдия Васильевна.
Клавдия Васильевна обычно торопится домой раньше всех. Муж у нее способный конструктор, ему нужна атмосфера. Он в своем дворе чужой, ни с кем не здоровается, презирает пенсионеров, считает, что честный конец — только в работе, на середине горячей мысли. Дома он совершенно беспомощен. Пока жена не придет, лежит голодный на диване, читает технические журналы. Больше всего ценит в людях пунктуальность: сказала — будешь в шесть, так изволь.
В каждом классе есть надежная девочка, которая обожает малышей и не торопится к доске. В начале шестого урока, по просьбе Клавдии Васильевны, она бежит (конечно, не торопясь) в детский сад, рядом, за два квартала, и возвращается с розовым пупсом — Аленкой, пять лет и два месяца. Когда они в разгар опроса пробираются стеночкой на заднюю парту, и ребята, и Клавдия Васильевна делают вид, что ничего отвлекающего не происходит. Педсовет ничего не может. Конструктора пупс сбивает с мысли, это исключено. После звонка Клавдия Васильевна с Аленкой бегут домой, к папе.
Вчера последний урок выпал на пятый «в». Аленка капризила еще утром, привели надутую, как села за парту, даже не взглянула ни разу. Клавдия Васильевна продолжала: «...пыльца, которой обмазалась пчелка, попадает на рыльце пестика другого цветка...» «Мама, — громко сказала Аленка, — мама, я хочу какать!»
А с пятым «в» у Клавдии Васильевны уже было. «Клавдия Васильевна, — спросил Розов, — вы институт кончали?» — «Конечно, хотя это не имеет отношения к нашей теме». «И весь-весь кончили?» — спросил Розов. Он редко проявлял интерес, поэтому Клавдия Васильевна ответила: «Конечно, Розов. Спрашивай по существу!» — «А почему же вы ничего, кроме учебника, не знаете?» — спросил Розов. И извинился только через директора...
«Я какать хочу!» — повторила Аленка. И весь урок полетел к черту. В другом бы классе поняли, но не в этом. Дома Клавдия Васильевна легла на диван и не стала кормить конструктора. «Ты чего, Клавдия?» — он ее всегда называет «Клавдия», если хочет ласково. Но она только отвернулась к стенке. Столько новых работ... биофизика... Когда-то говорили — будет толк... сама отказалась от аспирантуры, чтобы на своих ногах. Теперь не догнать. Себе-то чего врать — не получилась, так, штатная единица…
Сегодня конструктор вдруг позвонил в перемену: «Клавдия? Ну да, я. Какой номер детсада? У книжного? Найду. Во дворе, налево? Не торопись. В кухне? Найдем-найдем!» И у Клавдии Васильевны вдруг оказалась бездна времени. Прямо смешно, как все бегут после уроков. Приятно просто присесть в учительской на старый диван. Кактус вон полить...
— Я думаю переоборудовать биологический кабинет, — говорит Клавдия Васильевна, — а то он идет в противовес программе, такое древнее оформление...
— Не читали «Куда плывут материки»? Ничто так не развивает воображение, как биографии великих людей. Теория Вегенера...
— В консерватории спрашивают на собеседовании: «Периодизация творчества Тютчева»... Слыхали, Инна Андреевна?
— Эпохально!
— У Вегенера, Клавочка Васильевна, была узкая комната и жесткая немецкая кровать. Для Вегенера это логично. И карта во всю стену. И в одно прекрасное утро Вегенер вдруг понял, что материки расползлись, как черепахи, — вот Африка, а вот Южная Америка, как точно они входят друг в друга...
— Разрешите, — говорит Елена Федоровна и раздвигает народ у двери. Она видит, как Зинаида Петровна ораторствует над глобусом — у этой своя философия на каждый чих, Клавдия Васильевна слушает, будто что понимает, Инна Андреевна — этой везет во всем, память, фигура, напропалую везет — крутится у зеркала, и вокруг нее хохочут.
— Разрешите, — говорит Елена Федоровна, раздвигая народ. — Значит, своих могу уродовать? — говорит Елена Федоровна. — Спасибо, уважили, Ирина Витальевна! А ваших, значит, порчу? За горло держу? Из-за меня они в школу не желают?
— Не понимаю, — говорит Ирина Витальевна.
— Отлично понимаешь, голубушка, все ты понимаешь, — говорит Елена Федоровна. — Ты своих пятаков против меня настроила, ты и родителей на меня напускаешь...
— Девочки! — гудит Зинаида Петровна. — Девочки!
— А теперь вы, Ирина Витальевна, добрались уже до школьного руководства? — говорит Елена Федоровна. — Но я не позволю себя...
— «...послушаем старинную мелодию в исполнении ложек с бубенчиками в сопровождении баяна», — вдруг громко сказало радио.
8
Сзади у школы торчат два кирпичных выступа, как лопатки. С затылка школа грязна, не тронута косметикой, даже не оштукатурена. Кто-то вытащил из сарая старые мудрые парты и раскидал по двору. Из-под них пробивается нежная крапива. Глубокое небо, прошитое белой реактивной радугой, висит над школой. Девчонка, два вершка от горшка, укладывает в песок дочку: «Бай- бай!» Дочка завернута в газету. За процедурой следит уж совсем крошечный человек в синих штанах с начесом и белом младенческом лифчике.
«Тоже мне — Давид сосунский», — смотрит Ирина Витальевна.
Ветер мешается в игру, рвет газетное одеяло. Тогда видно, что никакой дочки нет, просто «Известия», закрученные туго, плюс богатое воображение. «Бай-бай» — поет девчонка, а ветер рвет из рук.
— Держи, дура! — кричит Давид сосунский, с удовольствием прокатываясь на «р-ры». Белый лифчик и штаны с начесом вкусно припорошены пылью. Мир огромен и добр. В нем есть прекрасные слова: «дырка», «забор», «дура» — и все они подчиняются человеку.
Ирина Витальевна сидит за партой во дворе. Парта видала виды, крышка жестоко изрезана, надписи наскакивают друг на друга, кое-что пропадает для потомства, не прочитать.
«Там на неведомых дорожках стиляги ходят в босоножках», — мелко-мелко сообщает парта.
«Гоу ту хел!» — ругается парта русским шрифтом на иностранном языке. Далее врезан профиль с грудью русалки, творение неизвестного художника. И сомнения: «(а2 + х2) =?» Действительно...
«Посмотри в сумке кенгуру!» — заклинает парта.
«Савичева сзади как баба», — хамит парта. И сразу получает по заслугам: «Идиот!» И тут же проводит анализ: «Иди от. От чего — от? Ушибить = уши бить».
«Я сегодня счастливый!» — утверждает парта. Или не спросили по анатомии, или она сказала, что согласна дружить.
— Я тебя по всей округе ищу, Ирэн, — говорит Инна Андреевна. — Там Елена Федоровна от твоих пятаков отказывается, а Марго ее улещает.
— Чего искать? — говорит Ирина Витальевна. — Я тут на раскопках.
— Ты их сама отпустила?
— Какая разница? — говорит Ирина Витальевна. — Ну, сама!
— Вздумалось козлику в лес погуляти? И остались от козлика сама знаешь что и розовые очки. А педсовет, между прочим, с понедельника перенесли на завтра. И проводить будет Марго. На кого она смахивает анфасом?
— А потом выступишь ты, — говорит Ирина Витальевна, — и скажешь, например, что полностью со мной согласна. Что я могла еще? Присутствовать при издевательстве?
— Пошла бы домой и легла спать, — говорит Инна Андреевна и заметно грустнеет. — Завтра я, предположим, скажу, а первого числа попрошу два дня за свой счет, чтобы слетать на премьеру, и получу задумчивую дулю, так, Ирэн?
— Правильно, — говорит Ирина Витальевна, — значит, тебе завтра придется помолчать. А премьера — очень серьезно?
— Плохо моему парню, Ирэн... Очень... каверна на каверне, — говорит Инна Андреевна. — Так и начинаются компромиссы, да, Ирэн?
— Святой Ильф! — говорит Ирина Витальевна. — Что за тон? Выступай себе на здоровье. К первому наверняка вернется директор...
— Оттого, что мы распушим над пятым «а» большую самоварную юбку, общая обстановка не изменится, — говорит Инна Андреевна.
— Ты мрачно настроена, — говорит Ирина Витальевна. — Но своих пятаков, можешь мне поверить, я доведу до десятого. И ты мне поможешь...
— Не знаю, — говорит Инна Андреевна. — Я просто боюсь, Ирэн, что завтра ты останешься одна, как кукушка на часах. Часы все дешевеют. В случае чего — их просто заменяют.
— На болотах растет симпатичный цветок, — говорит Ирина Витальевна, — «кассандра», по-нашему — прорицательница. Но я больше люблю ромашку.
— Эпохально! — говорит Инна Андреевна. — Какой дипломатичный разговор, тайный агент номер сто десять, вмонтированный в парту, ничего не понял. Кстати, Марго сегодня нанесет визит твоему Волкову.
— Сомневаюсь, чтоб раскачалась...
— Там разделили возможных зачинщиков, и она забрала себе самого страшного.
— Что ж! — говорит Ирина Витальевна. — В таком случае, мне надо шевелиться. А тебе, пожалуй, правда, лучше помолчать завтра.
— Не смогу, — говорит Нина Андреевна. — Заранее противно. Главное, ничего не доказать, потому что диаметрально разный подход... А надо.
— Ты куда? — говорит Ирина Витальевна.
— С тобой, серенький козлик, только с тобой, — говорит Инна Андреевна, — до самой автобусной остановки.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Палькина мама работает далеко. Если бы автобус сам не выкинул Ирину Витальевну, она бы проехала — так застроился район. Нет больше старых замшевых крыш, которые хотелось погладить рукой. Высоко в небо крановщик поднимает за здоровье города огромную чашу раствора. Новые дома, в легких балконах, обступили шоссе. Но автобусная будка — та же, Ирина Витальевна ее помнит. На будкином фасаде кричат два плаката: «Препятствуйте выплоду мух!» и «Осторожно — аскариды!» Значит, поликлиника рядом.
У будки стоит девчонка с батоном. Ее давно ждут из магазина. Но она стреножена ритмом: «Я ее изобью, мириться не буду!» «Уу!» — мотает головой девчонка, отказываясь от слишком мелких чувств. «Я такое найду, говорить не буду...» — блуждает девчонка в творческом тумане. «Ыуы... ыуы...» — проверяет размер девчонка.
«Я весь мир обойду, побываю всюду, а уроки учить никогда не буду!» — нащупывает идеал девчонка.
В стоматологической поликлинике свежая краска забивает профессиональные запахи.
— Ой, смехота, не может быть? — кричит в телефон регистратура, прикрываясь ладошкой. — Правда? Вот умора!
— Девушка, кто у вас лучший рвач? — спрашивают в окошко.
— Врешь! Вот смехота!
— Девушка, я к вам обращаюсь...
— Подождите! Не видите! Да нет, я не тебе. Ну и что? Вот умо… Позвони через пять минут, ладно? У нас все врачи хорошие, гражданин. Смехота — номерок! Вы бы еще ночью пришли! С восьми утра!
— А по телефону можно? — спрашивают в окошко.
— Смешно! Я же вам русским языком... По телефону не оставляем. Ничего, если болит, время найдете!
— Волкову как найти? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Второй этаж налево.
Лестница для поликлиники слишком крута, через две ступеньки не шагнешь...
— За!-ве!-ли!-ся! (У Пальки всегда рука вверх, вся, от плеча: я тебя слушаю! Давай! Наяривай! Объясняй! «Знаете, кто первый открыл мороженое? Александр Македонский! Был жаркий бой, он и придумал — смешал мед со льдом. А потом изобрели пломбир. Только дорого...»)
— Та!-ра!-ка!-ны! (Девятнадцать копеек, дорого. Можно почти два молочных купить. Одну руку тянет вверх, а второй пускает бумажный самолет, зад — автономно — ерзает по парте, ноги воюют с соседом сзади или спереди. Глаза — за окном, вроде и нет Волкова в классе. А спроси — все отбарабанит и еще свою точку зрения пристегнет...)
— Ста!-ла!-ба!-буш! («Можно, я корни буду собирать? Листья — фиг ли? Корни — законно! В темноте сидят...» Палька видит с боков и, кажется, сзади, глаза у него широко расставлены. И переносица как седло. Может, и корни видит. «Я некрасивый, да? Очень? Нет, вы по-честному!» Мама говорит Пальке: «Урод! Отца благодари!..»)
— Ка!-счи!-тать!-раз! (Если уж у кого безусловно симпатичная морда — это у Пальки. «А папа знаете какой красивый был? Мама — что-о... Я бы вам папину карточку показал, только у меня нет. Знаете, тогда еще не было фотографий. А кто первый изобрел фото?..»)
— Два! — считает Ирина Витальевна и сворачивает, как приказано.
— Металлические? Они портят улыбку, — говорит дама перед протезным, — конечно, только золотые. — Она пришла впервые, с книжкой — на случай ждать, со светлыми намерениями.
— Вы, извините, «Золотую рыбку» в школе проходили? — спрашивает даму военный. Крупный какой-то, судя по звездочкам. — Александра Пушкина?
— Разве военных увлекает Пушкин? — улыбается дама с книжкой. — Это для меня серьезная новость...
— А почему бы и нет, — говорит военный. — Приплыла, значит, в один частный тихий дом рыбка в синтетическом манто, спросила: «Почем нынче золотишко?» — «Десять новых за грамм, — ответил уверенный частник, — триста за оба плавника». Дрогнула хвостом золотая рыбка: не по карману. А частник почему уверенный? — Тут военный ткнул пальцем в бумажку на кнопках: «За отсутствием, работы из золота не производятся...»
— Как? Действительно нет золота? — говорит дама с книжкой.
— Пройдите, Чистяков, на примерку, — говорит медсестра военному. — Между прочим, металлические практичней.
— Волкова принимает? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Волкова эту неделю в первую смену.
— Мне не решетки грызть, — говорит дама с книжкой.
— Ха-а-ха-ха, — закатилась очередь.
...Палька валялся в песке, рыжем и теплом. А рубашка лежала отдельно. Хотя кого может измазать такой песок? Палька весь день работал. Он все строил и, если бы не мешали, застроил бы тысячу городов. Или даже сто. Но кто-нибудь проходил, ненарочно наступал, и Палька начинал сначала. А потом вешали белье, будто больше некуда. А тут еще Васька из третьего подъезда проскакал на лошади через главную площадь. Палька успел дать ему два раза. Потом долго лежал на спине, пока кровь перестала из носу.
Теперь он наслаждался и чувствовал пузом солнце. И ничего не слышал — думал. Что Васька из третьего подъезда — все равно баба. Уже во втором классе, а мать ему кричит с балкона: «Васюта! Василек! Пора!» И Васька сразу бежит. Наверняка она его лупит. Иначе с чего бы он бежал?.. Если в деревне порыть песок, то снизу пойдет вода. А тут — рыл-рыл... И лучше пускай распухнет нос, чем быть бабой.
Потом думать надоело, и он услышал. Она сидела в кустах на скамейке, раскачивалась и ревела. И рядом никого не было. То, что она ревела для себя и трудно сглатывала слезы, тронуло Пальку. Хотя он обычно таких больших не жалел, такие сами доведут кого хочешь.
— Ты чего? — спросил Палька.
— Зуб, — сказала она и даже не отругалась. И Палька вдруг понял, как ей плохо: чужой двор, столько много лет, совсем старая девка, да еще — зуб.
— Пошли, — сказал он, стряхивая с коленок рыжее солнце.
— Иди ты, — сказала она и пошла за ним, как собака.
Палька не стал звонить, а постучал условным стуком, два раза быстро, косточкой, и один раз длинно, кулаком. Так маме стучали «по делу». Мама выходила, улыбаясь, как в гостях. Потом «по делу» садились у окна, где светлее, и разевали рот. Мама говорила Пальке: «Сына, погуляй в коридоре». Надо было гулять и смотреть, чтобы никто не подходил к их двери, особенно старуха Грицкова. Мама говорила, что у нее вообще длинный нос, хотя Палька этого не находил.
Мама сразу открыла, хорошо улыбаясь.
— Мы пришли по делу, — сказал Палька. — У тебя сегодня свободный вечер?
— Ты всегда путаешь, сына, — сказала мама и снова улыбнулась, правда немножко похуже. — В комнате поговорим.
— Я вообще фармацевт, — сказала мама в комнате, — но когда-то немножко смыслила в зубах. Покажи, девочка. Тут? Ты не из нашего дома? Нет? Павлик такой путаный...
Мама положила девчонке лекарство, а старуха Грицкова сказала в коридоре: «Уже невесты ходят? Хорошенькая девочка, как кукла».
Потом мама стала кричать:
— Не понимаешь, урод? Хочешь без матери остаться? Тебе без матери лучше? Под монастырь подведешь... — Палька не успел представить себе монастырь, как она уже била пряжкой...
С тех пор он уже не приводил домой никого...
Автобус от поликлиники еще полней. Но Ирине Витальевне везет.
— Ирина Варламовна? Вот так встреча! — И могучий дядя поднимается с плацкарта: — Садитесь, Ирина Варламовна.
...Он был трудным родителем: «Возиться мне с ним некогда, у меня стройка. Да, барышня, вам этого не понять! Простите, Ирина Викентьевна!» Так и не запомнил, как ее зовут. Самое близкое называл: «Викторовна».
— Садитесь, — настаивает он и, легко раздвигая претендентов, усаживает ее под оконную, под озонную струю. И сам нависает над ней, как защита, большой, искренне расположенный. — Мы вас как раз вчера вспоминали.
— Как Сережа? — спрашивает Ирина Витальевна.
...Парень пришел переростком, матери не было. В ее классе он почувствовал себя взрослым: малышня и их двое взрослых, он и Ирина Витальевна. Свои разногласия они улаживали после уроков, одни, без лишнего трепа, как и полагается взрослым. Кроме того, первого, случая с шариковой ручкой. Он был болезненно самолюбив. Приходилось обкатывать каждое слово, прежде чем сказать. И каждую интонацию.
— Сынище в порядке, — говорит дядя. — Кончил заочно техникум, женился. В нашем доме — и женщина, непривычно. А хорошо оказалось, Ирина Викторовна, — женщина в доме, это мягчит.
...Из шестого его все-таки выгнали. Замахнулся на учительницу. Слова имели над ним странную власть, его можно было убить словом. Он тогда выплескивался из краев. А не каждый достанет то слово, которое надо. Единственное.
— Вы запомните, Ирина Викторовна? Энгельса, восемнадцать, квартира пять, это новый район, за озером. Сынище будет счастлив... Мне выходить. Вы не забудьте! Энгельса, восемнадцать — пять.
— Спасибо, Константин Семеныч, — говорит Ирина Витальевна. — Я не забуду.
К Волковым можно звонить, написано — сколько. Тогда в квартире разом зашаркают, захлопают, кто-то крикнет пронзительным басом: «Не к вам!» И старый голос ответит совсем близко: «Еды лишилась с таким звонком». Можно просто стукнуть в стенку, если ты человек не новый. Палька сразу определяет — кто.
— Ирина Витальевна?! — открывает Палькина мама. — Боже, как кстати. Проходите в комнату, проходите, я вам такое скажу...
— Гуляет? — говорит Ирина Витальевна и видит, что портфеля нет, где обычно. И на столе слишком чисто.
— Вот именно, — говорит Волкова, — после школы не являлся. А Елена Федоровна вчера снова звонила: не остается на дополнительные по русскому, хоть ты что. Она мне посоветовала — диктанты. Так этот мерзавец дома, когда над душой стоишь, совершает две-три ошибки, а в классе по девятнадцать совершает...
— Выбирайте интересный текст, — говорит Ирина Витальевна, — других смысл отвлекает, а Павлика, наоборот, сосредоточивает. Куда он мог пойти?
— Разве его что интересует, кроме железок? Вчера снова снесла на помойку. Так ревел, верите? Над железкой ревет, а матери — умри, воды не подаст!
— Наверняка у Руллов, — говорит Ирина Витальевна.
— В двадцать лет остаться с ребенком, одной... Я умоляла его отца: «Не езди!» Нет, он все-таки поехал! И, конечно, полез, и, конечно, утонул — именно он. Как нарочно. В двадцать лет вдовой...
— Успокойтесь, — говорит Ирина Витальевна.
— Он мне крикнул вчера: «Хоть бы ты замуж вышла!» Он меня ненавидит, вы понимаете?
...Мама возвращалась поздно вечером, и рядом с ней — чужая тень. Потом они сидели под акацией. «Ночь-то какая!» — радовалась мама, хотя ночь была серая, в мелкую рябь. «Давно не было так хорошо, — сказала тень, — даже курить не хочется». — «Боже! — сказала мама. — Какой прогресс!» — «Так бы всю жизнь и сидел на этой скамейке, — сказала тень. — Тебе не холодно?» — «Чуть-чуть», — поежилась мама, хотя зимой она может целый час или даже сорок минут простоять на балконе. «Ветерок», — сказала тень и потянулась к маме пиджаком. Руки у пиджака болтались до земли.
Но он не успел. Из кустов на пиджак бросился человек, всем телом. Человек топтал пиджак твердыми босыми ногами и кричал без голоса, громким шепотом: «Не смейте трогать мою маму своими вещами!» Голос он сорвал, пока сидел в акации, держал себя за горло, чтобы прошел комок.
«Убирайся домой! — закричала мама. — Шпион! Урод!»
Мужчина промолчал и чиркнул спичкой.
— Ведь буквально нельзя было отойти! «С кем? Куда? Зачем?» Только чтобы с ним, только — для него. Нервы по нитке!
В первый класс Палька попал неудачно. Учительница стояла за тесный контакт. Кляксу посадил? — маму! В носу ковырял? — маму! С каким действием связано вычитание? — маму! У вас, мама, нервы, а у меня их — тридцать пять! Тридцать восемь! Сорок!
— Не разорваться же... Оставляю записку: «Сынок, подмети комнату, убери со стола, суп за окном. К шести будь дома». Чего проще. Так до одиннадцати носа не кажет... Он и ангела из себя выведет!
Синонимы расширяют кругозор, эпитеты пополняют словарный запас, методики пишут в институте усовершенствования. Белым по черной доске — «МАМА». Зеленым мелком, чтобы легче усвоилось: «Дорогая, родная, заботливая, нежная». «Дети, какие еще вы знаете определения, характеризующие самое дорогое понятие — «маму»? Коля! Вспыльчивая? Нет, Коля, ты меня неправильно понял. Лара! Милая? Очень хорошо! Добрая? Подходит!..»
— Вот купи ему велосипед! А заслужил он его? По русскому не вылазит из двоек. Дома две ошибки совершает, а в классе...
Потом диктуется примерный план: «Вспомни те случаи, когда мама проявила себя: а) заботливой, б) нежной, в) доброй...» Роза Крушина в третьем классе ошибок совершала бездну: «Я ни увожаю свою маму». «Роза, ты понимаешь, что ты написала?» — «Понимаю». Глаза сухи, не подпускают ближе, — понимаю. Что нужно?
Что? «Каждый человек должен уважать свою маму уже за то, что она мама». Или: «Ты еще слишком мала, Роза, чтобы судить свою маму!» А Роза закроет глаза, тяжело, как ставни: понимаю. Понимаю, что свое горе надо носить в себе. Другой раз я тебе черта с два скажу правду, такого наплету — закачаешься. Что вы все заодно, заодно, заодно! Что за папу шестьдесят два рубля получаем, и лучше бы она совсем ушла, а на шестьдесят два рубля мы, трое девочек, еще бы как прожили! Что папу Гришку мы все равно выгоним, выгоним, выгоним.
— На него ремень уже совсем не влияет, я вижу. За ухо рванешь, — а как с ним иначе, если не понимает? — дак взглянет, ну прямо зверь! Честное слово, он и ударить может...
Нет, друзьями они не будут. Двое совсем чужих. Пальку бы в интернат, если б гарантия, что попадет к Макаренко. «Я на пол бумаги набросаю, ладно? Все равно мыть?» А сам не терпит мыть, на людях — девчонкой. «Зачем, Павлик?» — «Очень хочется!» Глаза исступленно разбежались к вискам: прощальный звонок, куча впечатлений, разрядка у парня, не здесь, так за углом. «А класс придешь убирать?» — «Конечно!» — «Бросай!»
— Еще чуть-чуть — и будет матери сдачи давать. Вы знаете, Ирина Витальевна, я тоже у мамы одна была. Но чтобы когда грубо ответила или соврала!..
В шестом классе Роза напишет легко, как все: «Я очень люблю свою маму. У нее синие, ласковые глаза. Моя мама очень добрая. Я стараюсь учиться хорошо, чтобы мама не огорчалась». А сама шепчет Люське, подруге: «Наша Лиза снова в два ночи явилась. Как даст в окно, сама — в дым». Лиза и есть — мама, иначе сестры Крушины ее не называют. По сочинению будет тройка, за ошибки. Учительница скажет: обидно, содержание-то — на пять...
— Я теперь решила действовать иначе. Не знаю, как вы посмотрите, Ирина Витальевна, но без ремня. Я теперь так: ага, прогулял три часа? Будешь столько же сидеть ночью. И я с тобой буду сидеть, хотя у меня весь день на ногах...
— К вам же больные за месяц рвутся, — подбирает нужные слова Ирина Витальевна. — Вы же умный человек, вы же медик... Вы же не хуже меня знаете, что парень ночью должен спать.
— Я все средства испробовала, Ирина Витальевна. По русскому — два, по географии — единица. За железки небось переводить не будут. Останется на второй год — пусть домой не приходит...
— То-то он вчера мимо меня боком-боком, — говорит Ирина Витальевна. — По русскому Женя Рулла помогает...
— А что Женька? Этот Женька, слава богу, умеет устраиваться. Посмотрите, с кем дружит? Только с пятерочниками, катер у отца или мотоцикл...
— Святой Ильф! — говорит Ирина Витальевна. — Абсолютно не согласна. Вы Пальке не скажите, обидится.
— Уже сказала! У него хорошие друзья не держатся. Вон приходил раза два Юра Цветаев...
— Этого я плохо знаю, — говорит Ирина Витальевна, — это новый. Что, симпатичный?
— Разговаривает с тобой, так чувствуешь — с удовольствием. Рассудительный. Но моему же надо, чтоб все по его! Представляете, выгнал!
— Поссорились?
— Я в кухню вышла, а вернулась, уже один сидит. А где Юра? «Я ему завтра не так налажу!» Что же это такое: сидели, играли, и сразу — налажу? Что еще за «налажу»? «Отцепись!» Это он с матерью так разговаривает!
— Ни в коем случае не повышайте голос, — говорит Ирина Витальевна. — Он теперь уже большой.
— И в квартире никого не уважает. Откуда такая черствость? А приемник из мусора собрал — конечно, какой уж приемник, самолюбие одно! — и какой-то девчонке снес на день рождения...
В четвертом классе у Ирины Витальевны был с Палькой один совсем неожиданный разговор. «Все-таки Люська Тарнаева ужасно противная», — сказал Палька. Ирине Витальевне было здорово не до того. «Ну, не такая уж и противная, — ответила Ирина Витальевна, одним голосом, без участия сердца. — Ты ведь вообще никого не любишь». — «Нет, — сказал Палька и помолчал как-то особенно, будто придержал дыхание. — Люблю». — «Вряд ли», — сказала Ирина Витальевна, не вникая, слова впереди мыслей. «Нет, люблю, — повторил Палька, и глаза у него поехали к вискам, — только это совсем секрет». — «Разве могут быть от меня секреты?» — устало сказала Ирина Витальевна и тут испугалась, вдруг, разом, поняла весь разговор. А он улыбнулся, освобождаясь: «Нет, не могут». И озарением: «Конечно, не могут!..»
— Вот вы говорите — большой! А я уверена, он снес исключительно мне назло. У него к девчонкам — только дернуть, стукнуть, свистнуть…
«Я Розу люблю, — Ирина Витальевна слышала, как его лихорадит. — Мне сначала Адлер нравилась, а потом я понял, что она не то...» Это было продуманное, с горчинкой, «не то» много пожившего человека, которому есть с чем сравнивать. «Да, Розу нельзя не любить, — сказала Ирина Витальевна. — Такая серьезная, мужественная девочка, умница». — «Правда?» — вспыхнул Палька. «Душа у Розы сильная, — сказала Ирина Витальевна. — Никто ей не помогает, все сама — в школе, с сестренками...» — «И папа у нее тоже умер, — сказал Палька. — Я Розу люблю, — сказал Палька, — мы всегда будем дружить».
— Ручаюсь, — говорит Ирина Витальевна, — он не со зла. Не надо плакать, вырастет отличный парень, честное слово.
— Я… не потому... вот не хотела... говорить... а все одна... в больницу на той неделе... предлагают... может, операция... чувствую...
— Почки? — говорит Ирина Витальевна. — Что же вы сразу не сказали? Какой разговор? Ложиться! Обязательно!
— Думала... Пашка в лагерь... слушать не хочет... ты, говорит, от меня избавиться... там, говорит, над душой... стоят...
— Нашли чем голову ломать, — говорит Ирина Витальевна, — Юкка уезжает на все лето. Давайте мне Павлика, а мы вам будем ягоды носить, ягоды уже скоро... По воскресеньям с десяти до часу?
— Там теперь и по средам пускают...
— Волкова, к вам! — кричат в коридоре. — Из школы!
— Кромешно! — говорит Маргарита Сергеевна. — Чуть ноги на лестнице не обломала.
— Садитесь, пожалуйста, — суетится Палькина мать. — Мальчишки выкручивают, лампочек не напасешься...
— Перманентное состояние большинства домов, — успокаивает Маргарита Сергеевна, усаживаясь в профиль к настольной лампе. — У вас тут кворум, как я погляжу?
— Вы меня не подготавливайте, — говорит Палькина мать, — я от него всего жду. Раз вы двое пришли, значит...
— Рита! — говорит Ирина Витальевна. — Вот молодец, что за мной зашла, просто замечательно! Я тебя так глупо потеряла у школы, с ног сбилась! Хорошо, что ты догадалась заехать, хотя тебе что, ты же рядом живешь!
— Я, собственно, никак не ожидала... — начинает Маргарита Сергеевна.
— Нет, лучше всё сразу, — говорит Палькина мать. — У меня последнее время предчувствие...
— Святой Ильф! Никак не думала, что мы так глупо разойдемся. Ты, наверное, задержалась с Еленой Федоровной? А мне доклад обязательно завтра сдавать, прямо не знаю, что бы я делала, если бы ты не заехала!
— Раз такая ситуация, могла бы и сама зайти, — говорит Маргарита Сергеевна. — Я не знала, что тебе завтра сдавать...
— Вы меня не разыгрываете? — говорит Палькина мать.
— Стара я для розыгрышей, — говорит Ирина Витальевна, — стара и обременена семейством. Юкку в экспедицию провожаю, рюкзак требует с каркасом, а каркаса нет. Читали? Во Львове во сне обучают, прямо на биотоки. Скоро мы все отставку получим. Будут наши ребятки на ночь класть учебники под подушку, старым народным методом. А утром пожинать знания. Как вам это нравится?
— Моему подойдет, — нерешительно улыбается Палькина мать.
— Школа все в последнюю очередь получает, — говорит Маргарита Сергеевна, — вместо того чтобы с нас начинать...
— О Павлике не беспокойтесь, — говорит Ирина Витальевна Палькиной матери. — Смело ложитесь в больницу. Режьтесь или как там потребуют. Никаких особых претензий школа к нему не имеет. Правда, Маргарита Сергеевна?
— Я как завуч, со своей стороны, — говорит Маргарита Сергеевна, — мальчик живой... Раз такая ситуация!.. Где он, кстати?
— У Руллов, — говорит Палькина мать, — за уши не растащишь, приемник, что ли, кончают...
— Мы побежали, — говорит Ирина Витальевна. — Правда, Рита? Еще этот доклад, будь он неладен...
2
На улице свежо, отчетливо. Вечер подкрасился свето-рекламой, углубил лица, вычернил одинокие сосны. Вывесил сбоку картонную луну, на которой каждое море рисовано отдельно. С темнотой луна набирает желтизны, впитывает уходящий день.
— Какой доклад? — говорит Маргарита Сергеевна. — Думала, не сориентируюсь. Ты случайно тут оказалась?
— Случайное есть проявление закономерного, — так, что ли?
— Сказала бы, что сама заедешь, — говорит Маргарита Сергеевна. — Мне отсюда час выбираться.
— Ну, так кто же зачинщик? — говорит Ирина Витальевна.
— Как администратор я с тобой буду завтра разговаривать, на педсовете. А по дружбе сейчас скажу: не заводи с ребятами отдельных отношений, это к хорошему не приводит. У тебя с ними даже от родителей секреты?
— Бывает, — говорит Ирина Витальевна.
— Значит, ты добываешь у них не совсем честный авторитет. И не держись так, будто одна знаешь, как воспитывать, а остальные просто отбывают часы.
— Ты действительно так думаешь? — говорит Ирина Витальевна.
— Не только я. Отпустив их сегодня, ты тем самым поставила нас всех в дурацкое положение, а сама — в их глазах, конечно, — осталась этаким рыцарем...
— Может, действительно плохо — секреты, — говорит Ирина Витальевна. — Но если я тебе скажу, что не знаю, как правильно, то что? Ты можешь что-нибудь предложить в фабричной упаковке? Дурацкое сочинение «Моя мама» к Восьмому марта и собрание отцов в экстренных случаях?
— Шестой «д», кстати, только и взяли в шоры благодаря отцам...
— Не знаю, — говорит Ирина Витальевна. — У меня после такого собрания человек восемь в школу бы не пришло! Ведь каково, если на блистательном параде отцов твоего нет? Потому что его совсем нет. А?
— Ты прекрасно знаешь, — говорит Маргарита Сергеевна, — что все зависит от классного руководителя. Это может быть абсолютно безболезненно и безусловно полезно.
— Как сегодняшняя инквизиция?
— Если бы ты не лезла в амбицию, а приняла умное участие в нашем разговоре, все пошло бы по другому руслу...
— Конечно, Адлер назвала бы — кто, а вы потом использовали бы столь ценные сведения известным вам способом.
— Я уже заметила, — говорит Маргарита Сергеевна, — что спорить с тобой совершенно невозможно. Ты слышишь только то, что тебе хочется слышать. И на это отвечаешь.
— А чего спорить? У меня близнецы Ишанины в первом классе дружно утверждали, что папа убит на войне. И очень им это нравилось. А теперь Олега заявляет: «Он нам по авторучке принес, чтобы подлизаться. Чего лезет, правда? Мы авторучки в уборную спустили, так только уркнуло!»
— Ты подменяешь предмет спора, — говорит Маргарита Сергеевна. — Тебе, конечно, хочется не об этом спросить...
— Мне нечего спрашивать.
— Ты раздражена, Ира. Я тебя очень понимаю. У тебя, естественно, могло сложиться ложное представление...
— Надеюсь, Волкова вы пока оставите в покое?
— Нет, я обязана тебе объяснить. Да, действительно, я думала, что в целях установления настоящего контакта между вами...
— Ну-ну, — говорит Ирина Витальевна.
— Поверь, весь разговор шел в таком тоне, что это само по себе исключало какие бы то ни было побочные трактовки...
— Ну-ну...
— Наоборот, я всячески защищала твои позиции и никак не думала, что Елена Федоровна так повернет...
— Знаешь что? — говорит Ирина Витальевна. — Мне в свое время писали, что на факультете после моего отъезда ходили всякие-разные сплетни. Я теперь поняла, что это ты их распускала. Конечно, не только ты, но ты — обязательно!
— Есть вещи, Ира, которые я даже тебе не смогу простить, хотя лучше, чем я к тебе отношусь...
Шли двое, будто гуляют. Дошли до рыбного магазина, где в рекламных окунях трещит неон. Остановились. Потом одна побежала дальше, интересная женщина, в профиль ко всем прохожим, вторая потерла руку, будто та затекла, и полезла в телефон-автомат.
В будке перед тем курили чьи-то семиклассники и пахло островом Явой. Хотелось открыть окно. Автомат сглотнул семишник, ровно загудел.
— Женя? А, Павлик, это ты, гулена! Да, была. А что же ты не встречал? А про маму почему не сказал? Как? Святой Ильф! Маму в больницу кладут, а ты...
Бабки, которые обсуждали насущные семейно-магазинные дела, навострили чуткие уши — незнакомый вроде человек и кричит недомолвками. Бабки подкатили коляски поближе. Ближе-то сразу признали: учительша из четвертой. Нынче пальто нацепят, в глазах рябит, своих не признаешь. Уж на что раньше в школах крепко следили, чтобы вся одежа без вольностей да по форме. А теперь учительши как пеструшки. Какой с ребятишек спрос? Вон Тонькина девка: в восьмой переползет ли, а ресницы мажет и рот наведет, дак как у негры, толсто. Пол такой краской покрась, и то не ступишь, до того отвратно. В любую газету глянь — ну одни разводы. Что двое детей, что трое — разве теперь глядят? И в суду смотрят нахально, как на праздник пришли. Раньше-то стеснялись, чтоб при всех. Вон Пелагею как колотил, дак ради детей терпела...
— Небось ты-то сама ушла, — встревает голубая коляска.
— Я своих мужиков сама подняла, — возражает плетеная, — ты мне не судья. Я своего, горького, через краешек!..
— Конечно, ежли юбки до пупа не стыд, тогда уж какого рассчитывать уважения? За няньку только живу.
— Сколь девушек было, видных, работящих... дак он эту взял, всю клумбу перебрал да дурман выбрал...
— Я всегда была против биологического стремления к продолжению рода, — замечает чешская никелированная коляска, которой уже невмоготу молча носить в себе окостенелую интеллигентность.
— Живут как кошка с собакой, — подтверждает голубая, которая сама не лыком шита.
— Гражданка, слазьте с автомата! Не у вас у однех срочные разговоры!
Коляски знают женщину, которая торопит. Не одобряют: у нее в гастрономе первый беспорядок и есть, колбасы, того гляди, недовесят, гречка с черного хода, на весь магазин одна кассирша сидит, ногти кривыми ножницами режет, очередь набирает, а две кассы вовсе пустые.
— Гражданка! — Ирина Витальевна спиной чувствует, что голос будто знаком. Неприятно знаком.
— Завтра, Павлик, — говорит Ирина Витальевна.
— Не у вас у... — начинает женщина и спотыкается на полуслове. У нее беспроигрышная память на лица, раз в магазин зайди — как отпечатаешься. Эту учителку следовало бы тогда с места скинуть, ан нет, сошло ей с рук: они, учителя, друг друга крепко держат, не стронь.
Ирина Витальевна уже забыла, как его звали, а вот прозвище помнит — Хурма. Когда мать привела, она еще подумала: «Бедный парень, в футбольные ворота и то не пролезет, мясокомбинат». Ребята таких всегда «мясокомбинатами» зовут. Мать рассказала историю: «Вот, сорвала ребенка со школы. Мальчик полный, болезненный, требует особый подход. А учительница его поедом ест!»
Но Хурма оказался просто жадным. Он выпивал по восемь сырых яиц в день и гордился этим. Подолгу рассказывал про сметану. В сказках самое пылкое внимание обращал на еду. Врач требовал — ограничить. Но мать не соглашалась: организм сам знает, чего ему надо. Раз мальчик кушает, значит, у него потребность.
Осенью его и прозвали. Вряд ли он приносил хурму, черт ее знает, как она вообще выглядит. Но инжир он лопал на переменах — щеки трещали, груши трескал, как картошку. И закрывался рукой, чтобы не попросили. А кому придет в голову просить у такого жилы?
«Ты разве не можешь потерпеть до обеда? — не выдержала Ирина Витальевна. — Нужно или делить на всех, или вообще не есть».
«Мне мама не велит терпеть. Мама сказала, что, кому нужно, сам купит. Мама велела на каждой перемене кушать по две груши».
«Передай маме, что я запрещаю тебе приносить в школу фрукты».
И с этого начались все неприятности. Видимо, нужно было как-то иначе, с подходом.
«Чего же? — говорила мама. — Ребенок кушает за мои деньги».
«Ладно, — говорила Ирина Витальевна. — А почему он попутно наговаривает на товарищей? Вы послушайте, он же ни про кого в классе не сказал доброго слова».
«А чо критики бояться? — говорила мамаша. — Он замечает недостатки и сигнализирует вам».
Что делать с такой откровенностью? Завидев Ирину Витальевну в школьном коридоре, Хурма бежал навстречу, расставив руки. Еще шире объятий — улыбка. Улыбка без радости. Он обнимал за шею, и, пока вис, класс бывал оплеван подчистую: Таня арифметику списала, Витя мел спрятал, Гена на чердак лазил. У него была прекрасная память и завидная наблюдательность. И никакие примеры, лобовые атаки и пышные иносказания его не пробивали. Дома он получал сметану и восхищение...
— Чего человека согнала? — возмущаются коляски. — Учителева работа — не масло по весам мазать. Вон худенькая какая! Волков мальчишка в сарае провода, что ли, замкнул, чуть не спалил сарай-то. Вот она и прибежала! С них тоже спрос...
И однажды, после очередной дозы откровенности, Ирина Витальевна сорвалась. И сказала Хурме при всем классе: «Из таких предатели вырастают!» Он, конечно, по толстокожести, ничуть не огорчился. Но утром принеслась мамаша и устроила у завуча мощный циклон, с истерикой и вполне дворовым лексиконом: Ирина Витальевна придиралась к ребенку с первого дня, окружила себя любимчиками, вообще зажралась, никаких ревизий в школе не бывает, но, будьте уверены, обо всем узнает Москва.
Тогда был остроумный завуч, он сразу сказал: «Писать — это ерунда, еще потеряется, и вообще — бюрократизм. Вы прямо поезжайте в Москву, тут главное — лично сигнализировать. Деньги мы вам выделим от родительского комитета. Ирина Витальевна, приготовьте все тетради мальчика! Пригодятся как вещественное...»
Сколько же парню эта мамаша учителей сменила? С такими только и можно воспитывать — вопреки. А все-таки унизительно: видишь знакомого и не здороваться. Парень-то чем виноват? Тоже в интернат надо бы...
3
Люська Тарнаева живет в большом деревянном доме, который еще не скоро сломают. Дом до отказа набит пронзительными голосами хозяек, цветами-граммофонами, дустом, керогазами всех марок и калибров. Дом отгорожен от мира бельевыми веревками. Распятые штаны, вверх ногами, наступают на первый этаж. Болтаются на защепках бездумные половики. В воздухе пахнет мыльной стружкой. Девчонки в таких дворах стирают шитое по всем правилам кукольное белье. Но это не значит, что они не видят вокруг.
Две самых младших Тарнаевых, восемь лет и шесть, насмерть вцепляются в Ирину Витальевну: сколько новостей, ужас! Вчера смотрели по телевизору!.. Нет, соседи купили. А чего ложиться? Не заснешь, через стенку все до капельки слышно.
— Там одна девка с братом, — захлебывается младшая сестра Тарнаева. — Он, вообще-то, ей не брат. Это они понарошке, чтобы к немцам пройти, они пришли, а ей дяденька говорит: «Я на тебе женюсь!»
— Потеха! — подпрыгивает вторая младшая.
— А она говорит: «А где кольца? Что я, хуже всех?» И тут сразу принесли кольца. А эта девка опять...
— Она и не девка, — перебивает вторая младшая, — она вовсе женщина!
— Понимала бы! — отмахивается первая. — А ее брат, он, вообще-то, ей не брат...
— Потеха! — подпрыгивает вторая младшая.
— А как называется? Запомнили? — говорит Ирина Витальевна.
— «Сотрудник Чека»!! — кричат сестры. — Чего тут не запомнить?
Коридор заставлен всякой ерундой. В длину коридора укладываются все вопросы. Правда, что крапиву едят? Потеха! А как же, если она стрекается? У Котьки из девятой комнаты сотрясение мозгов, так ему теперь даже плакать нельзя. А смеяться? А к Лидке из седьмой комнаты хахаль ходит! Да-а, не просто так. Как у нее родителей нет, так и ходит. А у него погоны! Мы совсем даже не лезем, это все говорят...
У Тарнаевых без привычки воткнешься в шкаф или еще куда. Комната разгорожена, чтоб у каждого был угол. На шестерых все равно не хватает. В самом темном сидит замурзанная Люська.
— Никак снова ревела? — презрительно говорит младшая сестра.
— Утри слезницы! — мамкиным голосом говорит вторая младшая.
— А ну, отвалите! — кричит старшая сестра. Она кончает восьмой, ей задано сочинение. — Улицы вам мало?!
— Рая, я на минутку, — говорит Ирина Витальевна.
— Ой! — смущается Рая. — Девчонки, тащите чайник, пожалуйста! Да на кухне он, чего вытаращились? Ирина Витальна, у нас с Люськой опять неприятности!
— Дак если я читала! — говорит Люська. — Что ни скажи...
— И про оспу тоже читала, да? — ехидничает Рая.
Про оспу Ирина Витальевна помнит, хотя три года прошло. Да, три. Люська пришла в школу смурная-смурная. Раина учительница подходит к ней после первого урока: «Тарнаева, почему старшая сестра не явилась?» А Люська в рев: «Я боялась... ночью... Райку... скорая помощь... Папка у больницы сидит... оспа...» — «Оспа?» — села учительница. «Оспа?» — охнула завуч. Где-то в районе, говорят, был случай сибирской язвы. Оспа?! Как лифтом по голове — оспа!
Рая влетела, запыхавшись: «Можно? Я в аптеке простояла, у папы ангина, вот записка!» — «Раечка! — бросилась к ней Люська. — Ты живая?» И дольше всех не могла успокоиться. Она если вживется, ничем не своротишь.
И сейчас, спустя три года, Люська стоит на своем.
— А что, не болела? — вскакивает Люська. — Не болела, скажешь? А почему же у тебя на лбу оспа? Почему?
— Псих, — говорит Рая. — Это солнечные пятна, поняла? Я даже корью не болела...
— Девчонки! — кричит Ирина Витальевна. — Сумасшедший дом! Кто меня будет чаем поить?
— Мы! — кричат младшие из кухни. — Сейчас скипит!
— Она теперь малышне рассказывает, — говорит Рая, — будто из зоопарка змея сбежала и обвилась вокруг девочки. И будто девочку убили, потому что змея ценная.
— А то змею же не снять! — делает большие глаза Люська. — Девочке даже такие специальные уколы кололи, чтобы небольно умерла. А потом змея вернулась в клетку. Она была такая редкая змея, просто ужас!
— Видите, — говорит Рая. — А мелюзга верит! Надька у нас и так каждого паука боится!
— Где же ты читала? — спрашивает Ирина Витальевна.
— Кажется, в журнале, — говорит Люська. — Еще страница была помята...
— И в правом верхнем углу клякса... — говорит старшая сестра. — У нее же стыда абсолютно нет.
— Отвались, — говорит Люська. — Может, это была газета. Я точно не помню...
— Люся! — призывает Ирина Витальевна.
— Я же не говорю, что это у нас было, — защищается Люська. — Это за границей...
— Не помнит! — говорит старшая сестра. — Ты газеты читаешь? Да ты их только в одном месте видишь... если бы не Ирина Витальна, я бы сказала...
— Сама в песенник уткнешься, — говорит Люська, — а врешь, что сочинение пишешь.
— С вами напишешь! — говорит Рая. — Вон мамка на мои экзамены отпуск берет, чтоб вы мне аттестат не завалили!
— Ирина Витальна, вам в стакан? — спрашивают младшие. — Папка гостям всегда подстаканник дает. Ему на работе подарили. Вон какой!
Привычнее из чашки, но не откажешься же от подстаканника! А у меня — смотрите! — с розой, а Надька из кружки любит. Чай прямо из Индии везут? Дура! Видишь, по-русскому написано! А чего, в Индии по-русскому, что ли, не знают? А у Люськи по английскому фара, да?
— У нас в классе один парень есть, — переводит на другое Люська, — до того умный, ужас! Ни за что не догадаетесь, Ирина Витальна. Он такой приемник сделал! В сто раз лучше магазинного! И одной девчонке подарил...
— Жалко, что не тебе! — язвит старшая сестра.
— А ты отказалась бы? — напирает Люська. — Честно, отказалась бы, скажешь?
— Настольную лампу исправили? — спрашивает Ирина Витальевна. И пересаживается к письменному столу, где еще не остыли учебники.
— Папка сам починил, — говорит Люська. — У них на заводе есть один мастер, так он сказал, что папка лучше всякого инженера.
Ирина Витальевна листает дневник старшей. Потом трогает толстую тетрадь на столе.
— Можно взглянуть?
— Да, — кивает старшая. Ей бы, дуре, давно подойти и убрать. Хотя, вообще-то, там ничего такого.
«Ана кадема, а шерви умба!
Ана кадема, а шерви, шерви,
умба, умба!»
— Песни? — спрашивает Ирина Витальевна, хотя все ясно. Так и не переводятся эти тетради, от обезьяны до наших дней. В отличие от школьных, чистые, без помарок. Самые аккуратные тетради, для себя. В конце разлиновано оглавление. Приложен адрес, владелец дорожит своей коллекцией и рассчитывает на порядочность нашедшего: спишет, что надо, и вернет!
— Так, немножко, — скромничает старшая.
Оформление этих тетрадей застыло на уровне передвижников. Если уж незабудки — каждый пестик отдельно. Сразу видно, что размножается исключительно вегетативным способом. Содержание этих тетрадей эквивалентно оформлению. «Леньку Королева» не найдешь ни в одном печатном песеннике. А «чтобы пела гармонь про сердечный огонь» — не стесняются массовым тиражом, по Союзу наотмашь.
Когда Ирина Витальевна училась в восьмом, Есенина тоже переписывали. Ходил по рукам вместе с популярными речениями: «Гоголь отличался двойственностью — одной ногой он стоял в прошлом, а другой приветствовал будущее». Может, и не Гоголь, но это неважно. Во всяком случае, протест против жвачки в учебниках и на уроках.
— Тут еще совсем мало, — извиняется старшая сестра.
«Гопси», Эдита Пьеха, «Мне девка ноги целовала, как шальная», два варианта, Пахмутова и «Лелька-милиционер».
Замолчите, проклятые струны!
Дайте сердцу больному покой!
Он ушел, не вернется уж больше,
Парень в кепе и зуб золотой! [2 раза!]
Меж поэтическим текстом, поштучно, вкраплены афоризмы: «Всякая девушка имеет свой каприз».
Дальше, через лист, — «Течет Волга».
Еще дальше: «Где в любви много объяснений, там мало самой любви». Мысль, схваченная за волосы...
С кем идти против? Да, Олег Кошевой дружил с Улей Громовой — знает. И Павел Корчагин дружил, было, — знает. И все-таки — «друг тот, с кем ты можешь делить скуку», тетрадь для песен, стр. 29.
«К Лидке из седьмой комнаты ходит хахаль с погонами. Нет, не просто так». Посложней антирелигиозной пропаганды...
— Ой, Ирина Витальна, — говорит младшая сестра, — у вас глаза ну совсем зеленые, как у Барсика.
— Я недавно начала, — извиняется старшая сестра.
— Хватает, — говорит Ирина Витальевна.
Вот посвятить бы завтрашний педсовет этой тетради. Чтобы все учителя знали своего врага.
«...Когда девочка озябнет, мальчик должен обнять ее, прижав к себе. Если мальчик целует девочку в щеку — уважает, в губы — любит. Эти простые правила от души...»
— Ирина Витальна, у нас Надька в восемь лет в школу пойдет. Вы знаете, она же у нас октябрьская!
«...Мальчик, если хочет поцеловать девочку, то он берет в свою руку пальцы ее левой руки... Что такое любовь? Это привычка друг к другу и действия волнующегося сердца...»
— Мамке второго октября день рождения, — сообщает вторая младшая, — а мне двадцать четвертого. Значит, она меня на... двадцать два дня старше. Вот потеха — такая огромная, а всего на двадцать два дня...
— Здорово считаешь! — говорит Ирина Витальевна. Она снова листает песни. Она будто что ищет.
— Ирина Витальна, вам какие слова? — говорит Рая.
— «А по-русски — рыжик», — вспоминает Ирина Витальевна.
— Тридцать вторая страница! — кричит вторая младшая.
— По радио часто поют, — говорит Ирина Витальевна, — а слов не разобрать. Дайте карандаш, девчонки!
— А вы тетрадь домой возьмите и дома спишите, не торопясь. Может, еще чего подберете.
— Таскать только… — сомневается Ирина Витальевна.
— Мы вас до самого троллейбуса проводим, — обещают младшие. — А хотите — до дома. Райка, дай двадцать копеек!
— Ладно, беру! — говорит Ирина Витальевна. — Послезавтра занесу. Что же это вы, Люсь, на Цветаева набросились?
Но Люську без брезента не ухватишь. Она в карьер берет с многоточия:
— ...дяденька из автоинспекции и он нас предупреждал про лето: «Лето вы будете предоставлены самих себя!» А у нас парни так на велосипедах гоняют, ужас. Олега Ишанин поднял руку. Дяденька увидел: «Чего, гражданин?» Потеха...
— А Ирине Виталевне и вовсе не смешно! — говорит младшая сестра. — Ага!
— Одно и то же пять раз рассказываешь, — осуждает вторая младшая.
— ...Олега говорит: «Самим себе!» Громко так! Это он дяденьку поправил, понимаете? А дяденька ничего не понял и говорит: «Не мешай!» Потом говорит: «Благодаря чего мы имеем травмы детского возраста?» Олега говорит: «Благодаря чему!» Ужас...
— Олега у нас пурист, — говорит Ирина Витальевна. — Ты, Люсь, давай не замазывай!
— А я совсем-совсем не слышала, — удивляется Люська. — Меня как с Покровским посадили, так я стала совсем глухая. Это потому, что я все принимаю близко к сердцу.
— Пурист! — шепотом ругается младшая сестра, приседая за шкафом и прикрывая рот ладошкой.
— Брысь! — кричит «глухая». — Я тебе сейчас так налажу...
— Как что серьезное, так Люська молчит, — говорит Рая, — первое в доме трепло, а соображает.
— А чего — Цветай? — говорит Люська. — Мы сразу со школы мимо их дома прошли, так занавески опущены. Потом его мама идет и как на нас посмотрит. А никого не знает! А чего — Цветай! — спохватывается Люська.
4
На улице черно и спокойно. И тревожно по-весеннему. Тень от фонаря бьется на стене. Влажно вспыхивает камень.
Интересно, узнала бы ее Цветаева-мама?
Молодая лиственница топорщит иголки. Сейчас она отдала бы весь годовой прирост, чтоб хоть на одну ночь стать елью. Весной хочется не только гладить, но и колоть. Уколоть и острее почувствовать косоглазые дожди, глубину звезд и подъездов, опрокинутые в лужи дворы, стремительность настроений. У лиственницы чешется кора. Мальчишки щекочут березу ножом. Разве у нее сок лучше? Лиственница завидует.
Когда Ирина Витальевна была у Цветаевых? Почти два месяца назад, после того случая с Покровским Саней, — телефон... милиция... закрытый на швабру актив.
Весь этот разговор она помнит отчетливо, будто он был вчера.
— Нет грызунов, нет! — раздраженно сказали за дверью. Видно, только что был обход по квартирам насчет мышей-крыс. Ирина Витальевна сразу нашлась: «Горгаз!» Именем Горгаза Цветаевы открылись.
— Можете подождать? — спросила женщина в толстом халате. — Пройдите, пожалуйста, я только... — И сразу за ней ухнул душ.
Комната была притушена портьерами. На столе мягко, сам с собой, говорил магнитофон: «...идет, а впереди — мужчина. И он все: «Кармакулиха, приступывай!» Она и идет...»
Магнитофон вздохнул и пошуршал пленкой. «Ну?» — сказала ему Ирина Витальевна.
«А он всё: «Кармакулиха, приступывай!» А у ней прозвание было — Кармакулиха», — объяснил магнитофон.
— Понятно, — сказала Ирина Витальевна и села в кресло поближе.
«Она и перекрестись! Сразу пропал впереди мужчина. Одна идет. Верст десять за село отмахала...» — Магнитофон помолчал, нагнетая тишину. Шур-шур — разворачивалась пленка. Шур-шур-шур — шуршало вокруг Ирины Витальевны.
— Страшненько, — сказала она.
«Значит, он вел, — интимно сообщил магнитофон. — Два ручья перебрела, не намокла. А обратно — как?»
— Действительно? — сказала Ирина Витальевна.
«Вечером сидят в избе, а под окном вдруг: «Ой, развяжу-у-у-у!..» — сказал Ирине Витальевне магнитофон. — Жутко так, протяжно. И снова: «Ой, развяжу-у-у!» А они: «Развяжи, коли не лень!» Глянули утром: невод на веревку распущен...»
— Нина, выключи! — крикнули из-за портьеры. Кожаный чемоданчик бойко ворочал катушками. Ирина Витальевна поискала, но не нашла, что нажать.
— «Он был!» — с упором сказал магнитофон.
Портьера прогнулась и выпустила двоих: острого, в ковбойских брюках с металлическими заклепками, и второго, пониже, с крапчатыми глазами и в черном свитере продольной вязки.
— А я-то надрываюсь! Все моется?
— Тимофеева, — представилась Ирина Витальевна. — Из четвертой школы.
— Пушкинский дом, — представились заклепки.
— Ленинград, — уточнил Цветаев-папа. — Вы насчет выборов? Из четвертой? А разве Юрий в четвертой?
— Вы никогда не бывали на Белом Берегу? — спросил Пушкинский дом Ирину Витальевну. Каждая фраза у него выглядела как гур-гур-гур со староневским прононсом. И это противоречило походным заклепкам.
— Кстати, ты путаешь народное творчество с народным образованием, — сказал Цветаев-папа. — По-моему, стоит прощупать Мелентьеву.
— Какую? — заинтересовался Пушкинский дом.
— Платониду, конечно. Младшую.
— Перед этой бабой, — загуркотел Пушкинский дом, — я прошлый год извивался в акробатике. Крепкая баба, извините...
— Это он — за бабу, — объяснил Цветаев-папа. — И напрасно, потому что слово исконное, по самой сути своей не обидное для русского человека. Что такое — женщина? Как бы надсадно интеллигенция ни насаждала свои рафинированные...
— Я бы взял еще несколько батареек, — сказал Пушкинский дом.
— Захвачу из института, — пообещал Цветаев-папа. — Кстати, на Белом Берегу правильное отношение к покойникам. Не знаю, что тебе удастся откопать.
— Вы не обращайте внимания, — извинился Пушкинский дом. — Нет, не думаю, чтобы совсем не плакали...
— Среди того дерьма, которое мы выдаем за современную культуру, — сказал Цветаев-папа, — каждый истинно культурный человек может только радоваться блесткам народной поэзии. Кстати, наступление на Эрмитаж продолжается...
— Преувеличиваешь, — сказал Пушкинский дом.
— Это, кстати, паршивое свойство русской интеллигенции, — сказал Цветаев-папа, — пока нам на голову не наделают, нам все кажется, что ничего особенного не происходит. А между тем вся современная архитектура, к примеру, есть насильственное разрушение принципов древнерусского зодчества.
— Ты берешь крайности, — прогуркотел Пушкинский дом.
— По-твоему, воздвигнуть на державинской площади образцовые «пиво-воды» вместо театра — значит развивать национальные традиции?
— Местные перегибы, — сказал Пушкинский дом, — но ты же не станешь отрицать, что молодой Шаляпин, записанный на современном оркестре, выигрывает даже в твоих древлянских ушах?
— Кстати, не просветишь ли ты меня, — сказал Цветаев-папа, — куда девалось то великолепное многоголосье, которым совсем недавно так славился Белый Берег? И не я ли восемь раз писал в министерство, что пластинки северных народных хоров, если таковые будут созданы, принесут миллионные доходы, не говоря об эстетическом…
— В Ростове Великом записали колокольный звон, — сказал Пушкинский дом, — такого совершенного удовольствия я в жизни своей не получал.
— А попробуй достань! — сказал Цветаев-папа. — Вот вы, педагог, когда-нибудь слышали настоящий колокольный звон?
— Нет, — сказала Ирина Витальевна. — Но насчет театра я с вами совершенно согласна. Действительно, изуродовали всю площадь.
— А часовня в старом парке? — сказал Цветаев-папа. — Я человек совсем не сентиментальный, но нигде я так не чувствовал своего родового, из глуби, корня, как там. И какой-то кретин, обремененный властью, пожелал разбить на этом месте цветник...
— Кто кого разбил? — сказала женщина, входя и отжимая косу.
— К тебе из третьей школы, — сказал Цветаев-папа.
— Товарищ из Горгаза, — поправила Цветаева-мама.
— Ненарочный розыгрыш, — сказала Ирина Витальевна. — Я насчет Юры.
— А... — сказала Цветаева-мама, и видно было, что обиделась, — Елена Федоровна им довольна. Вы какой предмет ведете?
— Человека отличает от обезьяны чувство юмора, — сказал Цветаев-папа. — То же самое, что и мужика от бабы. Кстати, ты заметил.
— Я у них не преподаю, — сказала Ирина Витальевна, — я вела их до пятого, и мы с ними просто друзья.
— Разве у вас сейчас нет нагрузки? — спросила Цветаева-мама. — Я не совсем понимаю, какое отношение к Юрию...
— Кстати, бескорыстие, как свидетельствует история, может быть свойственно не только людям науки. Вот к нам в дом пришел человек, который по формальным признакам не имеет к нашему сыну никакого отношения. Отрываясь от национальных традиций в области культуры, мы тем самым ставим под угрозу и воспитание молодого поколения...
— Подожди! — сказала Цветаева-мама. — До сих пор у меня со школой не было никаких трений. Может быть, сын что-то скрывает?
— Вы знаете Саню Покровского? — спросила Ирина Витальевна. — Юра, наверное, переживает... Ребята у них добрые, но как-то очень непримиримые. Впрочем, не думаю, чтобы это было плохо…
— Покровский? Мальчик с речевым дефектом? Сын говорил. Сначала посадили с девочкой, весьма избалованной, даже капризной. Потом с мальчиком, у которого каша во рту. Юрий так восприимчив, что для него это небезразлично. Не вижу тут никакой крамолы. Я сама просила Елену Федоровну, чтобы их рассадили.
— Положим, Покровский сам от него ушел.
— Я говорю не потому, что сын, совершенно объективно: Юрий — одаренный мальчик...
— Просто мужик со здоровой наследственностью.
— ...и не мыслит себя без коллектива. Разреши, так каждый день ватагу домой наведет...
— У вас кто-нибудь бывал из класса?
— Сын занимается в студии при Дворце пионеров. У них там сложившийся коллектив, многих родителей я лично знаю. Поэтому школа для Юрия, если так можно выразиться, на втором месте. Не вижу в этом никакой крамолы.
— Кстати, Дворец пионеров — лучшее свидетельство архитектурной деградации нашего города.
— С прошлым классом сыну не повезло, я рада, что мы переехали...
— Ты себе противоречишь! — Это говорит Гур-гур-гур. — Да, они недооценивают древнерусское искусство. А ты сам оголтело противишься новым веяниям...
— Я внимательно слежу за настроением Юрия и не вижу в нем неприятной взрослости, которая так часта у детей нашего круга.
— Извини, но меня ты не можешь заподозрить в косности...
— А вы какой институт кончали? Хотя, я совсем забыла. В младших классах это, кажется, не обязательно?
— По-моему, Юра должен извиниться перед Саней Покровским, — сказала Ирина Витальевна. — Вернее, перед всем классом...
— Но почему — Юра? — возмутилась Цветаева-мама. — В конце концов, это они объявили сыну бойкот! Конечно, я не принимаю их ссоры всерьез...
— Кстати, Нина, вот тебе результат бабского воспитания. Мужик должен уметь постоять за себя.
— Подожди! — сказала Цветаева-мама. — Покровский украл телефонную трубку? Покровский попал в милицию? Покровский хотел скрыть свой проступок от школы? Покровский хотел спрятаться за спину товарищей?
— Не совсем так. Он ничего не украл. Он сам все рассказал ребятам. Ребята сами решили, как поступить дальше. У них в классе достаточно сильное общественное мнение...
— В этом возрасте еще рано говорить об общественном мнении, — сказала Цветаева-мама. — В этом возрасте главное — умная проверка взрослых.
— Проверка, но не заушательство, — сказала Ирина Витальевна.
— Я прошу вас выбирать выражения, — сказала Цветаева-мама. — Я всегда учила его говорить только правду. Если он видит, что в классе делается черт знает что, он должен об этом прямо сказать...
— Сигнализировать, — сказала Ирина Витальевна и подумала о Хурме. А ведь совсем разные мамы.
— Хм, — сказал Цветаев-папа.
— А почему не сказал прямо, в глаза? Он же был на активе, когда обсуждали Покровского!
— Актив, закрытый от воспитателя, сам по себе безобразие, — сказала Цветаева-мама. — Я считаю, что сын поступил как порядочный человек. А Покровский отделался только легким испугом, вы напрасно волнуетесь. Елена Федоровна уверена, что класс постепенно сам разберется и этот нелепый бойкот прекратится сам собой. Если, конечно, вы не оказываете на них давления...
На что же, собственно, она рассчитывала тогда, два месяца назад?
Ирина Витальевна любит читать объявления на заборах — межгоробмен, перечеркнутый красным. Вот так же когда-то она остановилась на углу Желябова и выбрала этот город. Теперь это ее город.
«Горпищеторгу на весенне-летний период требуются лоточницы».
Всегда они требуются. На юге у каждого магазина натыканы палатки. Две расчески да пачка «Байкала» — уже киоск. Никаких зазывов, рабсила сама валит.
На что же она, собственно, рассчитывала, когда шла? Магнитофоны никогда не умели воспитывать детей. Нет смысла идти еще раз.
«Купим венгерский столовый гарнитур. Спросить Гадовых, после семи вечера». Почему не переводятся Гадовы? Кажется, каждому по карману сменить. А фамильная амбиция? «Дед — Гадов, отец — Гадов, а я чем хуже?»
Все фамилии — от прозвищ. Внимание, был в роду гад, присматривайте за потомками. А как же благозвучные Цветаевы?
«Продается БСЭ в 51 томе», «Продается сено». На любой вкус.
Много наговоришь с портьерой, а до Юрки все равно не добраться...
В ее городе много зазывных стен, пятиэтажных брандмауэров-экранов. Расписать бы их детским рисунком, выплеснуть душу до неба. Палька спрашивал Цветаева: «Цветай, слабо площадь раскрасить?» Иногда чувствуешь себя по-ребячьи победно. Хочется набросать бумажек на пол, танцевать на крыле ТУ, развешивать бананы на люстрах и гнать на ве́лике по радуге.
Иногда... Сегодня бы она так сверзилась с этой радуги — спицы дождем. Где-нибудь на аэродроме тетки в ватниках поливают крылья из ведра, елозят тряпкой. И ворчат совсем как технички в школе: «Летают, только сор носят. Где облака почище, потерся бы крылом...»
Фонарь раскачивается над подъездом. Когда-то Ирина Витальевна попадала в фонарь с тридцати метров. У нее была удачная рогатка, с узким раструбом, брат делал. Надо понять мальчишек: это такое чувство, когда — клак! — и темнота, которую ты создал сам, — законно! Взрослым почти так же приятно чинить пробки в квартире. «Да будет свет!» — и ты бог, слегка дернутый током. Свет, конечно, нужнее.
5
На пути Ирины Витальевны стоят двое в тяжелых блестящих очках. Они похожи на летучую мышь; без очков сходства в них мало, куда меньше, чем полагается у близнецов.
На Олегу тетеньки заглядывались еще с детсада: «Тю-тю-тю, какой мальчик хорошенький!» Книжки, из библиотеки задержанные, несет Олега — на спор — его не отругают. Он читает приветствия, если конференция. Отпрашивает ребят из дома на рыбалку. Это сделало Олегу спокойно-самостоятельным и углубило привязанность к брату. Олега уверен: Серегу не понимают. Ведь Серега талант, он еще даст шороху, тогда схватятся.
— А мы как раз тут шли, — говорит Серега. Если бы это Олега сказал, Ирина Витальевна поверила бы. А Серега — тот признает ложь во спасение, он тапер и практик. «Практиком» его дразнили после экзаменов в музыкалку. Важный человек из комиссии спросил, почему он хочет в скрипачи. Серега ответил: «Верный кусок хлеба!» Он запомнил, как соседка солидно говорила на кухне: «Верный кусок...» Серега был принят на фортепьяно, как несимпатичный, но с абсолютным слухом,
— Мы вечерами где только не ходим, — говорит Олега. — Наверное, по десять километров даем!
— А почему так поздно? — говорит Ирина Витальевна.
— У мамы заказчицы, — гордо говорит Серега. — Она, как с дороги ушла, теперь все поет.
— Мама в настроении всегда поет, — поясняет Олега.
Мама близнецов Ишаниных прошлым летом ушла из ателье в кастелянши, на железную дорогу. Друзья-знакомые убедили: очкарики растут, комната над аркой, отовсюду свищет, сверху течет. А дорога сулит отдельную квартиру через пару лет. Твое при тебе и останется, еще нашьешься.
С нужной работы мама приходила скучной: «Вы знаете, что такое материальная ответственность, мужчины? Бр-р-р!» И сразу: «Зато сегодня я какой халат придумала! Олега, ножницы! Серега, подыграй, будем фасонить!»
Мама всю жизнь пробовала фасоны. На школьной форме — прежде всего. Мама не выносила складчатой гимнастерки в палец толщиной. Близнецы ходили в особой, спортивного типа. Их даже на улице останавливали — откуда? Но мама все равно была недовольна, вносила в куртку возрастные поправки. Вообще, творчески росла.
Мама считает, что после балета есть только одно стоящее дело — шить; балет прозевала, очкарикам спасибо. В кастелянши для себя нипочем бы не пошла: снег и тот пахнет, а белье... Наградил бог нюхом!
Прямо на работе, принимая белье, вдруг представила куртку, которую пять лет для них искала. Так, так и так, просто и красиво, можно пробовать хоть на Союз. Квартиру сулят, а кто их знает, мохом обрастешь, пока...
Мама побежала обратно в ателье. «Так, так и так, здо́рово? Пробьем?»
«У меня план, — сказала заведующая, демонстративно затянув горло сантиметром, — а шить некому, сплошные мамаши. Хоть вместо обязательств вешай в ателье график грудного кормления. Таиска — и та в декрет, это, я считаю, просто нахальство!»
«Иду за Таиску, временно!» — решилась мама.
«Без выходных, — сказала заведующая, — просто свинство говорить о выходных, если не кормишь грудью. Мы тебя постоянно оформим — как руководитель я, в конце концов, имею резервы».
«Так, так и так», — задумчиво сказала мама.
«Тебе и нельзя в отдельной квартире, я считаю, — сказала заведующая. — Хоть соседи присмотрят. Ведь у тебя сплошные парни!..»
— Мы дома́ расшифровываем, — говорит Олега. — Вы видели, Ирина Виталевна, как огни зажигаются?
— Пых! — говорит Ирина Витальевна. — А еще?
— Я тоже думал, что просто так, — говорит Олега, — а потом вдруг окна сложил, и вышла буква. Не верите?
Ирина Витальевна смотрит на цветаевский дом. Шторы опущены, Люська Тарнаева верно доложила. Хотя... почти ночь... логично. Вертикальной палочкой глухо светится лестница. Под крышей три ярких окна в правую сторону. И внизу — три. Грамота города. Рядом наметилось «Н» со светокляксой на втором этаже. Великанские дети учатся читать в сумерках.
— Эс, эн, — говорит Олега. — Это будто что? Будто имя-отчество... Это так передается на музыку. Будто нам дом рассказывает...
Олега — натура художественная.
В первом классе Ирина Витальевна повела их на «Лампу Аладдина». Предупредила в театре соседей, почтенных скептиков из четвертого, чтоб не разоблачали по ходу действия. Испортила тем удовольствие — делиться, кто кого за что дергает, — но своим уберегла сказку. Как великолепен был лев, гривастый и благородный, самый настоящий, не то что в зоопарке! А как яростно распускался волшебный цветок! Тем более Ирина Витальевна сказала заранее, что он пахнет душистым табаком. Возможно, но не нюхали! И он отчаянно пахнул — именно табаком, именно душистым. Все слышали и прямо опьянели. Люська Тарнаева даже захотела спать. И как было сладко страшно за Аладдина, что надуют! Он же ну прямо всему верит, ужас!
А когда отхлопали ладони, на сцену вышли артисты с добрыми лицами, в синих комбинезонах. В руках, почтительно, но как вещь, держали Принцессу, Злого Ученого, самого Аладдина, даже Льва. Весь первый «а» отнесся к этому без энтузиазма. Будто ты сидишь большим, равным среди гостей, с юмором рассказываешь о своем детсаде, а мама вдруг говорит особым голосом: «А сегодня ночью с нами опять грех случился!..» Ты, конечно, делаешь вид, что ничего особенного, с каждым бывало, все свои. Но через пять минут очень натурально трешь глаза и отправляешься спать, на час раньше срока, вполне оплеванный. И мама объясняет гостям: «У него исключительно быстрая утомляемость! Ночью так отключается...» Тут ты затыкаешь оба уха, только треск идет от перепонки, и начинаешь думать, что с родителями тебе крепко не повезло. Может, попроситься в ясли, на круглосуточное?
В общем, лучше бы артистам не выходить, хотя, конечно, ничего особенного не стряслось, никто не умер. Даже Люська раздумала реветь. Тут Ирина Витальевна взглянула на Олегу и поняла, что убитые есть. Олега сидел белый. Дома Олега упал на кровать, и была истерика, без крика, но ливень с градом. Мама меняла вафельные полотенца и шептала Ирине Витальевне по секрету: «Полная беззащитность перед искусством! После первого балета так же... Как Жизель раскланялась, так он и грохнулся...»
К следующему утру Олега будто вырос на три сантиметра и сказал Ирине Витальевне сухим голосом: «Все неправда! Они нас обманули, как маленьких!» И сколько еще кукольники приезжали — не ходил. А мама призналась: «Знаете, я была бы счастлива, если б Серегу хоть раз так проняло!» «Лучше б Олега в музыкалку», — сказала Ирина Витальевна. Но мама тихо возразила: «Двоих мне не вытянуть...» Хотя близнецы убеждены: их мама может все.
— Мама «Зоркий» купит, — говорит Олега, — я тогда все окна сфотографирую. Пока-а рисуешь...
«На «Зоркий» вдруг не соберешь, — думает Ирина Витальевна, — «Зоркий» подороже авторучек, которые уркнули».
— В электронной машине тоже лампочки, — говорит Олега.
— Только без абажуров, — говорит Ирина Витальевна. В прошлом году он знать не знал таких слов. Исполать вам, Зинаида Петровна!
— Нет, — говорит Олега, — как лампочка горит, значит «да!», а погасла — «нет!». Будто шифр...
В четвертом классе Ирина Витальевна дала им сочинение: «Моя Родина». По программе, чтобы различали «родину» с маленькой буквы и с прописной. А больше — для души. И получилось так лично, что не стала считать ошибок, забрала себе на черный день. «Мне хочется, чтобы наша Родина заросла цветами и деревьями, — написал Олега. — Чтобы стояли большие дома. Чтобы у нас были чистые озера и хорошие люди. Я решил стать писателем...» Теперь, в пятом, Елена Федоровна успешно поворачивает его от литературы.
— Мы потом буквы сложим, — говорит Олега, — и прочитаем весь дом. В нем сколько народу живет, правда?!
Они только что читали «Весну» Льва Толстого. «Вы, дети, найдите страницу двести сорок девять». И они нашли: «ягнят, теряющих во́лну», «обледеневшее жнивье», «баб с холстами» и «облетавшуюся пчелу». «Все русские писатели, — кругло пропела Елена Федоровна, — писали о красавице весне, но замечательнее всех написал Лев Николаевич Толстой...»
Палька прошевелил губами до конца «Весны» и оценил: «Хило!» Посыпались вопросы. Почему все бабы — художники? Могут ли ягнята переплыть океан? Зеленя́ — это только яблочные сады или с грушами тоже? Что такое «спиртовой запах березы»? — «Это уж никакого спирта там нет, а просто такой крепкий запах», — объяснила Елена Федоровна. «Когда ларек близко», — добавил Палька. «Волков, не демонстрируй перед нами свою испорченность! — сказала Елена Федоровна. — Тарнаева, как ты понимаешь слово «лоза»? — «Это когда щель», — сказала Люська. «Перестаньте паясничать, — сказала Елена Федоровна. — Будете читать на отметку. Ишанин, Олег, нравится тебе, как Лев Николаевич Толстой описал красавицу весну?» — «Нет, — сказал Олега и вовремя вспомнил, что Елена Федоровна признает только полный ответ, — мне не нравится, как Лев Николаевич Толстой описал красавицу весну». — «Почему?» — миролюбиво спросила Елена Федоровна. И хотя Волков шипел звериным шепотом: «Не паясничай, нарвешься, делов куча!» — Олега объяснил: «Я будто тесто жую...» — «Очень прекрасно, — сказала Елена Федоровна, — Ишанин, Олег, останется в классе после уроков и будет читать отрывок до тех пор, пока ему не понравится».
Человек десять оставила, пока не понравится...
— Юра Цветаев тоже остался?
— Ого! — говорит Серега. — Мне еще Елена Федоровна сказала: «Даже и близко ты не стоишь около Юры по своему чтению...»
— Правильно, — говорит Ирина Витальевна, — у него каждое ударение на месте. А ты, где взбредет, там и ставишь.
— Просто Цветай согласился, что ему нравится, — говорит Серега.
— Вы просто недоросли, — говорит Ирина Витальевна.
— Вы не думайте, — говорит Олега, — мы завтра все расскажем про Цветая, ладно? Мы сегодня не можем, мы постановили до завтра никому, ладно?
— Вы потому и из дому удрали? — смеется Ирина Витальевна. — Чтобы мама не пронюхала?
— Мы же никак не думали, что вас встретим, — объясняет Олега.
— Ладно! — говорит Ирина Витальевна. — Вы давайте-ка домой, спать пора! А мне тут забежать по пути надо, понятно?
— Ага, — кивают близнецы Ишанины. Мама давно выскакивает на звонки, пора обратно.
— Не провожайте, мужчины, — говорит Ирина Витальевна. — Сама большая.
— До свиданья, — говорят довольные братья. Главное — точно рассчитали, пошли и встретили. Больше ей вроде негде расстраиваться. Завтра сами Елене выложим, а то — Волк подслушал — Елена на Ирину Виталевну кричала, будто она при чем. Они бы от завуча не оборвались, лучше бы до утра сидели, если б сразу дошло, лучше б сразу сказали, за что Цветая лупили. А теперь — вдруг поздно? Тогда — всем классом на Север.
6
Хорошо идти вечерним городом, просто идти, просто дышать. Но когда так вот вымотаешься за день, очень хочется иметь какую-нибудь отдушину, хоть маленькую, хоть на час. «Если мужчины Ишанины все-таки крадутся за мной вдоль стен, — прикидывает Ирина Витальевна, — то-то разинут очки: к Адлерам! Уж за Алевтину, во всяком случае, можно не волноваться, хоть Елена Федоровна и записала ей в дневник...»
У Адлеров Ирина Витальевна чувствует себя как дома. Здесь она понимает всех с полуслова, и ей самой можно не мусолить общепонятное, здесь мысль схватывают на лету. Адлеры, родители Алевтины, работают в молодежной газете. А дома у них — что-то вроде клуба при редакции.
В доме Адлеров всех проверяют на Кафку. «Вы, конечно, читали?» — «Еще бы, как можно сомневаться! Каждый образованный человек считает своим долгом...» — «Понравился?» — «Какой вопрос! Каждый образованный человек...» — «И в «Иностранной литературе», апрельский номер, читали?» — «Конечно! Убойная вещь, такая глубина проникновения, которая нашим и не спится...» — «Да? Очень приятно было познакомиться, закройте дверь с той стороны!..»
Но, вообще-то, это — фигурально. Двери этого дома открыты любому мнению, умей только доказать, не переходя на личности. И в спорах время летит, прижав уши.
— Мода так поумнела, что не определишь, кто виртуозно держится на гребне, а кто действительно вари́т.
— Скажешь, Пескову зря Ленинскую дали?
— «Карьера Уи» у Товстоногова не фонтан...
— Я тут начал перечитывать Брехта и понял, почему у нас его хорошо не поставят. Он требует диаметрально другой культуры зрителя, не Островского, даже не Чехова...
— Насчет Чехова брось! Крикнули бы конкурс на психологический театр, лучше Чехова не найти...
— И все-таки Брехт требует абстрактного воображения, которое дает только восточный театр.
— Не мог он Запад от Востока, как мы ни бились, отличить...
— Иварин может! — ехидничает кто-то. — Иварин младенцем пускал пузыри в братском Ташкенте, в эвакуации. Пускал или не пускал?
— Ну, было, — добродушно соглашается И. Варин, зав информацией и козел отпущения по совместительству. Ему горячо и весело, когда все на одного, мыло жмут. С Брехтом, во всяком случае, он им докажет. Пойдет в отпуск и выдаст серию статей по театру, тогда закрутятся. И. Варина заедает текучка, петитные новости, — легче золото мыть или нонпарель искать в какой-то куче. А посади другого на информацию — завалит к такой маме!
Если удается создать что-нибудь проблемное, веское, зав информацией подписывается «Б. Ставинский». Он, вообще-то, Борис. Свои повседневные клецки на десять строк он подписывает «И. Варин». А что, прикажете разменивать Б. Ставинского? Ставинский еще пригодится, хоть бы для Брехта.
Всем дают сотрудников, а ему не дают. Брезгуют информацией, каждый лапает очерк. А очерк, между прочим, кусается! Но ради газеты И. Варин разрывается на гамма-частицы, как Тунгусский метеорит. Он высматривает кого надо. Только нацелился на Лепнова, вполне репортер, так нет — отдали в Культуру и быт. Вот Аська Адлер, талантлив и притягательно носат, но И. Варин не взял бы его в Информацию, завалит к такой маме, тут нужна глобальная точность. Пусть Аська пропадает в ответсекретарях и блестит строкомером.
— Есть какие-то пределы, в которых литература может изображать мерзости. Если он свое драгоценное воображение тратил на ту машину...
— Но тогда нужно отрицать Достоевского и Леонида Андреева, — возражает Бертик из Комсомольской жизни. Бертик молод и упрям, он пришел прямо из университета и где-то успел уже набраться бюрократических замашек; когда говорит с рабкорами и вообще с неруководящим читателем, то ужасно высокомерно двигает скулами; в материалах врет без меры. Вся редакция дружно вправляет ему мозги. Бертику это слегка надоело. Можно бы сделать ручкой, — газет много! — но что-то мешает Бортику сказать «адью». Возможно, все-таки уедет, если очень припрет.
— Ничего общего!
— А войну лучше всех показал Бабель с его интеллигентской растерянностью, скажешь — нет?
— Нужно не меньше четырех запасных полос...
— Кто не работал в районе, тот не поймет! По триста строк каждый день, понял? Авторитет сам сколачивай, из своего материала, и гонорару не жди, понял?
— Уайльд тоже все ставил на голову, но у него же тонко, умно...
— Дали бы почитать, — говорит Алевтина. — Кафку вы ругаете, а я же не могу без проверки, что я — рыжая?
— A-а! Пионерия! — бурно радуются все. — Что новенького на школьном фронте? — интересуются все сразу, отвлекая Алевтину от слишком взрослого Кафки.
— Во! песня новая, — вспоминает Алевтина:
Мяу-мяу, полюбила котика лохматого,
приходи ты на собранье в половине пятого...
— Гроссколоссаль! — реагирует Ася. — Обратите внимание, наверняка ведь было не «на собранье», а «на свиданье».
— Вот еще! — возмущается Алевтина.
— Какой-нибудь гуманитарный крючок обругает, — говорит И. Варин.
— Какой? — хочет конкретности Ася.
— Найдется, — горячится Бертик, чувствуя себя равноправным. — Из тех, что защищают блистательные диссертации «Есть ли урны на Сатурне?»
— Обругает? Такую мощную песню? — говорит Ася. — Это же агитка первый сорт! За собрание!
— Чего ты нам объясняешь, — говорит Люлька, вытесняя Алевтину в соседнюю комнату; по мере сил она бережет дочь от чересчур раннего развития. А за диссертации, посвященные урнам, ей стыдно даже перед Алевтиной.
Люльке — все стыдно. Поехать на неделю в командировку, набрать десять заданий и хоть одного не выполнить по независящим причинам — стыдно; иметь в отделе комсомольской жизни четырех плотных парней и пожинать от них дамское сюсюканье, приправленное молодым задором и плакучими выводами, — тьфу, до чего стыдно; она гоняет их в хвост и в гриву, но много ли воды нажмешь из бессмертника... Сообразить сутулую, в папашу, девчонку вместо носатого, широкоскулого парня — того стыдней.
Но Ася считал появление Алевтины большой удачей. Ей уже вот-вот родиться, а Люльку хоть на турнике проверяй — поджарая, как пожарник. Ася предвидел крупную медицинскую ошибку, но дочь удалась на славу. Это событие вдохновило Асю на несколько блестящих передовиц, быть может последних в истории их газеты. Кто теперь пишет кирпичи-передовицы? Раньше писателю верили на слово, а теперь надо все доказать или уметь разбередить читателеву душу...
Ирина Витальевна любит бывать и в редакции у Адлеров. Ей нравится здесь запах свежей краски от газетной черновой полосы, деловой хлоп дверей, быстрый строкомер в Асиных руках и общая творческая взвинченность, как в школе на большой перемене, когда за пятнадцать минут надо успеть перехватить в буфете, выслушать трех мамаш сразу, отчитать двоечника за двойку и отличника за высокомерие, и еще сотню других, не менее важных, горячих будничных дел.
В редакции Ася Адлер чуть представительнее и официальнее, чем дома. Он читает свою газету. И морщится. Он еще не дошел до текста, но какой же секретарь начинает с текста? Развернул — и пожалуйста: разворот загубили! Столько ухлопали идей, но всадили не ту линейку — слишком жирную, тупую... Этим верстальщикам хоть на голову лей, ни грана вкуса и патологическое отсутствие дисциплины; заголовок внизу мелковат, и снова прорвался на полосу портрет с улыбкой «восемь на семь, семь на восемь», за такое уродство надо вычитать из отпуска и бить увеличителем по морде.
— Придира! — злится Люлька. — Мы такой махровый разворот дали по судоверфи.
— Ах, вы дали! — восхищается Ася. — Уж говори честно — ты! А твои дорогие мальчики к развороту имеют такое же отношение, как к независимости Руанда-Урунди. Они у тебя сами только ногти стригут и машинисткам незабудки носят!
— Мне стыдно за тебя, — говорит Люлька, — ты используешь домашнюю информацию. Чтоб я тебе еще хоть слово сказала!
— Я предлагаю стрелять! — врывается в секретариат Культура и быт.
— И ты, брутто! — говорит Ася. — А вы когда-нибудь обращали внимание, как смакетирована наша улица? А двор как смотрится после дождя?
— Объясните мне наконец, — кричит Культура и быт, — почему каждому графоману я должен отвечать голубыми словами по белой бумаге?
— Потому, — раздельно говорит Ася, — что ты обязан работать с молодыми дарованиями.
— Так ведь — конский каштан! — говорит Культура и быт.
— Вырасти в Исаковского, — советует Ася, — на худой конец, в Александра Блока!
— В Мирзо Турсун-заде! — поддерживает Люлька.
— Хоть прочитайте, лошади, — говорит Культура и быт. — Поэмка... А я пока побежал стреляться…
Свято место не бывает пусто. Выскочил Культура и быт, на смену ему ввалилось еще трое. И разговор закипает с порога, — обо всем сразу. Потому что газета позволяет человеку жить сразу во всех измерениях, во всех темах, во всех странах мира, во всех спорах мира...
— Ты подойди к окну, не поленись! Идут мальчишки, но ведь приятно смотреть: у них брюки двадцать два сантиметра и прозрачные плащи, в которых они мужественны и стройны. Конечно, не в одежде дело! Но в них больше смелости, чем было в нас, понимаешь? Они не боятся не попасть в институт...
— Нам же все давалось труднее...
— Типичное ханжество: в тридцать лет лаять новое поколение.
— Меня вызывает классная руководительница: «Ваш мальчик курит. Вчера сама застала в уборной». — «А как вы туда попали?» — «Какое это имеет значение? Например, дежурила по школе!» — «А я бы, например, не пошел в туалет к девочкам». — «Вы не педагогически смотрите...»
— Гроссколоссаль! А какой класс?
— Девятый, — говорит И. Варин, у него сын в девятом, время летит бумерангом. Но в редакции об этом не помнишь, все без отчеств, без возраста, некогда стариться. И про сына И. Варин сейчас рассказал — просто к слову пришлось. Кстати пришлось, давно пора готовить школьную полосу.
— Хамство, — говорит Ася. — Какая школа? Семнадцатая? Чего же ты раньше молчал? У нашей Алевтины мигом бы поставили на место!
— «Меня интересует, какие меры вы примете в отношении своего сына?» — «Скажу ему, чтобы в уборной над дверью привесили табуретку, и покажу, как это сделать». — «В таком случае, пройдемте к директору». Ну, и тэ-пэ...
— Нет, расскажи, — настаивает Люлька, — фу, как стыдно!
— Семнадцатая школа, говоришь? Их же недавно расхвалила «Учительская газета»!
— По-твоему, это зачеркивает «Учительскую», что ли? Значит, умеют в семнадцатой втирать очки!
— «Ваш мальчик, к сожалению, курит». — «Да, мы знаем. Как раз вчера с матерью решили, что лучше ему курить открыто. Видимо, сын у нас будет курящий мужчина». — «Как? Вы хотите разрешить?» — «По-видимому, речь теперь идет не об этом. Ему почти шестнадцать лет, он втянулся, и нечего мальчишку гонять по подъездам, пусть лучше дымит дома». — «Воспитание не кончается в шестнадцать лет!» — «Мы и не собираемся кончать, но пора директивных окриков уже миновала...»
— Шикарный разговор! Нет, Ась, ты понимаешь учительницу, которая ломит в мужской туалет?
— Ты покрутись в школе хоть один день, я погляжу, куда ты полезешь!
— Я займусь семнадцатой, ладно, ребята? — говорит Бертик.
— Порочный круг: пока в пединститут идут остатки и издержки прочих вузов, наивно ждать, что новое поколение...
— Культура и быт, не обобщай!
— Томка сажает своего сосунка: пыс-пыс на ковер! Думаете, у него не откладывается? Мы ему потом за культуру, а у него подготовочка: пыс-пыс-пыс на ковер...
Ирина Витальевна любит бывать в редакции у Адлеров, но сейчас даже для редакции слишком поздно. Ирина Витальевна поднимается домой к Адлерам, на четвертый этаж, дверь открывает Ася, он, как всегда, деятелен и слегка небрит. Он помогает Ирине Витальевне снять пальто и начинает сразу по существу, потому что Ася Адлер и в газете и в жизни не признает нудных вступлений.
— Мне надоело делать перед Алькой вид, — говорит Ася Адлер, пропуская Ирину Витальевну в комнату, — будто я свиреп, а школа всегда права. Что там у вас происходит?
От окна навстречу Ирине Витальевне светит глазами Люлька: рады вам, рады, что долго не заходили?!
— Конец года и общая взвинченность, — отвечает Ирина Витальевна сразу обоим Адлерам.
— Они избили мальчишку, — по существу продолжает Ася, — про которого в один голос говорят, что он — гад, но отлично устраивается в жизни. Я беру в перспективе. В таком случае, единственное, что можно сделать, — как раз то, что они сделали. Это должно бы заставить школу взглянуть на парня другими глазами.
— Она вам рассказала?
— Нет, до завтра не может. Не в этом дело! Я уверен, что Алька в состоянии отличить хорошее от плохого. Но почему снова ищут зачинщиков, а не разбираются в причинах?
— По-моему, мы отстаем от ребят, — говорит Ирина Витальевна.
— Мы трижды писали, чтобы автобус к руднику подавали на десять минут раньше, но люди до сих пор мерзнут на остановке и опаздывают на смену. А я уверен — этому автобусному начальнику нужно просто показать волосатый кулак. От него отскакивают слова, кулак — это он понимает…
— И что же вы ей сказали? — говорит Ирина Витальевна.
— Все, что полагается: во-первых, недоросли, во-вторых, это не метод, есть собрание и совет дружины, в-третьих, малы судить взрослых, и в том же духе...
— Да, мы от них отстаем, — говорит Ирина Витальевна. Ей приятно говорить просто, не подбирая специальных обтекаемых слов. — Ваша Алька уже опускает глаза — ей стыдно, что мы врем. Ей тоже приходится делать вид, и она боится, что сделает не так естественно, как нам хочется. Тогда мы пустимся в еще более унизительные для нее и для нас объяснения.
— Если мы вывалим на них наши противоречия, им не выкарабкаться...
— У нас педагогика фактически вне критики, — говорит Ирина Витальевна. — Самое смелое, что мы позволяем себе, — это осудить начальника пионерлагеря.
— А разве не учителя вынянчили прекрасную теорию: нас не замай, разберемся шито-крыто, иначе каким же авторитетом мы будем пользоваться у ребят?
— Не знаю, — говорит Ирина Витальевна. — Во всяком случае, если и вынянчили, то вкупе с родителями, родителям так тоже спокойней. Детям раз и навсегда сказано: «Школа права!» А чуть что — со школы и спрос, только с нее!
— Нет, вы послушайте, — говорит Люлька, она долго молчала, листая тетрадь Раи Тарнаевой. — «Влюбленным рекомендуется сначала говорить о книгах, кино, но не о любви. О любви надо говорить после — через неделю знакомства...»
— Откуда такая самобытная прелесть? — говорит Ася.
— «Не целуй быстро, целуй медленно, при этом смотри в глаза...»
— Взрослая сволочь писала, — говорит Ася.
— Всю жизнь радуюсь, что не пошла в школу, — говорит Люлька. — Не знаю, что бы я стала делать, я сейчас как отравилась.
— Вам перепечатать? — спрашивает Ася.
— Не надо, — говорит Ирина Витальевна. — У меня с этой тетрадью уже решено. Просто по пути зашла, показать. А что? В редакцию таких не носят?..
После того как от Адлеров все разойдутся, после того как Люлька подметет сигаретный пепел и распихает по углам стулья, Ася садится за свое. «Каждый нормальный обыватель в молодости пишет стихи, хотя бы белые», — любит повторять Ася. Сам он пишет стихи рифмованные, белых не признает. Он создаст поэму о своей газете, о родной газете, о газете вообще. Люди подходят к киоску, люди платят кровные две копейки за Асины за кровные четыре полосы. Ася и сам иногда подходит, как посторонний, покупает свою газету: «Дайте мне мою любимую за две копейки». Так и будет называться его поэма. «Смех смехом, а это будет вещь, после которой мир перестанет пошло острить над газетчиками», — мечтает Ася.
...Ночью приходит тишина, настоянная на черном кофе, и крупные прохладные мысли. Лоси вынюхивают телевышку. Милиционер в коммунальной ванной стирает белые форменные перчатки. Кот поет Козловским, и асфальт пахнет левкоями. Спекулянты везут на базар клубнику. Типография отхлопывает последнюю тысячу тиража. «Дайте мне мою любимую за две копейки». Ночью Ася работает над поэмой, потрясенно дергая носом.
Люлька всюду читала, что глаза — самое симпатичное в индивиде. И знакомых сортировала по степени мысли в глазах. Но у Аси всегда самым интеллектуальным был нос. Еще совсем не рубильник, но уже и не предмет ширпотреба. Нос у Аси — произведение искусства. К счастью, он не передался Альке.
Алевтина спит в соседней комнате. Сегодняшний синяк щедро намазан йодом. Его случайно влепил ей Палька Волков, локтем.
— Мне приснился конец твоей поэмы, — говорит Люлька. Она щурится на лампочку, с балкона на свет летит разная мошкара. Широко над городом пахнет озеро. Урчит сонная раковина.
Ася сутул и сосредоточен.
«Надо все-таки работать вечерами, сколько можно не спать нормально...» — думает Люлька.
7
Ирина Витальевна идет домой не торопясь, наконец-то домой. Не торопясь, хотя вообще-то уже ночь, и Юкка наверняка психует, и пообедать давно бы не грех, и поужинать заодно, зря отказалась у Адлеров.
Свою дверь можно открыть пером рондо, пока ключ не теряли, каждый в этом уверен. Потом начинаются стуки к соседям и тоска по отмычкам домушников-рецидивистов. Юкка любит терять ключи, это ее хобби.
«Ац! цвела! Сирень в моем садоч! ке!» — надрываются молодые голоса в соседней квартире. Заразительности у них не отнимешь. Будто в твоей персональной орут. Такова звукопроницаемость в малогабаритности. Хорошо, если родители за стенкой не склонны к частым командировкам. Но это уже педагогическое ханжество...
Ключ поворачивается в ритме.
«Ты! уш! ла! В сиреневом платоч! ке!» — надрываются голоса. В прихожей черно и сонно, но орут, между прочим, в твоей собственной кухне. Так что строители тут ни при чем. Можно греметь каблуками и щелкать шлепанцами: Юкка, когда поет, глохнет, как тетерев. Давно известно. Признаться, Ирина Витальевна не отказалась бы сейчас от тишины. И от горячей картошки заодно.
«Ты! уш! ла!» — надрывается кухня.
«И я! У! шел!»
Где-то гонят чернила из каракатиц, учатся говорить по-дельфиньи, разводят капусту без кочерыжки и восстанавливают облик любимого деда по обручальному кольцу. В Москве уже первачкам стали давать минусовые числа. Все упирается в воображение. А здесь, в коридоре, пахнет нафталином от летнего пальто и новыми ботами.
Выключатель проворачивается в ритме.
«И тибе! и мине! ха! ра! шо!» — ликует кухня.
Спиной к батарее сидят искусно лохматая Юкка в тренировочном костюме и Данька Валеев, кочевник, скептик, комсорг девятого «г».
«Ха! ра! шо!» — фаготом гудит из другого угла знакомый густой голос.
— Зинаида Петровна совсем заждалась. Что же так поздно, ма?! — говорит Юкка. — Нет, Ирина Витальевна, вы «работаете не в системе...»
— Почему вопите без света?
— Экономим энергию, — говорит фагот.
— Ирина Виталевна, — вскакивает Данька, — мы на неверном пути! Энергию надо искать не в расщеплении!
— Погоди расщепляться, — говорит Юкка. — Ма с утра не ела, аж глаза зеленые.
— Конечно, нужен принцип на созидании, — говорит Данька, — как фотосинтез. Тогда прекратится расщепление характеров...
— В чем же ты усматриваешь расщепление личности? — говорит Ирина Витальевна. — Экзамены вам, кажется, отменили...
— Нелогично, Даниил, — гудит Зинаида Петровна. — Атомную энергию сейчас получают и путем синтеза гелия из тяжелого водорода, хотя правильнее...
— Меня взяли, ма! — говорит Юкка. — Сам начальник сказал!
— Начальник! — презрительно говорит Данька. — «У меня есть большая ноздря, сильная, как протуберанец...» Мещанские дореволюционные стишки тебе прочитал, а ты и раскисла.
— Типовая зависть, — говорит Юкка. — Ма, знаешь, он такой молодой, только институт кончил.
— У Юрия Олеши был роман — «Зависть». Но современная молодежь не интересуется нашими романами, это логично. Предпочитают Аксенова...
— А что? Плохо, Зинаида Петровна? Все мчатся за апельсинами, как за солнцем, и никто не скулит.
— В экспедиции тоже нет солнца, если зимой...
— В тундре удивительно чувствуется пространство, почти как в пустыне, — гудит Зинаида Петровна. — Ты, Даниил, преувеличиваешь их мужественность, просто тебе так хочется.
— Все-таки — взяли! — говорит Юкка.
— У Волкова мать в больницу кладут, — говорит Ирина Витальевна. — Ну что ж, я рада, что удалось тебя вытолкать. Когда?
— Порядочные родители отговаривают, — говорит Юкка. — Но все-таки требуется письменное согласие, у них такая форма. Ты завтра зайдешь в институт?
— Завтра педсовет, — говорит Ирина Витальевна.
— Кстати, Ириночка, Цветаев так и не назвал ни одной фамилии, чем сильно осложнил следствие.
— Там быстро, распишешься — и порядок, — говорит Юкка. — И с чего это они на Цветая, вроде нормальный парень...
— Только не набрасывайся на зеленую бруснику, — говорит Ирина Витальевна. — А когда?
— Двадцать шестого, в три дня, на вокзале, при полном параде, — говорит Данька. — До Кандалакши махнем поездом, а там на вертолете...
— А ты... — говорит Ирина Витальевна. — Разве и ты?
— Вот оно, — говорит Данька, — расщепление личности. Организм требует, чтобы его все лето качали в гамаке, а мужественное сердце толкает героя...
— Ириночка, вы помните любимую поговорку Абу Али ибн-Сины, более известного под именем Авиценны...
— А дома знают? — спрашивает Ирина Витальевна. — Разве Авиценну звали так длинно?
— Зря я три месяца ходил на курсы к геологам? Узнают! Сократим количество слез до минимума...
— «Не от долгой жизни зреет ум, а от частых путешествий», — любил повторять Авиценна.
— Ма, сейчас, секундочку... Тебе с сыром?
— А что ж мы, Зинаида Петровна? Охрипнем на педсовете и махнем на Байкал!
— Всех волнует совет, это логично…
— Нисколько, — говорит Ирина Витальевна. — Ух, даже не верится, что наелась. Инна, правда, пыталась меня запугать...
— Ирина Виталевна! — кричит Данька из коридора. — Модерновый рюкзак — с дыркой! В новых только пижоны ходят!
— Чур, мой! — кричит Юкка из коридора.
— Вы, девочка, на Инну Андреевну не сердитесь, — гудит Зинаида Петровна, — у нее муж уехал...
— Знают, что сын в таком состоянии, — говорит Ирина Витальевна, — и месяцами гоняют человека по командировкам!
— Нет, он совсем уехал. У него под Москвой, оказывается, новая семья. Уже перевелся с работы...
— Какой подлец, — говорит Ирина Витальевна. — Нет, прямо не верится!
— Не исключено, конечно, что и подлец, это логично. Но знаете, Ириночка, жизнь учит бояться категорических суждений.
— Если бы не сын, — говорит Ирина Витальевна.
— Тогда проблема автоматически снимается. Тогда мы бы имели две равновеликие единицы, которые...
— Ма! — кричит Юкка. — Мы с Данькой махнемся рюкзаками? У него с широкими лямками, слышь, ма?
— Пока вы еще не в тундре, — говорит Ирина Витальевна, — извольте считаться с соседями. Первый час ночи!
— Суровые условия семейного деспотизма, — говорит Юкка шепотом, на всю квартиру.
— Пора, Даниил, — зовет Зинаида Петровна.
— Вы друг друга проводите? — говорит Ирина Витальевна.
В прихожей желто и сонно. Пыль с лампочки не вытирается. Эту лампочку тогда и видишь, когда уже все равно — есть на ней слой или нет. Ключ осторожно ворочается в замке. Беззвучно и громко, как всегда ночью. Юкка выскакивает на площадку.
— Ой! — кричит Юкка. — Ой! Тут человек!
— Ты чего мымру изображаешь? — говорит Данька. — Напугал!
— Димуш — мымру? — обижается Саня Покровский. — Я просто жду, когда выйдете. Я тихо стою и жду.
— Человек не хочет звонить так поздно, это логично. Возьми меня под руку, Даниил. Возраст прежде всего бьет по зрению. Если человек умеет читать, он сразу получает крепкую подножку.
— Ух, как сердце шлепнулось! — говорит Юкка. — Я тебе челку остригу в наказание!
— Димуш — челку? Я тихо стою и жду...
— Томуш, — передразнивает Юкка. — Ма, чур, я на раскладушке!
— Саня, тебе как — вкрутую или всмятку?
— В любую, — говорит Санька. — Мама дверь открыла на черную лестницу...
— Пальто не потерял?
— Нет, пальто в комнате осталось. Мама говорит: «Беги, а Симку он не тронет!»
— Чур, я под пледом! — устраивается Юкка. К Санькиным ночным визитам она привыкла, не в первый раз.
— Он меня ненавидит, — говорит Санька. — Чего же тогда рожали?
— Всмятку, говорят, полезно, — отвлекает его Ирина Витальевна.
— Волкову книгу обещали, про самбо, — не унимается Санька — мудрено уняться, рука у отца тяжелая. — Самбо — это такая борьба. Самбой как дашь...
— Гостей у вас сегодня никаких не было?
— Я быстро выучу, пускай тогда сунется! Мы его из дому выпрем и — во! — будем жить! Маме теперь денег прибавили...
— Из школы никто не приходил? — уточняет Ирина Витальевна.
— Никто, — говорит Санька. — Одна Елена Федоровна. Но мама ей сказала, что я не зачинщик. Если б он чуть позже пришел, ничего бы и не было. Как двинет...
— С маслом, с маслом, — говорит Ирина Витальевна. — Кстати, можешь спокойно рассказывать.
— Один парень из пятого «в» самбой занимается. На него три восьмиклассника как напали! Он — раз! — раз! — раз! — всех раскидал и стоит...
— Ценная вещь, — говорит Ирина Витальевна. — Ты что, не понял? Сегодня — уже завтра...
— Чур, я еще почитаю, — сама себе объясняет Юкка. — Настольную лампу на пол поставлю, а они пусть до утра на кухне сидят. У них в пятом «а» все такие секретные — уеду от них в экспедицию! Еще пожалеют...
— А чего рассказывать? — говорит Санька. — Мало дали!
— Юкка, гаси свет! — приказывает Ирина Витальевна. — Ты у меня загремишь в пионерлагерь!
— Да я давно сплю, — шепотом кричит Юкка. — Для вас же и оставила.
...Дз-з-з-з-з! — забился звонок, скомкав ответы и объяснения, скуку, восторг, сомнения, планы для себя, остроты для всех.
У перемены нет времени на раскачку. Она требует действий, смелых решений, осознанной цели, тренированных икр. Она учит ценить секунды. Не успел — оставайся как есть: в чернилах, без освежающей драки, без завтрака, без нового друга, в дураках, в стороне, с носом. Как если бы сказали: «Сегодня ночью, в 2 часа 27 минут, Земля повернется вокруг оси», а ты лег и проспал. Теперь мусоль по учебнику, как она крутится. Разве сравнишь?
Бемц! — взрывается класс, как цветок-недотрога, который созрел.
— Парни, в буфет! — кричит Волков.
— Ты уж или — или, — говорит Ирина Витальевна, — или рассказывай, нет уж, давай рассказывай!
— Мы в буфете всегда так занимаем, — говорит Санька, — один на всех. Один стоит, а потом как весь класс насыпется!..
— Знаю, — торопит Ирина Витальевна.
— Волков как первый выскочит...
Это Пальку и погубило. Он с ходу влетел в дежурную зануду из седьмого «в». Он надеялся пробить ее тараном, как Талалихин, но она устояла. У нее были толстые рояльные ноги и разъяренное самолюбие.
— Дай слово, что больше не будешь!
Этаж клубился мимо, сардельки остывали, зануда вцепилась в рукав.
— Пусти! — сказал Палька. — А то двину — пуп выскочит!
— Дашь слово или не дашь?
— Дай ей, Волков! Дай! — хищно кричали вокруг. Еще не хватало, чтобы он связывался с дежурной девчонкой. Если партизана хватают, он молчит. Вообще-то, настырная... Интересно, на кого она похожа. Некрасивая, а наверняка. — не знает. Сам про себя никогда не знаешь. Ей дома, небось, не долбят...
— А ну, отвались, уродина!
Отвалилась... Но все равно отстал от парней...
— Я Волкова не стал ждать, — говорит Санька. — Я побежал дальше...
На лестнице так орали, что Санька сразу оглох. Он нашел впереди цветаевский свитер, подгреб руками и вынырнул за ним. Рядом фыркал Рулла, так что на буфет еще была надежда.
Где перила закругляются, поток делал крутой вираж. Там спускалась Волобуева из шестого «а». Учителя всегда ее раньше отпускали, чтобы она успела. Сегодня не рассчитали. Но это неважно, потому что поток мягко ее обтекал, привычно. Шестой «а» провожает ее и встречает. Но она сама хочет. За два года ей во как опротивела помощь. Она до болезни еще так дралась и даже имела читу по дисциплине за когти. Эти девчонки вцепляются в человека хуже всякой кошки.
С этажа летишь, как с вершины. Весело и воздух свистит. Не поймешь, какая твоя рука, какая Руллы или Борьки из пятого «г», будто все ты. А ноги и не нужны. Подожмешь — все равно летишь. Вон Цветаев одну ногу зачем-то в сторону выставил, а сам еще быстрее.
Цветаевская тапка легко задела костыль — раз!
— Мама! — вскрикнула Волобуева из шестого «а». И сразу на лестнице стало просторно и страшно. Тихо, будто никого нет. Санька думал, что он оглох от шума. Но он громко услышал, как она крикнула «мама!» и костыли стукнулись — пак! И потом — как она упала…
— Сегодня звонок на три минуты раньше дали, — вспоминает Ирина Витальевна. — Ошиблась техничка.
— Мы сначала сразу хотели сказать, — говорит Санька, — но Волков законно сообразил...
— А Цветай опять сухим выйдет, — сообразил Палька, — спорим?! Даже задницы не замочит! Елена нам нипочем не поверит!
— Димуш не поверит? — сказал Санька. — Если я сам видел...
— Я сейчас прямо зареву, — сказала Люська.
— Скажет, на лестнице своей ноги не узнаешь, пока не отдавят, — сказал Палька. — А чем докажешь?
— Но я же видел! — сказал Санька.
— Она ему за три ошибки читу ставит, — сказала Алевтина Адлер. — И запятые не считает. Скажет — мы на него сваливаем...
— У него папа открыл какую-то легенду, — сказал Серега Ишанин.
— Баланду, — усмехнулся Олега. — Если и поверит — ну, дисциплину ему стряхнут!..
— У нас во дворе тоже есть один парень, — сказала Люська Тарнаева, — так ему все сходит, ну, не подкопаешься!
— Нет, — сказал Рулла. — Не сойдет! Я ему...
— И я! — сказала Люська Тарнаева, мгновенно высыхая.
— Наладим, — сказал Палька. — После уроков.
— А если он не нарочно? — говорит Юкка. — Если он просто не рассчитал?
— Еще как рассчитал, — говорит Санька. — Я сам видел.
— Если такая свалка, — говорит Юкка, — как ты можешь ручаться?
— Димуш? — говорит Санька. — Рулла тоже видел.
— Правильно сделали, — говорит Юкка.
— Спи! — говорит Ирина Витальевна. — Когда чего-нибудь не понимаешь, сохраняй нейтралитет.
— Перманентный? — спрашивает Юкка.
— Эх, вы! — говорит Ирина Витальевна. — Секретчики...
— Ма, — говорит Юкка, — только честно. А ты бы на их месте?
— Ну и что? — говорит Ирина Витальевна. — Не в этом дело.
— У меня прямо кухня кружится, — говорит Санька,
— Ма, ты завтра так и скажи на педсовете, — говорит Юкка. — Вы, скажи, не понимаете...
— Спать! — говорит Ирина Витальевна. — У меня есть голова, спать!
Петрозаводск, 1965
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





