ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
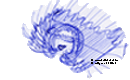


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 1
Во время урагана пробило кабель, и весь день не было связи. Нина Сергеевна не могла дозвониться в Вычислительный центр, а из управления не могли дозвониться ей. В отделе, попросту говоря, чесали языками, а завтра — двадцать пятое. Ее вызовут к директору, и будут разговоры о плане, о том, что на третий квартал комбинат впервые не вышел в победители. Кстати, взяли они соцобязательства на декабрь? Нина Сергеевна могла бы сказать, что их дело — получить наконец катализатор. И какие тут еще соцобязательства? Будь они сдельщики, гони план, но в двусмысленном положении экспериментальной лаборатории,— то ли получишь готовую продукцию, то ли когда еще получишь... Но разговора такого не возникнет, ибо все всё знают и без нее. А порядок есть порядок. Значит: а) поставить новую раковину в помещении; б) развести в отделе цветы; в) всем записаться на вечерние курсы по экономике производства. Ну, и что еще? Организовать коллективный выход в планетарий, что ли? Смешно, но почему бы и нет? Что-нибудь вроде «повысить творческий уровень работ» или «демонтаж и секционная реконструкция в свете новых технических задач». Сотрудницы оживленно беседовали, и голоса, в которые она не вслушивалась, отвлекали бессвязно:
— ...«дальневосточный чемпион»? Не будет, ему в пару нужна «голубка» или «Нина»...
— ...верь им. Говорили, что у нее киста, а муж приходит, а она в реанимации...
— ...«читинская морозоустойчивая лучше». Куриного помету не мешало бы...
— ...да нет, «королевский» — пух в полтора пальца! Я сама проверяла на спичку, не может быть синтетика...
Дефицитную эту пряжу, которую все, однако, достают и вяжут, расхваливала Светлана Ивановна Каурцева, худощавая, крашенная хной дама; Нина Сергеевна недолюбливала ее, и та относилась так же. С подчиненными такие отношения исключены, и Нина Сергеевна старалась недолюбливать объективно. Сейчас, глядя на моложавое Светино личико с модной раскосинкой, Нина Сергеевна подумала, что объективность ее — сплошное лицемерие: все знают, что Светлана Ивановна была когда-то ее школьной подругой, да и многое другое знают. Мир тесен, но он чудовищно тесен, когда ты живешь в маленьком городе. Но сегодня об этом не хотелось. Нина Сергеевна опять набрала зачем-то номер и с тупой прилежностью слушала короткое пиканье — не замечая, что думает неизвестно о чем. Вероятно, о том, как кстати получилась авария на линии: до нее не дозвонятся, и только завтра, на планерке... «Может, меня снимут»,— усмехнулась она, хотя знала, что не за что ее снимать и на планерке будет не до нее. У них хлопот по главным цехам, а с нее спросят только соцобязательства — чепуха, текучка. Она справляется с работой. Не хуже других. И вот сейчас это показалось чудовищной нелепостью: с чем она, собственно, справляется, чем она занималась всю жизнь?..
С тех пор как пропала их старшая дочь Марина, а прошло уж три недели, после поездок в угрозыск, путаных показаний, после того как Нина Сергеевна впервые столкнулась с этим аппаратом и оказалось: в нем такие же люди и своя там поденщина и текучка, своя рутина, свой коллектив и свое рабочее время,— а дело их дочери так и не сдвинулось с мертвой точки. После недель бесцельных хлопот Нина Сергеевна стала апатична не только к работе, но и к жизни. Впервые от нее ничего не зависело, буквально ничего. Иногда это были такие отчаянные приступы, что она всерьез думала о смерти. Казалось, как легко бы все кончилось, и она от всего освободится. И схватывалась тут же в страхе: да что это она?! Во-первых, с Мариной все еще, может быть, поправимо: ну, уехала куда-нибудь, ну, вышла замуж или любовь, романтический вздор, а что не пишет — так стыдится или просто не хочет. Она черства, это молодость. Но если даже... Но об этом она не смела, физически не могла думать. Если в первые дни, когда все могло оказаться недоразумением, Нина Сергеевна куда больше паниковала и впадала в отчаяние, рисуя в воображении лишь трагические картины, то по мере того как проходило время и надежды вроде бы не оставалось, а исчезновение дочери стало совершившимся фактом, у нее это все меньше укладывалось в сознании. Невозможно жить изо дня в день с обухом над головой, зная, что вот-вот он тебя пристукнет. Третью неделю Мартыновы жили, помня про этот обух, и теперь уже понимали, что надо если не привыкнуть к своему жуткому положению, то обзавестись хотя бы надеждой в терпеливом ожидании приговора судьбы. «Нельзя так раскисать, у меня ведь еще Лялька!—уговаривала себя Нина Сергеевна, думая о младшей дочери.— Нельзя, нельзя так безобразно расслабляться и паниковать». Так она взбадривала себя и шла на работу. Но вопреки мудрым высказываниям, что «работа исцеляет», работать она не могла. И мысли идиотские: пусть бы сняли с должности, все одно бы уж к одному.
На работе никто еще не знает, но, вероятно, догадываются: она часто звонила в милицию, хотя и следила за собой, чтобы не произнести «угрозыск», «следствие». Ее дочь... Так или иначе узнают, и больше всего ее пугали расспросы и постороннее любопытство, именуемое сочувствием,— а любое сочувствие ей было теперь нестерпимо. Как ни мизерна, ни слаба была надежда, но в милиции их обнадежили, что Марина найдется, и суеверный страх говорить с кем-то о дочери, выслушивать преждевременные соболезнования, а то и просто удовлетворять чье-то любопытство заставлял Нину Сергеевну сторониться расспросов.
И
в Иркутске и здесь к ним с мужем отнеслись
очень тепло, обещали звонить на работу.
Хорошо отнеслись, хотя разбором дела
никто еще не занимался. Могла ли она
когда-нибудь подумать, что такое случится
с нею и с Глебом? Марина пропала три
недели назад, какие-то люди видели ее
на вокзале с вещами, возможно, ее: высокая
девушка в черной шубе и белой пуховой
шапочке в компании подозрительных
парней. Если не принимать во внимание,
что высоких девушек в шубах и шапочках
уезжало много из Иркутска, и даже в тот
роковой день, а все парни Марининого
возраста из-за своих локонов и пристрастия
к хне кажутся среднему поколению
подозрительными. Постепенно стало
известно и остальное: в институте стоял
вопрос об ее отчислении, два месяца
Марина не ходила на лекции. Квартира,
которую она снимала в Иркутске (хозяин
уехал на Север по вербовке, чудом удалось
эту квартиру снять), не в центре, но
благоустроенная, а главное, с транспортом
удобно; соседи рассказали, что за друзья
бывали у Марины. В ту ночь, когда Марина
в последний раз приехала домой, кто-то
из них проник в квартиру через форточку
и выломал изнутри дверь. Марина уезжала
от родителей, еще не зная ни о чем. А
через два дня она исчезла.
Телефонная трубка так и пищала в руке. Стыдно не то, что дурно, а то, что глупо — глупо набирать номер, который не набирается. Нина Сергеевна поймала себя, что воровато оглядывается: видели сотрудницы или нет? Они сидели в противоположном углу комнаты, за стеллажом с реактивами, разговаривали вполголоса и работать, видимо, не собирались. Подчиненные гораздо лучше разбираются в наших настроениях, чем мы сами. Нина Сергеевна вспомнила утреннюю ссору с мужем, совершенно никчемную и разразившуюся по поводу: кому из них ехать в Иркутск? Лялька еще спала, а Глеб, жизнерадостно потягиваясь и зевая, разгуливал по квартире в одних трусах. Нина Сергеевна заваривала чай и, когда он появился в кухонных дверях, ее располневший Аполлон с наметившимся животиком, не могла сдержать неприязни.
— Сегодня поедешь в Иркутск,— угрюмо заявила она,— и дождешься следователя во что бы то ни стало.
— Зачем это?— расслабленно спросил он, поглаживая себя по груди. — Ты же вчера ездила.
Той же расслабленной походкой прошлепал по коридору в ванную, и сквозь шум льющейся воды Нине Сергеевне показалось даже, что он там что-то такое напевает: «Когда черемуха цветет, былые чувства вспомина-а-ю-у...»
Нет, каково легкомыслие! Не владея собой, Нина Сергеевна пошла в ванную: он безмятежно чистил зубы (уже не пел), рассматривая в зеркале свое отражение — слегка помятое, но все еще приятное лицо, поредевшие кудри. Время от времени он втягивал живот.
— Я не могу понять, как ты можешь,— тихо и ненавистно выговорила Нина Сергеевна,— меня просто поражает...
Не договорив, как бы махнув на него рукой, она ушла будить Ляльку.
Через несколько минут они завтракали втроем, и Глеб, бодрый и причесанный, в свежей рубашке, снисходительно объяснял ей, намазывая хлеб маслом:
— У меня, понимаешь, такой тяжелый сегодня день. Инвентаризация, и вообще...
— Инвентаризацию, что, без тебя не проведут?— вяло спросила Нина Сергеевна.— Ты же не кладовщик, кажется.
— Да незачем ехать, незачем!— вспылил Глеб.— Если тебе надо, так поезжай сама — следователь, наверно, соскучился по тебе, со вчерашнего дня тебя не видел.
Конечно, лучше бы поехать ей: эти недели она так подавлена и издергана, что умнее взять отпуск за свой счет и ездить, пусть бесцельно, но самой, на работе все равно идет вкривь и вкось. Но ее неврастения и паника разрослись настолько, что дома она мучилась от того же, от чего не могла сосредоточиться на службе: во время долгих ожиданий в приемных и на автобусных остановках, после бесполезных свиданий со следователем, которого она дожидалась по три, по четыре часа, чтобы всего и услышать, что ему некогда и он еще не начинал,— после всей этой бестолковщины она некстати вспоминала о работе, о конце квартала и года, о бумажной волоките и о начальстве, которое с нее спросит. Но едва она утром приходила на службу, как совершенно здраво понимала: лучше бы ей и не приходить. Суетная бездеятельность, которой она должна была заниматься, основанная на разговорах по телефону и в кабинетах, на составлении необязательных бумаг и в сотый раз проводимых опытах, вместо того чтобы отвлечь от мыслей о дочери, разжигала их. Если бы труд был в первозданном его значении — пусть даже аврал, лихорадка, но такой, чтобы она могла не думать,— она благодарна была бы. Уж лучше траншеи копать!.. Глупо было ссориться с мужем, обидно намекая, что у себя на службе он все равно ничего не делает, когда у нее столько работы, да еще эта планерка... Глеб говорил, что как бы он удачно ни съездил, она все равно будет ворчать: в милиции не скажут ничего нового, он уверен. Муж был прав, и она окончательно вышла из себя: ну, разумеется, ты не мать, в голове у тебя что угодно: бабы, твои приятели, ты за всю жизнь палец о палец не ударил. О, если бы ты был на моем месте, если бы ты был матерью! При всем желании матерью он стать не мог, и Нина Сергеевна победила: Глеб сдался и поехал в Иркутск. Теперь Нина Сергеевна думала, что отпускать мужа было глупо, толку от любых его действий с проявлением инициативы еще не бывало никогда.
Но она-то, она! Как могла она, мать, ничего не почувствовать? Ей начинало казаться, что уже в воскресенье болело сердце, и вспоминались сны, которые можно толковать, но она знала, что вспоминает их задним умом. Конечно, теперь она многое могла предполагать и переживать те или иные слова дочери, но еще меньше, чем когда-нибудь, понимала дочь. Кто бы мог подумать, что Марина такая скрытная? Ей всегда казалось, что у дочери характер Глеба и даже ее вранье, корыстное или бескорыстное, не может зайти далеко. Ей не доставляло удовольствия ловить дочь на этом, но она была уверена...
Нина
Сергеевна ездила к дочери каждую неделю,
а на воскресенье Марина приезжала домой.
У миллионов родителей дети учатся в
другом городе, даже не так близко. Марина
приезжала жизнерадостная, по ее словам,
все «о'кэй». Когда Нина Сергеевна
навещала ее в Иркутске — прилежная
голова над учебниками... И вдруг этот
ужас: угроза отчисления, дурная
компания. Нина Сергеевна всегда
считала, что такое бывает только в
переводной литературе, с французского
или английского («Растлевающее влияние
Запада»,— сказал следователь). И наконец,
исчезновение: без выписки, без
предупреждения. Бегство? Но от чего?
Увезли? Но зачем? Могли и убить, могли...
Но за что? «Она совершеннолетняя,—
сказали в угрозысске, — может ехать
куда угодно...» А кто эти парни? Маринины
подруги врут, хлопают кукольными
глазами.
ГЛАВА 2
Помнились какие-то мелочи, вздор. Идиотская Маринина выходка на вступительных экзаменах. Во всех поступках дочери, даже самых хамских,— ребячество и беспечность, доходящая до полного абсурда, беспечность, которую Нина Сергеевна не понимала, когда ставила себя на место дочери. Не понимала и, махнув рукой, соглашалась: глупость, детство. Сейчас они раньше развиваются, но позже взрослеют.
В медицинский Марина поступала второй раз, в прошлом году она не прошла по конкурсу. Но после первого экзамена — по биологии она получила «отлично» — вдруг срезалась на физике на «удовлетворительно». Молодец, не отчаялась и усердно готовилась к химии, во всяком случае, делала вид, что готовится. Это был решающий экзамен. Накануне вечером она долго сидела за учебниками, и Нина Сергеевна пожалела ее рано будить, а подняла лишь в восьмом часу, перед тем как уехать на работу. Вместе с Глебом они вышли из дому, Марина в это время заспанная пила на кухне чай, собираясь в Иркутск. Помнится, чудное было утро, и омрачал его только Глеб. Ночью пошел дождь, и было удивительно, не по-утреннему тепло, пичужки надрывались от писка, а они с Глебом обходили мелкие лужи с отраженными облаками, и он пилил ее, не успев сорвать зло на Марине. Марина ответила что-то капризное отцу, а в кухне надула губы: «Опять творог!» Все это возмутило с утра Глеба, особенно — что не было свежего хлеба на завтрак.
— У меня же не сто рук,— оправдывалась Нина Сергеевна,— и потом, не бросать же было варенье на плите, раз уж я занялась, смородина третий день кисла. Ничего же с вами не сделалось, черствый хлеб — даже полезно.
— Но почему не послать эту красотку? Лялька в лагере, так теперь в магазин некому сходить.
— Не ори. Марина готовилась, ты же знаешь.
— Я знаю, что она обнаглела и вертит тобой как хочет. Села и ножки свесила, а ты и рада.— Глеб подумал, что бы сказать побольнее, и, конечно, придумал:— Спать с парнями у нее хватило ума, без твоей помощи, а вот в магазин почему-то трудно сходить.
— Ну что ты мелешь?— обозлилась она. Ее взбесило, что он даже не чувствует, что ляпнул: это случилось летом, и девочка заплатила сполна, в ее возрасте не такое уж чудовищное исключение. Но нет, Глеб не понимал.— Что ты мелешь, можно подумать, тут требуется ум. В конце концов, мне было столько же лет, как Марине, если у тебя еще не окончательно отшибло память.
Глеб действительно этого не помнил. И даже расхохотался, сообразив: за восемнадцать лет их жизни все отшибло. Но и вспомнив, не отказался от своей точки зрения. Тут был какой-то оскорбительный мужской пунктик, которого Глеб не мог переступить, особенно рассуждая о дочери.
Но, пиля ее утром, он невольно оказался прав, хотя ведь не мог предвидеть Марининой выходки, зато потом всякий раз козырял перед Ниной Сергеевной. А тогда они расстались, доругиваясь на остановке: Нина Сергеевна вскочила в автобус, а Глеб со своими проповедями потопал на трамвай. И буквально через час позвонил ей на работу, торжествуя: оказывается, он забыл портфель, а вернувшись, застукал Марину в самом ненадлежащем виде, и та вовсе не собиралась в Иркутск сдавать экзамен. Глеб начал открывать дверь, но замок был на предохранителе, Марина заметалась в панике по квартире, и металась довольно долго, так что Глеб успел взбеситься и остынуть. Наконец Марина открыла, сконфуженная, все еще в халате. «Что это значит?» — поинтересовался Глеб. Та врала что-то безнадежное. Под тахту была задвинута пепельница с недокуренной сигаретой, которая еще дымилась; постель не убрана, ящик тумбочки наспех задвинут, а там вязанье: в тот момент, когда Глеб завозился ключом в двери, Марина вязала шерстяную юбку Лялькиной кукле Матильде. Нина Сергеевна ничего не понимала: что за чушь, какая юбка? Глеб еще раз злорадно объяснил: шерстяная юбка для Лялькиной куклы Матильды. Что он плетет, не хочет ли он сказать, что вместо того чтобы ехать сдавать экзамены, Марина принялась играть в Лялькины куклы? Глеб подтвердил: вот именно, это он и хочет сказать. Это был абсурд, ерунда какая-то немыслимая. Девка, которой восемнадцать лет, которая успела пережить любовную трагедию и даже чуть не стала матерью, и она, вместо того чтобы поступать в институт... Ну, сигареты — еще ладно, но почему — кукла? Глеб спровадил ее на электричку, но кто знает, поедет ли она сдавать. Оказывается, после тройки по физике Марина решила, что сдавать все равно бесполезно.
Химию
она сдала на пятерку. Вечером все
радовались за Марину и не осмелились
спросить про ее утренний финт. А когда
Нина Сергеевна решилась на второй день,
дочь простецки расхохоталась, и в смехе
ее не было ни тени розыгрыша: ну, а что
такого, вязала юбку Лялькиной кукле? И
опять все сдвигалось и колебалось, и
Нина Сергеевна ничего не понимала.
Может, и правда Марина — совершенный
ребенок? И юбка для Лялькиной куклы, и
экзамены в институт — равны по степени
важности? Тем более что по большому-то
счету Нину Сергеевну смешили эти
институтские страсти: с дипломом, без
диплома — это ли имеет в жизни смысл?
Так почему же для своей дочери она
хотела высшего образования, как
другие?
В прошлом году, когда Марина не прошла по конкурсу, Нине Сергеевне казалось, что никакой трагедии не произошло, и она отнеслась к этому спокойно. Хотя на работе удивились. Почему бы не съездить самой в институт, ведь у нее там знакомые? Знакомые действительно были: Юрка Тавянский, бывший одноклассник Нины Сергеевны, заведовал кафедрой. Но ей как-то в голову не пришло, что Юрку можно просить об этом. Тем более что когда она приезжала «болеть» за Марину, они столкнулись в вестибюле и потом с полчаса болтали у него на кафедре. Она и в самом деле забыла, что он «полезный человек», и расплылась, увидев знакомого. А Юрка, бегло посочувствовав и кивнув: «Дочь сдает? У тебя уже такая дочь? Невероятно, старушка!» — дипломатично ушел в воспоминания, оживляясь и молодея тем больше, чем дальше они уходили от сегодняшнего дня — уходили в свою молодость — от седин, семей и, главное, от детей, которые поступают в институты. В общем, странно было бы говорить с ним о дочери-абитуриентке: ясно, что это поставит его в неловкое положение, а он беззащитен будет прямо отказать.
Ну не прошла по конкурсу, средний балл аттестата подгулял. На следующий год поступит. Так Нина Сергеевна и сказала на работе — с легкомыслием, неприличным для матери. На работе не поверили, решили, что она шутит. Запоздало советовали. Вспоминались блистательные примеры родительского расшибания в лепешку. Надо уметь. Нина Сергеевна еще отмалчивалась: ну что за вздор, Марина не какая-нибудь тупица, поступит. На фоне зарождающихся сомнений, этого слабого пока намека на комплекс родительской неполноценности, и возникла проблема устройства на работу. Она не представляла еще всей сложности. Для начала сунулись в несколько организаций — работы Марине не нашлось. Нина Сергеевна удивилась: в одной организации, это она твердо знала, освобождалось место чертежницы. Там была знакомая технолог, но Нина Сергеевна не пошла к ней — показалось неудобным, к тому же знакомство было официальное. Но кое о чем она уже догадывалась. Во-первых, поток десятиклассников, заваливших в институты, хлынул. Во-вторых, их не очень-то хотели брать: несовершеннолетние и не являются стабильными кадрами, ни для кого не секрет, что в следующем году каждый второй из них подаст документы в вузы. Вакансии были на стройку, в детские ясли, и еще оставались различные ПТУ.
Прошел август, затем сентябрь, и Нина Сергеевна, подавив в себе некоторую щепетильность, начала обходить знакомых. У нее все же не было опыта в подобных делах, да и знакомые были такие же, как она: люди, неспособные к пробиванию. Знакомые мялись, соглашались, где-то у кого-то спрашивали, им отказывали. Она пошла даже на то, что решилась поговорить со своим директором. «Непременно,— уверяли на работе,— он поможет, еще бы. У всех управленческих дети работают, кто в плановом отделе, кто в БТИ...» Директор выслушал ее сбивчивую просьбу, сгибая и разгибая скрепку для бумаг. Выждав известную ему паузу, доверительно и твердо взглянул ей в глаза — она поняла, что бесполезно. «Знаете, Нина Сергеевна, я вас понимаю, но и вы поймите меня,— сказал директор,— у всех моих сотрудников дети, и мне — либо принять их всех, либо никого не принимать...» Он знал, с кем имеет дело.
Нина Сергеевна заизвинялась, стушевалась, поднялась. И страшно удивилась, когда через неделю к ней в отдел прислали новую лаборанточку: это место не было прежде лимитировано, и Нина Сергеевна не могла его добиться, пока не понадобилось кому-то из управления устроить дочь. Так что директор разговаривал с ней, зная, что лаборанточка будет принята.
Они
смирились, согласны были на то, что
Марина поработает нянечкой. Глеб, как
всегда, строил прожектерские планы: как
Марина там приживется и растолстеет на
казенных хлебах. «О боже,— злилась
Марина,— неужели ты не мог спросить у
своих? А еще: «Киршнер для меня все
сделает, мы с ним в одной экспедиции на
Маме работали...» И вообще, молчи, ты меня
уже устроил в Гипрострой...» Глеб вынимал
расческу, начинал задумчиво причесываться
— слева направо, потом справа налево.
«Понимаешь, Марина, ты не права».—
«О-ох!— взвывала несчастная Марина.—
Слышала уже тысячу раз! И вообще, перестань
причесываться, это меня раздражает. Ма,
скажи ему,— добивала она Глеба,—
хватит ему причесываться, все равно
же видно, что лысый». Глеб краснел и
сердился, распаляясь якобы о принципах,
но Марину было не провести. В общем, они
трезво оценили обстановку, и Марина
начала проходить медицинскую комиссию
в детские ясли.
Значит, уже тогда! Но какая же взаимосвязь между устройством на работу (а устроили по блату, и место, как в сказке, нашлось, будто судьба подготовила свой подвох, чтобы обрушить потом на голову); но какая же связь между блатным местом в научно-исследовательской теплой конторе и нынешней осенью и зимой? Полупритоном на чужой квартире, что сняли тоже, как в сказке, для собственной дочери? Это разразилось над ними, когда Марина уже исчезла. Нет, было и последнее воскресенье: слишком спокойная дочь, послушная и будто чужая девушка, отдыхала от своих школярских трудов в родительском доме и не просила купить новые финские сапоги, хотя Нина Сергеевна приготовилась бороться и сапог не покупать. Потому что знала разрушительную силу желаний дочери: если Марине взбредут в голову сапоги, то они и будут, как будет сначала изнурительное семейное побоище, Маринины крики и слезы, и чудовищные обвинения в скупости, от которых волосы дыбом встают, и недетская меткость оскорблений, и затяжная осада, когда родители и дочь не разговаривают, и наконец, примитивная ловушка с расслаблением воли и разума, когда Марина вдруг станет человеком, сердечным и любящим, и не чуркой с глазами, для которой сапоги дороже всего святого. Тут они и купятся с Глебом на любовь и бескорыстие, в которых Марина никогда не переигрывает, потому что играет искренне, всерьез. Нина Сергеевна прекрасно все это знала, но всегда надеялась на какое-то чудо, вооружаясь до зубов против дочери: что в Марине однажды проснется совесть, она ведь знает про долги, знает, что зиму можно переходить и в старых сапогах, которые вполне приличны. Но Марина не вспомнила о сапогах, были только преувеличенные рассказы о том, какие фильмы она видела и как преподают биологию у них в институте. Нина Сергеевна всего и поняла, что Марина сыплется с зачетами. Однако что-то же толкнуло поехать в Иркутск не во вторник, как она обещала дочери, и не в четверг, что было бы удобнее, а в среду. Глеб не хотел, чтобы она ехала, потому что Ляльку на каток придется вести ему. К тому же стирка. Глеб ворчал, что она едет зря. Марина не ждет и может уйти из дому; и что это роскошь — тратиться каждый день на электричку, когда Ляльке нужно наточить коньки, и ему нужно... («Тебе-то что нужно? В ресторане давно не был?») Нужно ему...
— Какой же ты хочешь самостоятельности?— презрительно пожимал он плечами.— Если будешь таскаться к ней каждый день? Ты обвиняешь мою мать, а испортила ее ты сама, вот и достукалась, что Марина не в состоянии чулки себе выстирать.
Она молчала, виновато укладывая сумки: что толку, что Глеб прав? Она не могла объяснить, почему едет именно сегодня, понимала, что глупо, и все же ехала. Может быть, потому, что Глеб не пускал. И еще: тягость, накатившая на нее в привокзальном автобусе, когда поняла, что едет зря, и надежда опоздать. Она устала за эти месяцы, не такая уж радость мотаться на электричках туда и обратно, хронически недосыпать. Ведь не ехала же она, чтобы застать Марину на преступлении, а просто увидеть, успокоиться, что все в порядке. Она устала раздражаться, торопясь с работы, устала бегать по магазинам, устала, наконец, ждать автобуса и бояться каждый раз опоздать. Когда она поняла, что не успевает, то даже обрадовалась: следующей электричкой ехать уже бессмысленно. И тот испуг, когда все-таки успела: ведь автобус по всем статьям опоздал, но электричка еще стояла — на путях кого-то перерезало поездом. Эта вмиг образовавшаяся толпа; электричка уже уходила и вдруг встала, резко затормозив, и Нина Сергеевна, стараясь не смотреть, проскальзывала в вагон, как преступница. В том, что старалась не глядеть, было что-то постыдное. Мертвый тупой ужас, безобразное в своей нелепости предчувствие: словно успев за счет чьей-то жизни, она уже заключила добровольную сделку. Она не смотрела в окно, где суетились санитары с носилками. Электричка мягко тронулась, словно ничего и не произошло. Вагон вдруг наполнили возбужденные люди, обсуждая это, и все они мерно плыли вместе с Ниной Сергеевной сквозь пасмурные заснеженные пустыри с островками станций, навстречу гаснущему закату, четко отлинованному от серой мути остального неба.
В Иркутск приехала затемно. Она решила, что заночует сегодня у дочери, чтобы не возвращаться так поздно, уехать лучше утром, с первой электричкой. И еще подумала, что Марины может не быть дома, сегодня она не ждет и живет какой-то другой, скрытой от родителей жизнью. Но почему все тяжелее становилось в автобусе? Была просто невыносимая тоска, тем более непонятная, что уже скоро Нина Сергеевна все узнает: о том, что в одиннадцать часов вечера Марины нет дома, ведь по логике ее рассказов она должна зубрить всю ночь, завтра у них контрольная... И не ложь, которую Марина потом сочинит: мол, готовилась у подруги и осталась там ночевать. Даже если «подруга» носит усы и бреет бороду. Нину Сергеевну эта ложь как бы заранее не смущала. Она не могла себе объяснить что, даже не думала сознательно, но когда приближалась к тому, чтобы подумать, в ней все обмирало, была какая-то тоска: то ли автобус медленно шел, то ли ехать было противно и лучше бы дома спать. Здесь было что-то страшное для нее, связанное с пережитым ужасом на вокзале: вдруг всплывала толпа людей и то, на что она старалась не глядеть. Но, разбираясь во всех этих ощущениях, тут же понимала, что они не новы, что ничего суеверного и рокового тут нет и ни разу такая ее раздерганность еще не сбывалась: просто нервы. Взвинченное воображение, и больше ничего. Что автобус не перевернется, она могла даже поручиться. И тогда... Но это «тогда» она отгоняла. Да и не отгоняла; отгонять — ведь значило уже думать, значило представлять, а тут не было и в помине: такая вялая тупость занималась в душе, и то ли автобус медленно ползет, то ли Марину она не застанет. И чем меньше оставалось остановок, тем явственнее нарастала тоска, тем неоправданней сжималось сердце.
Еще в автобусе она увидела в Марининой квартире свет и мгновенно успокоилась, даже рассмеялась над собой: слава богу, что она все только сочинила, слава богу, что наши предчувствия никогда не сбываются. Вспомнила, что замерзла, устала, издергалась, захотелось согреться и спать. Этот переход от мучительного напряжения к блаженной вялости был слишком резок, поднимаясь по лестнице, она зевала, ее немного морозило и склеивались глаза. Казалось, ее хватит только на то, чтобы доползти до Марининых дверей, и никаких расспросов, спать! Даже чаю не надо, пусть Марина пьет сама.
Ее удивило, что дверь не заперта — в двенадцатом-то часу!— и словно там много чужих в квартире, словно голоса... В коридорчике было темно и в кухне, и дверь настежь в ярко освещенную комнату. И действительно, голоса...
Она еще не успела испугаться, а просто замешкалась перед тем, как вступить в полосу света: она и не подумала о Марине в этот миг, а лишь о том, что сейчас увидит. И когда вошла, так же странно была оглушена, чтобы понять все в целом, а словно выхватывала то одно, то другое. Прежде всего — была толпа парней. Одни толпились посреди комнаты, другие сидели, кто на тахте, кто на раскладушке. Но большинство стояли, и все обернулись. Затем она поняла, что в комнате невероятный беспорядок: стол, залитый вином, с прилипшими окурками и объедками, с батареей пустых бутылок. Все шкафы и тумбочки словно выпотрошены — открытые дверцы и выдвинутые ящики, из которых свисали какие-то тряпки — это уже не вещи, они потеряли вид вещей. Марины в комнате не было.
На тахте, кроме парней, сидела девица, в брюках и почему-то в пальто. В свое пальтишко она куталась так, словно под ним, кроме брюк, ничего больше нет. Компания смутилась, однако никто не шевельнулся. В смущении их был не стыд застигнутых врасплох, а что-то другое. Словно они были недовольны и рассердились, что вошел посторонний. И прежде чем Нина Сергеевна сообразила все это, ее обожгла дикая, детективная и поэтому страшная мысль: «Не спугнуть!» Почему именно «не спугнуть», она еще не знала, но это было какое-то неизвестное ей прежде чутье и звериная хитрость, когда мы действуем не рассуждая, инстинктом. Поэтому, вместо того чтобы разогнать компанию, она сняла пальто, поискала, куда повесить, не нашла и села на стул (который, кстати, никто ей не предложил), свернув пальто на коленях. Тут опять ее обожгло, что такое же чутье должно включиться у них, насторожить, потому что ведет она себя неестественно, и тут же сообразила, что компания не реагирует, и как бы апатичны, как бы заторможены они все чем-то — пьяны, что ли? Но и пьяными они не выглядели.
Кто-то догадался спросить: «Вы к Марине? Ее нет дома». И она поняла, что ее приняли за кого угодно, только не за мать Марины. Впервые их непохожесть с дочерью и субтильность Нины Сергеевны сыграли ей на руку. Впрочем... Пьяны они были, что ли? Она спросила, куда уехала Марина. «На вечер,— соврали ей, даже не заботясь о правдоподобии (был уже двенадцатый час, и Марина, по их словам, уехала «только что»),— на вечер посвящения в студенты».
Это в декабре-то!
Их вялая ложь была рассчитана только на то, чтобы она поскорее ушла отсюда. Нина Сергеевна прикинулась удрученной: словно очень спешила, но и Марину нужно повидать, ну и...
Странно, зачем все эти люди здесь, кто они? Хотя, конечно, не ее дело. Она подумала, до чего бездарна ее игра, но компания словно не замечала, все еще хмуро-апатичная, словно надеясь, что гостья вот-вот уйдет. Наконец она поняла, что в них неестественного и что сразу бросалось в глаза, еще не отмеченное сознанием.
Компания (их было человек восемь-девять, включая девицу) была Марининых лет или постарше, но все они были бледны и старообразны, словно давно и безнадежно пьющие люди. Что-то туповатое в лицах и взглядах, угрюмо сосредоточенное. И еще. Все как-то застираны и помяты, заношены, хотя некоторые одеты модно: в грубые джинсы и рубашки, которые на рынке стоят втридорога. Припахивало спекуляцией от этих ребят, от их жвачки, которую они вяло жевали, от роскошных, по плечи, париков на парнях, от щегольских ботинок, хотя ботинки были грязные, да и не на всех, а бахрома рукавов и брючин была отнюдь не стилизованная, а нажитая.
Все они были как бы на одно лицо, но Нина Сергеевна стала понемножку их различать. Нет, это были не интеллектуалы, не студенты, не работяги, не... Пожалуй, и не жулики. Это не поддавалось пока анализу, кто они. При всей одинаковости они были разношерстны, при всей разношерстности что-то их связывало, преобладало во всех. Что-то подпольное было в них, что ли?
«Стильных» среди них было наполовину: это был тощенький парнишка, если можно так назвать вялое, с пепельным цветом лица создание в американских джинсах и соломенной копне парика. На парне была грубая приталенная рубашка, надетая, видимо, на голое тело; шея давно не мылась, а отроческий пушок на щеках был грязноват, что-то из ночлежек (именно это книжное сравнение приходило в голову), а не ради пижонства. Другой «хиппи» валялся на тахте и был бы даже красив — резкое, мужественное лицо римского легионера,— если бы не характерная для всей компании вялость и что-то неодухотворенно-тлеющее, мрачноватое во взгляде. У парня были красивые густые волосы, в которые он вцепил свои грязноватые пальцы: впечатление, что у него болит голова и он очень мучается. Один был похож на спившегося студента, сынка из хорошей семьи: некая интеллигентная застенчивость еще промелькивала в манерах, в том, как он поправлял очки, сконфуженно улыбался. Кстати, он единственный, кто старался навести хоть какой-нибудь порядок: унес бутылки и попытался вытереть залитый стол. Это бледное дитя обладало болезненной одутловатостью и совершенно черными, съеденными зубами. Было несколько личностей чуть ли не в заплатанных гимнастерках, совсем юный мальчик, лет четырнадцати, в грязном шарфике на худенькой шейке. Был некто из работяг, какой-нибудь бульдозерист-прогульщик. Впрочем, Нина Сергеевна не удивилась бы, окажись он закройщиком. Его «хипповость» была немножко топорной, как и фальшивые перстни на пальцах. Работяга являл самый здоровый и цветущий вид из всей компании, а жизнерадостная наглость даже пугала — этот был тертый и похитрее их детсадовской шайки. Девица была похожа на потаскушку во цвете лет, но как бы усталую, в силу застаревшей привычки, а не ради интереса или пагубной страсти. Характерно, что ни парни, ни девица как будто не питали друг к другу никаких чувств, кроме товарищеских. Да, пожалуй, сексуального интереса ни в ком из них не было, хотя пальтишко девицы было надето на голое тело, но это никоим образом их не занимало: ни теперь, ни полчаса назад.
Чтобы
развеять тягостную обстановку, Нина
Сергеевна предложила познакомиться.
Ей было не по себе, ей было страшно.
Страшно с ними сидеть, не говоря уже о
том, что эти люди — знакомые ее дочери.
Они вяло и насмешливо назвали свои имена
— в том, что они лгут, не было никакого
сомнения, это выглядело даже издевкой.
Они и не маскировались, что лгут, и Нина
Сергеевна не запоминала, стараясь
зацепиться за внешность, сфотографировать.
И все же не так уж они были пьяны, чтобы...
На кого-то они походили, потому что в
ней родилось подозрение. Не подозрение
— намек на догадку. Она рассеянно
огляделась, неизвестно чего ища. И чуть
не подскочила на стуле: на столе и на
полу валялись пустые ампулы, она и раньше
заметила, но все равно что не видела,
потому что не понимала. Какая-то травка,
напиханная в целлофановый мешок на
подоконнике, какие-то коробочки и шприц,
что они прятали в портфель — она
вспомнила!— ведь прятали, когда она
вошла. Она обмякла как мешок, не в силах
принять, что это правда. Значит, она
испортила им кайф. Все это было похоже
на страшный сон, и, как в страшном сне,
компания бесшумно вдруг поднялась, не
суетясь уходила, исчезла. В секунду
рассеялось наваждение, и Нина Сергеевна
сидела посреди пустой комнаты, не в
силах понять, видела ли она их, было ли
все на самом деле. Оставаться ночевать
она здесь не могла, Марина не может сюда
прийти, это ясно. Она поняла, что с Мариной
случилось что-то ужасное. Она нашла в
себе силы подняться, стала подбирать
пустые ампулы: завтра надо заявить в
милицию. И вдруг стало
так дурно, так физически тошно, так
стыдно за себя: да неужели же она думает
всерьез, что... Не придумала
ли она, не пригрезилось ли ей все это?
Да нет, просто навалилось тупое бессилие:
словно она испачкалась в чем-то, именно
ощущение физической нечистоты мутило
ее и выворачивало наизнанку. Завтра
приедет и во всем убедится сама. Увидит
Марину, разыщет. Ей не пришло в голову,
что у них есть ключ, ведь как-то они
попали в квартиру.
ГЛАВА 3
Надо было взять отпуск за свой счет. Нина Сергеевна взглянула на часы: половина десятого. Вздохнув, она раскладывает свои бумажки: составить технический отчет, обязательно написать заявки на январь, а кроме того...
Галя Белкина, старшая лаборантка, выдает сотрудницам реактивы, инженеры, Лерочка и Светлана Каур-цева, проверяют приборы. Белкина объясняет, какой ей выделили палас: шерстяной, три на пять, закроет всю комнату.
— Вот разменяешь квартиру,— сопереживает довольная Лерочка,— тебе бы еще гарнитур сменить.
Лерочка профгруппорг, потому и довольна, что угодила. Палас, правда, клееный, себе бы Лерочка такой не взяла. И цвет неважный. Обе женщины это прекрасно знают, но обе сейчас совершенно искренни: Лерочка верит, что сделала доброе дело, а Белкина счастлива, что выделили ей, а не Каурцевой.
— Светлана Ивановна, в следующий раз вам распределим,— льстиво улыбается Лерочка.
Светлана Ивановна молчит, ей такие намеки неприятны. У нее, правда, ковер есть, но она его хочет повесить на стену, а палас на пол. Не в том дело — задето самолюбие. В прошлом месяце они поцапались с Лерочкой из-за графиков, и Лерочка теперь вымещает: Каурцева паласа лишилась — раз; с Белкиной и Машенькой разругалась — два; третье, уже совсем отвратительное,— Лерочка наушничает начальнице, что, кому и когда говорила Каурцева о Нине Сергеевне. Самое сволочное — это работать с бабами. Мужики тоже сплетничают и грызутся, но не так.
Утром, едва Нина Сергеевна появилась на службе, Лерочка улучила минутку:
— Нина Сергеевна, вчера опять был скандал из-за чая.
— Скандал?— удивилась Нина Сергеевна.
— Ну, не скандал, конечно,— добродушно улыбнулась Лерочка,— Каурцева опять выступала.
Кроме спецмолока им еще выписывают чай: две пачки на участок, каждый месяц. Заварки хватает ровно на неделю, а потом они покупают сами: сотрудницы привыкли пить чай два раза в день, да и обедают зачастую прямо на рабочих местах.
— У нас же был чай,— апатично сказала Нина Сергеевна,— помнишь, в шкафу, в стеклянной баночке?
— Ну да, мой чай,— сокрушенно вздохнула Лерочка,— в этот раз я покупала. Но она со мной не разговаривает, вы же знаете.
— Боже мой, Лера, ну вы с ней прямо как дети,—вяло сказала Нина Сергеевна.
— Да я-то что,— опять наивно рассмеялась Лерочка,— я-то с ней как раз разговариваю. Я, конечно, заварила чай, но она... Вы же знаете.— Лера замолчала. И уж совсем между прочим обронила:— Она потом кладовщице звонила, выясняла, сколько нам положено отпускать.
Нина Сергеевна почувствовала, что краснеет, содрогаясь в каком-то беспомощном бешенстве:
— Елена Викторовна, вы это что — специально мне это говорите?— стараясь быть спокойной, проговорила она.— Хорошо, я сейчас позову Каурцеву.
Лерка немножко струхнула:
— Ой, Нина Сергеевна, что вы, это же такая ерунда! Кладовщица же знает, и Светлана Ивановна знает прекрасно. Она только хотела позвонить.
— Лерочка, солнышко,— устало сказала Нина Сергеевна,— не надо все это, ладно? Ты же умная женщина, разберись как-нибудь сама, а?
Сейчас она была почти уверена, что Лера придумала. Хотя... Светка, Светлана Ивановна Каурцева в сердцах может черт-те что накричать. Еще и не то может... Но об этом она не хотела думать. И не стала для себя уточнять, почему не хочет: знала, что поднимется личное, стыдное, с оглядочкой на то, что давно уже она запретила себе вспоминать. Тем более Светлана Ивановна — та самая Светка, которую она столкнула в пятом классе с крыльца. Но ведь так и было: толкнула, и Светка упала, ударившись плечом об ограду. А ссора, о чем она была, Нина Сергеевна не помнит, только Светка, которая плясала на крыльце: «Цыганка! Цыганка!» Как все рвалось и клокотало внутри, и не было острее наслаждения — толкнуть Светку носом с крыльца, лицом в снег! С ней, со Светкой, всегда было так: то дружили, то враждовали, но прожить друг без друга не могли ни дня. Теперь почти не понять и не объяснить того чувства томящего обожания, когда, повиснув друг на дружке, шли, обнявшись, деревенской улицей или сидели на лавочке, шепча «секреты», и Светка в приливе дикарской безудержной любви вдруг стискивала Нинину шею так крепко, что позвонкам было больно. «Я так тебя люблю-прелюблю, что даже хочется укусить!— шептала она, глядя прозрачными, странно-раскосыми глазами.— Не хочу, чтобы ты дружила с Янкой...» Эта дружба-соперничество продолжалась в институте. Только толстая Яна, не пройдя по конкурсу, подала документы в финансовый, и ее взяли без труда: финансовый институт был тогда не в почете.
Странно, как сводит и разводит судьба. Несколько лет назад они со Светкой снова оказались на одном предприятии, и даже в одном отделе: Светка, опять Каурцева, потому что разошлась с мужем, перевелась к ним из Хабаровска. После разлуки они не сразу и не слишком естественно оказались на «вы» (Светка пришла в качестве подчиненной и первая поддержала этот стиль отношений, что было и неловко, и ново для Нины Сергеевны), а воспоминания как бы зачеркнули. И кажется, ничего не было в этой рыжеволосой чужой женщине, Светлане Ивановне, от беленькой тощей Светки. Нина Сергеевна и не напрягалась, чтобы связать их вместе. И ничего не было особенного в том, что ей передали сплетню. Так Нина Сергеевна хотела думать и почти убедила себя. Например, афоризм той же Светланы Ивановны в прошлом году: «Прут в карьеру, если не ладится личная жизнь». Нина Сергеевна старалась не обижаться: никуда она не «перлась», на комбинате она проработала двенадцать лет, а если это считать карьерой... Смешно. Каурцева ничем не глупее ее и не хуже, так что непонятна новая роль человека, обойденного жизнью. Просиди Светка на ее месте столько же лет, возможно, она добилась бы большего.
Во
времена Юдина они создавались на правах
отдела (а теперь им только считаются),
здесь постоянно толклись представители
и журналисты, жизнь била ключом, а по
голове била только неудачников, тех,
что стояли на пути у шефа. Однако во
времена не-Юдина администрация давно
простилась с честолюбивой мечтой
поощрить и выпестовать прикладную
науку: теперь они скромный шесток,
подрядчики, деньги и штаты поприжали.
Преимущества или ущерб власти можно оценивать лишь в зависимости от того, кто стоит у власти, а Юдину надо отдать должное: он действительно многих «вырастил». Но те, кого он «растил», благополучно ушли с комбината, да и сам Юдин потом ушел.
— Во-первых,— обмолвился он как-то с шутливой прямотой,— договоримся: такого понятия — «карьерист» — нет, разве что в фельетонах. Мне не нужны подчиненные, которые не хотят делать карьеру, мне нужны работники, с которых можно спросить.
Шеф был весьма занятный мужик. Нина Сергеевна никогда не могла понять всерьез, кто он: циник или великий комбинатор, шут гороховый или умный человек. Для технаря, производственника, он был странно начитан, любил иногда «поцитировать». Что-то вроде: «В брак — не в рай и не в ад, а просто в чистилище, как сказал Линкольн», когда их продукцию браковали. Или: «Рассудительность — это умение устроить себя и свои делишки, внушал Платон». Нина Сергеевна долгое время считала, что все это он сочиняет сам, на ходу. Пока не наткнулась как-то действительно у Платона, это был перифраз (уж не Платона, конечно, а Юдина) старинной греческой пословицы: «Лишь рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает». И Линкольн о браке действительно говорил — правда, не о производственном, а о церковном. За дежурной иронией шефа проглядывало что-то надтреснутое, хотя внешне Юдин преуспевал, даже слишком.
— Ну
что вы, Нина Сергеевна, как неродная,—
сказал он ей как-то довольно простодушно,—
вечно такое озабоченное лицо, будто
сейчас в президиум выберут. Не бойся,
не выберут. Живите, Ниночка, легче, как
трава растет.
Кое-кому он помог «остепениться», защитить диссертации, хотя знал, что «остепенившиеся» уйдут на повышение. Нине Сергеевне он тоже предлагал, даже тему поидумал: «Уточнение параметров влияния сомнительных присадок типа А-2 к новым катализаторам типа К-5 в условиях глубокого форсированного режима и повышенной агрессивности среды». Тема эта (о сомнительных присадках) вряд ли нужна была производству. У Нины Сергеевны болела тогда Марина, ей было не до присадок, не до кандидатских минимумов, и если она все-таки оставалась после работы и ишачила на Юдина, то только потому, что не умела отказаться, а, кроме того, Юдин давал отгулы.
— Нина Сергеевна, дорогуша моя, это непринципиально,— говорил он внезапно-непроницаемым тоном,— у всех у нас болеют дети, но вы же — производственная единица, вы инженер, как можно ставить личные интересы выше производственных? (Нина Сергеевна молчала, улыбалась криво.) С вами, женщины, одна морока, вот зачем ты, спрашивается, институт кончала?— И тут он делал приторно-умоляющее лицо:— Нина, золотко, да я тебя с дочкой на своей «Волге» в поликлинику завтра отвезу, хочешь?
«На своей «Волге» отвезу» — это художественный образ, метафора. Если бы Юдин всех сотрудников стал на своей машине развозить, ему бы запчастей не хватило. И хотя она знала, что это разговор «на дурачка», слова о долге и производственной необходимости все равно действовали.
Так что о своей карьере Нина Сергеевна была как раз невысокого мнения. Правда, она взяла другим: ее наградили и даже писали о ней в газетах. Юдин провернул тогда один интересный эксперимент, хотя и не строго научного характера, а Нина Сергеевна оказалась подходящей кандидатурой, попала, так сказать, «в струю». Была у шефа любимая поговорочка: «провернуть эксперимент» или «провернемте, братцы, экспериментик». Среди начальников участков нужны были такие: чтоб и добросовестные, и ничем не скомпрометированные, и не выделялись, и скромные, и не награждались прежде. Потому что и премии уже выписали, и награды прислали, и нельзя было не награждать — кого «по заслугам» (как Юдина, например), а кого — за компанию, для солидности и доброго имени, чтоб не кололо никому глаза. Нину Сергеевну тоже не обошли. Это было что-то вроде выполнение пятилетки в полгода, отчасти как хорошее начинание, отчасти для рекламы, для того чтобы привлечь общественность и средства. Один банкет чего стоил, где Юдин приготовил свой «сюрприз»! Но вся отвратительная показуха, ложь, гнусь, оборотная сторона «славы»!
Банкет
был посвящен юбилею поставщиков и к
делу как бы не относился, однако зачин
был положен: в свете новых технических
задач слава повалила валом, они и
коррозионщики получили денежные премии,
а аналитиков и катализ представили к
медалям. И гляди — уже бойкий юноша с
«репортером», которому тоже все до
лампочки, потому что он зарабатывает
свой хлеб: «Нина Сергеевна, что вы
испытали, получив высокую награду?» —
«Для меня это было полнейшей
неожиданностью»,— услышала она свой
голос через неделю. «Мама!— визжит
Марина. — Ты прямо так и сказала? Без
бумажки?!» — «Ну да... А что?» Действительно,
и оборотики же! И стыдно, что эти
самодовольные словеса слушают сейчас
все, многие ее знакомые. А медаль — ей
действительно дали. Она лежала теперь
в книжном шкафу на верхней полке, за
книгами. («Лучше бы оклад повысили,—
кощунственно думала Нина Сергеевна,
натыкаясь во время уборки. —Лучше бы
квартиру обменяли поближе...») Про себя
она знала, что ничем таким не заслужила,
что и Юдин ничем ей не польстил. Просто
сработал какой-то механизм, судьба
выбросила этот жетон. Зато потом неловкое
чувство, когда она видела свой портрет
на газетной полосе, когда звонила
какая-то милая дама из Дворца пионеров,
прося выступить на встрече с «интересными
людьми». Когда Нина Сергеевна готовила
отчет к конференции. Да и в зале, умные
же люди, понимали: человек несет чушь с
трибуны, те, кто пихнул на трибуну, тоже
знают, что чушь, но раз их сюда привели,
в зал, то надо отсидеть и выслушать и
похлопать в ладоши. К тому же ей казалось,
что мыльный пузырь вот-вот лопнет и
тогда ничто не спасет ее от унижений и
насмешек. Тогда она еще не знала, что
позор и радость успеха тем и хороши, что
никого не занимают всерьез и легко
стираются в сознании только что хваливших
тебя людей, едва шумиха утихнет. Это
дутое вознесение на гребень легко
опадает и рассасывается в хлябях
будничной жизни.
Странно было бы думать, что именно это заедает Каурцеву. Она не так уж глупа, чтобы завидовать тому, чего нет. «Просто мы устаем друг от друга,—как философствует Яна, когда она в плохом настроении,— я, например, устаю от Светки, вообще устаю от людей. Недавно еду в трамвае, дай, думаю, сосчитаю знакомых, так я поразилась: с этой — в роддоме вместе лежали, с другой — на юге отдыхали, а один тип здоровается, ну, думаю, он-то откуда меня знает? Оказывается, в детский сад ходили, в младшую группу... Как вспомнишь, что мы с тобой и Светкой в школе учились — реветь хочется...» Яна говорит (Яна все так же дружна с обеими, хотя ее детская вялость оказалась не такой уж вялой в жизни), что Светка очень несчастна после того, как этот молодой человек ее бросил. Какой молодой человек? Нина Сергеевна понятия не имела, да и не стремилась иметь, Светкины проблемы ее не касаются. Вот уж мировая катастрофа — двое людей бросили друг друга, по городской статистике три тысячи ежегодно расходятся. Только удивилась Светкиной энергии: в тридцать семь лет она еще в силах переживать любовные трагедии, в силах жить. Тут позавидовать можно, а не жалеть. Да, но у нас семьи, сказала Яна, у нас взрослые дети. Нина Сергеевна пожала плечами: детей могла и Светка нарожать, никто ей в этом не мешал.
— Нина, она завидует,— сказала Яна,— ты чего-то добилась в жизни. («Я? Добилась?! — немо удивилась Нина Сергеевна.— Да у меня ведь с Мариной, у меня ведь...») И потом, Глеб... Неужели ты так и не можешь простить?
Ну уж, этого она могла бы и не говорить! Светка ей, что ли, внушила?.. Нина Сергеевна взорвалась:
— Она еще не переспала с твоим Рохляковым? Удивительно, вы стали такими подругами!..
И тут же испугалась, что ляпнула: это ей, собственно, доверил Глеб под великой тайной, да и Глеб мог соврать. Вполне могло быть, что Рохляков тут ни при чем, а Глеб сам не чист. А Яну легко уязвить, романы ее мужа известны всем, кроме жены. «Да, нет же,— сказала Нина Сергеевна,— тебе-то глупо думать. Светка, какая бы ни была...»
— Значит, ты все еще ревнуешь,— с облегчением вздохнула Яна.
«Бедная дурочка,— подумала Нина Сергеевна,— у кого что болит...»— смутно догадываясь, что то же самое подумала и Яна — о ней самой.
Яна в тот раз прибежала сочувствовать, узнав о несчастье с дочерью. (И все они — как мухи на мед!) Неужели и Нина Сергеевна вот так же бы: утешать пришла, про Каурцеву посплетничать, и не уходила бы, не уходила, не видела, что уже сил человеческих нет. Да нет, сама она еще хуже, соболезновать — адский труд. Но неприятно удивилась, что вот и Яна знает — не прошло еще и трех дней, даже заявление в милицию не успели подать. Оказывается, Глеб заходил к Рохляковым, от него Яна и узнала. И что за язык! Тем более тогда еще надеялись, что это недоразумение, что Марина найдется: ведь заранее поверить в несчастье — все равно что накликать его. Яна, такая цветущая, участливо копалась теперь в душе и хвалила варенье из крыжовника, прямо восхищена была вареньем. Забавная штука, соболезнование: чего только люди не говорят из чувства неловкости, оттого что болит не у них. Будто дочь пропала — это еще полбеды, зато вот у тебя — варенье! И ведь сами понимают, что нельзя и невозможно утешить или «отвлечь», и ведь сами конфузятся от этого, но — говорят. Не дай бог в шкуру утешителя. «Чего ты в него добавляешь?» — мило спрашивала Яна, облизывая ложечку. Нина Сергеевна мило объяснила, что добавляет вишневый лист, что это рецепт свекрови. При этом дочь таки пропала без вести, и Яна делала лицевую гимнастику, наморщив свой чистый лоб, и вздыхала, покачивая головой.
— Яна, прошу тебя, не говори ей ничего. Мне неприятно, если узнают на работе.
Яна честно возмущалась, тараща голубые глаза:
— Ну что ты, за кого ты меня принимаешь! Я же понимаю, я бы сама... Но ради бога, возьми себя в руки, с Мариной все еще образуется.
Нина Сергеевна кивала, что да, да, конечно, образуется, как не образоваться. Марину найдут, и Яна совершенно права, волноваться тут нечего, Марина у подруг, наверно, да она и не волнуется — да нет же, совсем не волнуется!
Яна в своем участии зашла так далеко, что вспомнила знакомого прокурора в Иркутске. Надо будет съездить к нему, посоветоваться. Яна на этой же неделе съездит. Захотела помочь она вполне искренне, Нина Сергеевна это знала, как знала, что никуда, конечно, Яна не поедет, назавтра же забыв об их разговоре и своей готовности помочь. Просто у Яны другие заботы, и забудет она тоже искренне, не так, например, как «забывает» Нина Сергеевна. Она, пообещав сгоряча, обычно грызет себя, что никак не выкроит времени или что вообще ей выполнить не по силам, презирая себя, однако и не выполняя, и в какой-то момент эти угрызения перерастают в неприязнь к человеку, которому она имела глупость пообещать. При встрече она краснеет, не глядит человеку в глаза, не любя его за то, что перед ним виновата, и очень горячо клянется, что «забыла», и еще более горячо клянется, что уж теперь-то она все выполнит, сделает. Тьфу! Человек уходит, а она бьет себя в отчаянии в грудь: да что она за идиотка, зачем же это она опять пообещала?! Яна более искренна: она просто забывает. Завтра она не вспомнит, потому что будет занята новой дубленкой Рохлякова, о которой тоже немножко обмолвилась: доставать ее будут по нескольким каналам, потому что на базе дубленки только отечественные, а нужна импортная. За это Яна обещает достать, кажется, сервант. Если бы прокурор был годен для употребления в стратегии по добыче дубленки, то Яна бы, разумеется, завтра же помчалась в Иркутск (будет же она искренне хлопотать из-за чьего-то серванта!), но поскольку прокурора не употребишь, то он и выпадет из сознания. В Яне это естественно, как дыхание, и поэтому в жизни она очень естественный человек. На Яну невозможно злиться даже после очевидной, казалось бы, пакости: она искренне не верит, что сделала пакость, и она искренне относится к вам, ее дружелюбие не вымучено и не натужно, разрыва и противоречия между «как должно» и «как есть» в Яне нет. Для нее есть только то, что есть. Если она и напускает иногда снобизму, то это дань положению ее мужа, но ее собственной природе абсолютно чуждо. Кстати, не зря с ней дружны и Нина Сергеевна, и Каурцева, и жены приятелей ее мужа, и маникюрши, и прокуроры, и закройщицы в ателье. Познакомься Яна с санитаром, который смотрит за буйнопомешанными в сумасшедшем доме, обогрей его светом своей практической женственности — и он окажется вдруг чем-нибудь полезен. Выяснится, что у сантехника на их участке сумасшедшей сестре нужен особый уход, а у Леночки из «Уюта» муж как раз в пьяном виде разбил унитаз, а Елизаровы из дома техники выдают дочь замуж и в «Уюте» собирались отметить, и все пошло бы впрок, уместилось и пригодилось в этой стройной системе. Яна умеет не увязнуть в клейкой патоке обязательств, признательностей и неоплатных долгов. Но не надо думать, что Яна корыстна: она как раз бескорыстна, потому что поступает, как велит ей сердце, что начисто отвергает легенду о коварных приспособленцах, потребителях и эгоистах: коварства тут никакого нет, быть другой Яна и не может.
В прошлом году Яна пообещала устроить Марину в НИИхиммаш и, к несчастью, устроила. (Теперь Нине Сергеевне казалось, что в этом рок замешан, что не устрой они дочь по блату — ничего бы и не было!) когда отпали все варианты и Марина устраивалась в детские ясли, вот так же искренне позвонила Яна и сообщила, что есть место в газовой лаборатории и начальник обещал. Нина Сергеевна удивилась, откуда Яна и его знает, поскольку ни род деятельности Яны, ни профессия ее мужа, казалось, не могли свести их интересы со специалистом-химиком, занимающимся газовыми соединениями. Нина Сергеевна немножко знала этого человека, но знакомство было такое, что он никогда бы не взялся протежировать ее дочери. Но оказалось, Яна с ним накоротке, он даже близкий приятель, потому что книголюб, а Яна подружила его с заведующим книжным магазином, с которым сама недавно познакомилась через заведующего рестораном.
— Они возьмут, нужно только разрешение из горсовета,— бодро консультировала Яна,— несовершеннолетних они не имеют права, но Марину возьмут,— и Яна пустилась объяснять, какими трудами улестила она этого начальника-книголюба.
Честно говоря, Нина Сергеевна была не в восторге от этого звонка, потому что слишком хорошо знала Яну. Яна-то, может, и бескорыстна, да не расплатиться по гроб. Но как ни ломала голову, никак не могла придумать, зачем они могут понадобиться Рохляковым, в созидании какой новой дубленки или серванта. Ведь Яна прекрасно знает, что требовать от них благодарности, кроме «спасибо», все равно безнадежно. Рохляковы, время от времени делая им услуги, без которых не обойтись, чувствовали потом себя вправе попросить Глеба, получить рохляковские деньги по доверенности, потому что Рохляков в отъезде, а самой ей недосуг, или притащить на третий этаж стиральную машину из ремонта, или помочь собрать кухонную секцию для посуды, потому что Рохляков с его гуманитарными наклонностями не умел вбить и гвоздя в стену. Положим, и Глеб не умел — дома. Но у Рохляковых приходилось уметь. Положим, не так все это было трудно — принести машину или вбить гвоздь, попустившись своими какими-то делами, положим, один, два, три раза — это было еще ничего. Но дело в том, что все эти мелкие услуги выплачивались по громадному счету, вроде как место для дочери в НИИ, и сколько ни забивай гвоздей и ни таскай секций, они оставались должны и должны. Да и Рохляковы так чувствовали, потому что в награду не получали ни дубленки, ни бесплатных контрамарок, ни знакомства с нужными людьми, и поэтому использовали их на подсобных работах и побегушках с полным правом.
Зато Яна была верной подругой и дружбы держалась крепко, не то что Каурцева.
Как бы там ни было, со здравой помощью Яны и в результате некоторых комических усилий Нины Сергеевны, Марину действительно устроили. Теперь-то Нина Сергеевна жалела, что дочери приискали теплое место, где Марина могла заниматься ресницами, бровями и прической, небрежно говорить неудачницам-подругам, что она работает в НИИ, и думать о чем угодно, только не о работе. А Янина заботливость воздалась сторицей в том же месяце, когда Рохляковы в милом каком-то легкомысленном разговоре вдруг оба вспомнили к слову, что надо бы Яниного племянника перевести на дневное с вечернего. Нахальство, мальчик не прошел по конкурсу, кругом царит такая несправедливость и произвол. Нина Сергеевна и Глеб поддержали, что нахальство, ведь для них это была такая животрепещущая тема после неудачного абитуриентства Марины. Оба семейства долго возмущались, ругая порядки и даже Министерство просвещения, придумавшего средний бал аттестата.
— Слушай, у тебя же, по-моему, знакомый в медицинском?— вспомнила Яна.— Ты и Светка вместе учились. Как его? Черненький такой был, невзрачный мальчишка.
— Тавянский?— глупо обрадовалась Нина Сергеевна.— Ну да, на кафедре биологии. Мы с ним часа полтора болтали, пока Марина сдавала физику. Кстати, спрашивал о Светке, можешь ей передать.
— Передам, но она его за что-то не любит,— засмеялась Яна,— так, значит, Тавянский его фамилия?
Оказалось, что племянник как раз переводился на лечфак с санфака. Как кстати, что Нина Сергеевна знает Тавянского! И хорошо, что Тавянский ее помнит, с кем попало он не стал бы полтора часа болтать, отрываясь от дел. Нине Сергеевне, к ее великой тягости, пришлось в ближайшие дни ловить Тавянского на его квартире, чему тот был несказанно удивлен, и, ерзая на стуле и отказываясь от предложенного чая, заговорить с Юркой о том, о чем она бы никогда не заговорила, если бы речь шла о собственной дочери. Юрка потерянно бормотал, что постарается, но это сложно, ну и... Собственному сыну он на рекомендовал бы медицинский институт, мальчик собирается в авиаконструкторы, это перспективнее, чем медицина. Сын был похож на молодого Юрку, но мастью в мать, мадам Тявянскую, и, учась в шестом классе, занимал места на математических олимпиадах. Умный мальчик, в папочку пошел...
Юрка Тавянский ничем не сумел помочь в устройстве племянника Рохляковых, они изыскали потом какие-то другие пути. Яна, пожалуй, и сразу не верила, но просто все средства были хороши и все колеса запущены. Подстраховка, если в надежном месте сорвется.
Теперь Яна говорила, что съездит к прокурору, что сами они ничего не сделают. А Марину найдут, ты не беспокойся, этот прокурор, к которому поедет Яна,— мужик стоящий. Нина Сергеевна кивала: да, да, конечно, разумеется. Хотя знала, что Яна никуда не поедет. Да и не хотелось ей, чтобы Яна ввязывалась еще сюда: дело не в одолжении, не в том, что Янина система здесь не сработает, а в том, что это не для них, что не умеют они. Все попытки устраивать что-то «по блату» оборачивались либо комично, либо плачевно, и даже в случае положительного исхода оставался потом ужасный осадок. И тут некстати вспоминалось, что иркутскую квартиру для Марины тоже нашли «по блату». Жизнь подломилась и необратимо шла под откос, и не было объяснения: да чем же и кого они прогневили, чем они хуже людей? Чем хуже той же Яны с ее Рохляковым? Но далеко, какой-то слабой искоркой в сердце мерцало сознание большей вины: не зря это, не случайно и не просто так свалилось именно на их семью. И кто тут мог им теперь помочь — неужели Яна со своими связями или «стоящий мужик», которого нужно «отблагодарить» прежде, чем он начнет разыскивать человека? Нина Сергеевна содрогалась от одной перспективы подобной «помощи». Возможно ли, что судьба их дочери, судьба ее жизни будет поставлена на карту и начнет решаться в зависимости от того, сумеют ли кому-то достать дубленку, сервант или цветной телевизор? Нет, не это поможет, и не об этом нужно думать сейчас. Здесь надо бороться так, как умеют они сами.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





