ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


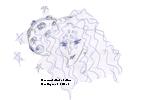
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Коваленко Римма
Томка тогда училась в восьмом классе, и к моей затее встретиться с Трифоном отнеслась равнодушно. «Ты лучше своего отчима разыщи. Он же не погиб, а пропал без вести. Вполне может найтись». Она не была черствой, просто мой отчим и брат моего родного отца Трифон не задевали ее памяти, я ей мало о них рассказывала. О Трифоне вообще нечего было рассказывать, а отчим был таким событием, таким символом моей довоенной жизни, что эрудированная Томка, послушав, изрекала: «Ты, мама, идеалистка». Потом Томка стала и понаивней и поглупей, но в свои пятнадцать лет она знала всё, и знания эти были безжалостны.
— Отчима мы с твоей бабушкой ищем уже двадцать пять лет,— сказала я Томке,— а Трифон сам нашелся.
О том, что Трифон возник из небытия, я написала маме. Раньше я этого имени не слыхала, он был просто «брат». А отца моего мать называла Мишкой. «У Мишки было две сестры и брат,— говорила мне в детстве мама.— Отец твой с ними порвал. Брат был зажиточный, а батька твой — агент уголовного розыска. Такое было время, надо было выбирать, и Мишка выбрал свою работу, на которой помер в двадцать шесть лет». Очень обижалась мама на отцову родню: «Я тебе раньше не говорила, что не была на кладбище, когда Мишку хоронили. Скрыли это от меня. Я в роддоме находилась, вторую девочку тогда родила. А Мишку ночью мертвого привезли. Потом справку дали, что помер от разрыва сердца. А я знала и знаю до сих пор, что его убили. Конечно, мне помогали, но что та помощь, когда двое маленьких детей и сама на работу не могу выйти? Написала письмо Мишкиным родным. Они на кладбище были, но в родильный дом ко мне не зашли. Так и так, написала, ради Мишкиной памяти не оставьте детей его в горе. Рассчитывала, что пригласят они нас к себе или другим чем помогут. Но ответа не пришло».
Сестра моя Маечка, родившаяся в то страшное время, прожила полгода. Перед войной я, мама и отчим приехали в Рогачев, нашли на кладбище, неподалеку от входа, две могилы — большую и рядом заросший шарик с воткнутой в него железной табличкой: «Маечка. Шесть месяцев». На могиле отца никакого обозначения уже не было, и отчим написал рыжей краской на камне, который мы прикатили из-за кладбищенской ограды: «Коваленок Михаил Куприянович. 1904—1930. Сотрудник Рогачевского уголовного розыска». В маминых справках, которые хранились в старом шелковом ридикюле, было написано: «Агент уголовного розыска».
Отчим был командиром Красной Армии, служил и по той поре в редкостных казачьих частях, командовал саперным эскадроном. У других детей отцы росли по службе, заканчивали академии, из лейтенантов дорастали до полковников. А мой отчим выше капитана не поднялся, в какую бы часть его ни переводили, его там ждал саперный эскадрон. Теперь считается, что война началась внезапно, никто ее завтрашнего начала не ощущал. А я помню, как отчим привез меня в далекий от наших мест пионерский лагерь на Смоленщине и спросил: «Тебе можно доверить тайну?» И когда услышал, что можно, дал мне маленький пакетик — сложенные в несколько раз пятьдесят рублей и адрес своих родителей в Челябинской области. «Если начнется война, домой не возвращайся». И удочерил он меня с оглядкой на ту же войну, сказал маме: «Фамилия и отчество останутся родного отца, но если что случится со мной на войне, то ей будет пенсия». Так оно потом и было. Война началась на пятый день моей лагерной жизни. До его родных в Челябинской области я не добралась, попала в детский дом. Мама меня нашла там, и мы двинулись с ней дальше, в эвакуацию, в Сибирь, и Томск,
А через двадцать лет после войны моя мама в третий раз вышла замуж. Томкиному возмущению не было предела:
— Теперь в моей жизни появилось что-то такое, что я должна скрывать от всех.
— При чем здесь ты,— говорила я,— откуда такой эгоиэм, такой неуважение к поступкам старших?
— Тебе хорошо,— Томка обращала свой страдальческий взгляд в потолок,— тебе такое поведение твоей матери даже нравится! Ты сама не прочь выйти еще раз замуж! А я почему должна из-за вас позориться?
В пятнадцать лет Томка была не только мудра и всезнающа, она еще очень боялась чужого неодобрения.
— Что ты закатываешь глаза? И вообще кто ты такая?— Я пыталась поставить ее на место.— Не смей осуждать бабушку! Доживешь до ее лет, тогда суди и ряди.
Но для Томки бабушкины годы в приложении к себе были черным юмором.
— Не смешно,— отвечала она и по-прежнему глядела в потолок. — Как ты не понимаешь, она бросила на мою жизнь тень.
Это же надо было быть такой праведницей. Впрочем, это не Томка бунтовала, а ее естество, природа: молодых — под венец, стариков — на свалку! Но нет, милочка, кончились ваши каменные века и сегодня этот номер у вас уже не пройдет.
— Тебе в самый раз отдохнуть в чьей-нибудь тени,— сказала я,— отдохнуть и призадуматься. Ты меня очень расстроила, дочь моя. Дело не в том, что кто-то тебя опозорил, а в том, что ты отказываешь пожилым и старым людям в праве на счастье.
И плохие и хорошие дети не способны оценить родительского красноречия, даже экспромт-афоризм редко рождает у них восхищение. Но, конечно, есть среди них воспитанные, которые научены соглашаться, умеют благодарить: спасибо, я это учту, спасибо, я постараюсь, спасибо, спасибо. Томка на этот счет осталась недовоспитанной.
— Имей в виду, я летом на каникулы к этому твоему Трифону не поеду!
Все уже быстренько обсчитала: Трифон приедет к нам, значит, ее могут на лето отправить к нему в деревню.
— Какие каникулы? Еще эти каникулы не кончились, а ты уже о будущем лете страдаешь.
А тут еще мама моя подбросила полено в костер наших распрей, прислала письмо: «Ты пишешь, что пригласила в гости Трифона. Не знаю, что тебе на это сказать. Он, конечно, брат твоего родного отца. А с другой стороны, он чужой всем нам человек. Я это пишу тебе для того, чтобы он не наделал тебе лишней тяжести в жизни...»
— Ну что,— спросила Томка,— ты по-прежнему жаждешь тяжестей?
Тяжесть у меня тогда в жизни была одна — Томкина строптивость, ее не знающее жалости сердце.
— Тебе не кажется, что родню надо любить, почитать, ездить к ней в гости?
— За что любить?— спросила Томка.— За то, что в трудную минуту эта родня не протянула руку помощи?
Она знала о Трифоне столько же, сколько и я.
— Вот встретимся и спросим, почему не протянули.
— Зачем? Кому это надо — ворошить старое? Будет скандал, и больше ничего. Ты для этого его зазываешь?
Нет, я никакого скандала не хотела. Я зазывала Трифона совсем по другому поводу. В расстройстве и обиде встретила я день своего сорокалетия: вот так вдруг, думала я, оборвалась и закончилась моя женская жизнь. Утешает, конечно, мамина история, ее замужество в поздние годы, но такая доля одна на тысячу, а может, и на миллион. Меня в жизни уже ничто такое не подстерегало, ни за каким углом. Пора, думала я, отказаться от молодых замашек, ярких платьев, пора уже стать Томке настоящей матерью, а не набиваться ей и подруги. Пора, пора, пора. Но ничего не утешало. И что может утешить, если вчера все-таки тридцать девять, а сегодня, как молотком по голове,— сорок?
И вдруг, как знак с того света, белый конверт с адресом, написанным детской рукой. Той же рукой — и письмо. «Здравствуй, дорогая племянница! Пишет тебе дядя Трифон, старший брат твоего отца Михаила...» Диктовал дядя Трифон свое письмо, совсем не предполагая, что кто-то может такому посланию возмутиться: объявился, понадобились. Я ему действительно понадобилась: Трифон хлопотал о пересмотре своего пенсионного дела, и я должна была сходить в канцелярию Президиума Верховного Совета и объяснить им все на словах, так как «по писаному» они там понимали все шиворот-навыворот». В общем-то, поручение не очень сложное, если бы у Трифона «по писаному» можно было хоть что-нибудь понять. Например, дитя, писавшее письмо, выкрутило такую фразу: «Имея партизанскую медаль, можно зачесть, как трактор, находящийся в ремонтных работах».
Об этом я и написала в ответном письме: мол, многое непонятно, и не сможет ли он сам приехать в Москву, если, конечно, позволяют здоровье и прочие обстоятельства. Трифон ответил быстро, прислал открытку, написанную собственной рукой: «Приеду летом. Узнай, где можно пожить, если у тебя нету места. Отпиши, чего вам привезти, кто муж, сколько детей, в чем нуждаетесь. Мы живем хорошо, имеем всего в достатке. Трифон». Я разволновалась: людей уносят войны, болезнь, старость, а тут жив, еще жив родной брат отца — и как на другой планете! Томка, посоветовавшая лучше разыскать отчима, чем встречаться с дядей, не протянувшим в трудную минуту руку помощи, получила свое. Я ей объяснила, что такое родня, что такое человечность. И Томка притихла. Я не знала, надолго ли приедет в Москву Трифон, не знала и дня приезда. Он написал: приеду летом, но лето давно уже было в разгаре, заканчивался август.
Он приехал второго сентября. Явился без телефонного звонка, без телеграммы и вынужден был с утра до обеда просидеть на скамейке возле нашего подъезда. Скамейка в погожие дни не пустовала, и, по словам Томки, которая, возвращаясь из школы, узнала его издали, «Трифон сидел среди старух, как царский солдат из сказки». У дочери моей был глаз: щуплый Трифон в своих белых полотняных штанах, сапогах и зеленом френче действительно чем-то напоминал старинного вояку. И лицо у него было, как после дальнего похода, обветренное, в колючей щетине. Голубые выцветшие глазки, умевшие вспыхивать и гаснуть, тонули в омуте морщин. Он мне не понравился: что-то совсем не родственное, словно подменили в дороге, прислали взамен чужого дядю.
Я привыкла к образу отца. У мамы хранились его фотографии. Я знала даже отцовский характер, чувствовала его в себе. Веселость, безалаберность, щедрость, жившие во мне не постоянно, а проступавшие как-то вдруг, рывками,— это отцовское, считала я. А тут явился человек, совершенно мне непонятный. Посидел с нами за столом, почти ничего не съел, выслушал мой сбивчивый отчет о жизни, ничего о себе не поведал и ушел. Вернулся поздно, Томка уже спала, а я ждала его, беспокоилась, была уверена, что он заблудился или попал под машину. Надо было сразу ставить его на место, чтобы впредь не шлялся до ночи, не доставлял беспокойства.
— Трифон, вы, пожалуйста, говорите, куда уходите. Я уж о чем только не передумала, ожидая вас. И вообще Москва город сложный, а годы ваши немолодые, а я все-таки за вас отвечаю... Давайте договоримся, что больше такого не повторится.
Он молчал, глядел на меня словно заплаканными, а может быть, и пьяненькими глазами и не испытывал нужды заговорить. Досада переполняла меня.
— Я вас так ждала. Я ведь совсем не помню отца. А вы его брат. Рассказали бы мне о нем.
Сырые, с покрасневшими веками глаза Трифона замерцали, погрузились в воспоминания, и он сказал глуховатым голосом медленно и торжественно, словно поведал нечто неслыханное:
— Он был хороший человек. Звали его Михаил. Он был четвертый. Старшой я, за мной две сестры, а потом уж он.
— А сестры живы?
Трифон долго глядел на меня, глаза уже не мерцали, он не вспоминал, может быть, он удивлялся, как это можно было задать такой вопрос.
— Куда столько жить. Это я зажился.
Я приготовила ему ванну, но он отказался: «В другой раз». И к тахте в проходной комнате, где я ему постелила, не прикоснулся. Выпил чашку чая и замер. Сидел за столом в нашей маленькой кухоньке, дремал и клевал носом. Клюнет и проснется, потрет ладонями виски и опять замрет, пока голова не сорвется вниз. Я долго за ним наблюдала, но так и не дождалась, чем это кончится. Утром увидела: Трифон спит на узком и коротком половичке-подстилочке, на подушке в синей наволочке,— все это было привезено им из дома,— а укрылся своим светло-зеленым френчем. Ровненько так, непримято лежал на нем френч, что даже страшно стало: жив ли под ним старик. Томка вышла в ночной рубашке и воззрилась на эту картину. Потом, когда мы завтракали, сказала шепотом:
— Это специально нас вымачивает. Чтобы мы на коленях перед ним ползали, упрашивали. А ты не замечай. Хочет валяться на полу — и пожалуйста.
Мы покинули дом: Томка пошла в школу, я на работу. Трифону была оставлена записка с подробным расписанием, как ему жить без нас, но он вроде не читал записку. Еда была не тронута и в ванной следов не оставил. Сложил свою постельку, положил ее в прихожей поверх своего чемодана и ушел. И опять я ждала его до ночи. Звонили подруги: «Ну как, объявился?» Я уже успела порассказать направо и налево о приезде странного деревенского дяди. «Нет, не объявился,— отвечала я,— но это он в последний раз меня испытывает. Сегодня приведу его в порядок».
Он, видимо, долго стучался, я уснула и, вскочив, не могла сразу сообразить, кто это за дверью так вежливо и настойчиво постукивает.
— Впустила все-таки,— сказал Трифон,— а я уж хотел к соседям на постой проситься.
Я была недовольна.
— Надо было звонить. У нас звонок. А лучше всего вовремя приходить. Я же вас об этом просила.
— Просить, так и тестом брать,— ответил Трифон. Смысл этого «теста» был понятен, дескать, сама пригласила, попросила, так теперь бери что дают и не ропщи, что вместо хлеба тесто. Не так уж он был от старости ветх и прост, этот мой дядя.
— Трифон, миленький, надо поесть, надо принять ванну, надо помнить о своем возрасте и о том, что кто-то беспокоится, ждет, места себе не находит.
Трифон был в эту ночь кроток и разговорчив.
— А я в бане вчера был. Как сошел с поезда, так и поехал на трамвае в баню. А мыться каждый день вредно. И наедаться к ночи нельзя. Неужто у вас в Москве этого не знают?
У нас в Москве знали много чего, но и Трифон свое знал крепко.
— Почему на тахту не ложишься?— Я перешла на «ты», так легче было укорять его.— Хочешь хозяевам облегчение сделать, а на самом деле только им сердце рвешь. Они к тебе всей душой, а ты обижаешь.— Уж я старалась: и «облегчение» и «сердце рвешь» — все это откуда-то выплывало специально для Трифона.
— А ты поспокойней,— посоветовал он,— не митусись, береги сердце, я же не какой-нибудь гость, я тебе по отцу дядя. Слыхала: уродил тебя дядя, на себя глядя?
Не похож он был на веселого старика, сыплющего пословицами и поговорками, да и звучали они у него серьезно, обдуманно, не для смеха. Легко сказать: не митусись, береги сердце. А мое сердце в ответ дернулось и заболело, будто в него воткнули что-то острое. «Не митусись»,— говорила до войны бабушка. Пекла блины и отгоняла меня от печки: «Не митусись. Имей терпение. Никуда твои блины не денутся, на базар я их не понесу». Никогда Трифон не ныл, не видел мою бабушку, а слово ее принес.
— Трифон, расскажи мне об отце. Что-нибудь из детства. Что угодно, что помнишь.
— Думаешь, поеду назад и ничего тебе рассказать не успею? Я еще тут поживу.
В ту ночь он спал на тахте. Я застала утром Томку стоящей возле него. Руки сложены на груди, голова набок, и на лице молодая враждебность пополам с любопытством. Кем же она ему доводится? Двоюродной внучкой?
— Можешь говорить вслух,— сказала Томка,— он ничего не слышит, спит как сурок.
— Не обольщайся,— ответила я шепотом,— у стариков собачий слух.
— Так это же у стариков,— фыркнула Томка,— а Трифон гуляка. Приходит домой на рассвете, а мы тут не дышим, ходим на цыпочках.— Ей понравилась выдумка — дед-гуляка, и она, давясь смехом, стала разрабатывать эту свою выдумку: Трифон ходит на танцы, а потом провожает свою древнюю барышню на метро в Зюзино...
В первые дни Томке больше, чем мне, доводилось сталкиваться с Трифоном. Вернувшись из школы, она разогревала, а то и готовила обед, и они вместе ели, а уж вечером, оттачивая свое остроумие, Томка рассказывала.
— Трифон прекрасен. Спрашивает: нельзя ли тут прогноз медицинский насчет себя навести? Боится умереть в Москве. Я, говорит, тут у вас на любом кладбище затеряюсь. А у нас на кладбище все на виду. Да и везти меня, мертвого, отсюда влетит вам в копеечку. Как тебе это нравится?
«Это» меня пугало, а Томка веселилась.
— В кого ты такая бессердечная?— спросила я.
Томка дернула плечом.
— Да уж в кого-нибудь из известных лиц, может быть, в тебя или даже в Трифона, зигзаги наследственности неисповедимы.
Трифон у нее в долгу не оставался: не считался с ней и, что всерьез обижало Томку, в глаза и за глаза называл ее «девкой». Даже когда хвалил: «Молодец девка!» Не брал их поначалу мир, но жизнь складывалась так, что все больше и больше он зависел от Томки. Она его кормила, и обстирывала, и письма домой писала под его диктовку, и телевизор они часто смотрели, сидя на тахте плечо к плечу. Единственное, через что она не могла перешагнуть,— это через его деревенское обличье. Поэтому на улице или в магазине Томка к Трифону не подходила, и подружки ее перестали у нас бывать. Томка стыдилась такого наглядного своего невысокого происхождения. Трифон это заметил и сказал мне:
— Ты своей девке скажи, чтоб не шарахалась от меня. Я не полицай какой, чтоб от меня на людях заворачивать.
— Неужто от полицаев в войну отворачивались, показывали им свое отношение?— спросила я.
— Почему в войну? В войну никуда не денешься, какое задание в отряде дадут, такое и сделаешь. Надо будет — и выпьешь с полицаем, самогонку из-под земли раздобудешь. После войны от них люди отворачивались.
Этого я не понимала. Убийцы, предатели, а им всего-то наказания, что людское презрение.
— Убийцы получили свое,— сказал Трифон,— эти не вернулись, а которые получили по десять да по пятнадцать лет, те вернулись.
Ничего не рассказывал Трифон о брате своем, моем отце, и о сегодняшней жизни своей в деревне бекал и мекал, ничего мы у него понять не могли. Зато война в нем жила, как выученная наизусть пьеса. Рассказывая, он менял голос и даже по-молодому поднимался со стула и жестами дополнял слова. В партизанском отряде он сначала был связным, поскольку был уже тогда немолодой, но скорый на ногу. Жена его умерла перед войной, детей у них не было, сестры были простыми колхозницами. «Правда, Михаил-братец мог меня подкузьмить. Он числился в уголовном розыске, а как тогда была коллективизация, так весь этот розыск был пущен по всей области на митинги и собрания. И его люди помнили».
Я со страхом поглядывала на Томку, боясь, что она каким-нибудь вопросом прервет рассказ, и опять заикнется Трифон, опять из него слова об отце не вытянешь. Но зря боялась, когда Трифон говорил о войне, всплывала и его довоенная жизнь, и родные люди: бабушка моя и дед с отцовской стороны, незнакомые мне двоюродные братья и сестры.
— Отец твой был выскочка. Уж он, останься жив, большого бы достиг. Плисовый пиджак, ремень через плечо, наган в кобуре на боку. И сапоги с галошами. И как раз он в этом во всем на карточке. А карточка на стене под стеклом была вместе с другими. И заходит, значит, этот полицай Панкрат. Что ж это, говорит, брат твой так ни разу за столько годов к нам не заявился? Видать, высоко залетел? А сам глаза в карточку за стеклом. Имей в виду, говорит, могу тебя в любую минуту, как старшего брата коммуниста, щелкнуть.
Панкрат был не только полицаем, но и соседом по улице, знал всю подноготную Трифона. Служил он в райцентре, но домой наведывался отдохнуть, попьянствовать. И тогда издевался над Трифоном, как хотел. Однажды повел его в лесок расстреливать. И хоть не верил Трифон, что вот так возьмет и застрелит его сосед, но стоял под дулом обреза с мокрой от пота спиной. И даже, когда рассказывал, побледнел.
— Это же такая дурнота, что нажать ему курок — ничего не стоило.
— А он знал, что ты партизан?— спросила Томка.
— Не знал он ничего. И вообще он о партизанах разговоров в деревне не вел, побаивался. Он как бы дом свой проведывать приходил, ну и напивался как свинья.
После войны Панкрат получил десять лет и («знаешь ведь, как время летит») вернулся в родные места «сытый, морда горшком, здоровей здорового». Но поселился уже не в родной деревне, а в соседней. Вот там и отворачивались от него люди.
Мы с Томкой расстроились ужасно.
— Лучше бы ты, Трифон, всего этого нам не рассказывал. Он тебя на расстрел водил, измывался, а ты его наказал — личико отворачиваешь.
Трифон замкнулся, долго молчал, потом сказал:
— Его закон судил. Что я мог?! Взять ружье да и его в лес погнать?
Томка не приняла такого ответа.
— Взял бы и сказал ему в лицо: живешь, гад, а другие, лучше тебя, погибли!
— Это он сам знал,— сказал Трифон,— подох уже в прошлом годе.
Трифон по-прежнему пропадал где-то целыми днями. У него уже были ключи, и я не ждала его по вечерам. И все-таки мы от него устали. Он лишил нас привычной домашней жизни. Но это еще ничего, хуже было то, что мы все время жили в напряжении, словно с Трифоном вот-вот должна была случиться какая-нибудь беда. Томка даже однажды решила выследить его: куда ходит, с кем общается? Я не разрешила. Маршруты Трифона в общих чертах мне были известны: рынки, парки, бани, метро. Возможность хоть целый день за пятак раскатывать под землей казалась ему чудом. Был уверен, что не одинок, что половина пассажиров часами раскатывает туда-сюда за малую пятикопеечную цену. На рынках его интересовали киоски, в которых продавались уцененные товары. Трифон притаскивал бракованные телогрейки, у которых рукава торчали под прямым углом, стеганые ватные штаны, капроновые яркие косынки, жуткие от своей стародавности женские сумки. Раскладывал все это на полу и тахте, покрякивал и посмеивался от своей торговой удачливости. Иногда восхищение вырывалось из него: «Глядите! Новенькая кацавеечка, а цена — рупь. Если только пуговицы срезать и продать, этот рупь спокойно вернешь». Нет, он не спекулировал, он отправлял в свою деревню весь этот довольно объемистый груз. Мы были в курсе его коммерческих дел, потому что однажды он продиктовал Томке: «Кацавейки лишь бы кому не раздавай. А таким, как Лексей, даже не показывай, чтобы он зубы не скалил. Я ему сапоги пошлю. А кацавейки — старухам. И пусть носят, а не берегут для того света...» Когда он уехал, мне в одном из киосков попались на глаза такие вот, уцененные, телогрейки. Цена на них была — шесть рублей, и были они, пожалуй, похуже тех, что приносил Трифон. Видно, он был не только деятельный, щедрый, но еще в делах и удачливый.
Очень не любил наших гостей. Томкиных подружек просто выпроваживал: «Гуртовое — дурновое. В школе гуртом учитесь, а дома по одному надо в книжку глядеть. И полы дома пусть каждый свои топчет. И руку надо запускать в свой холодильник». Девочки-восьмиклассницы, не слышавшие в своей Жизни ничего подобного, не на шутку обижались. Томка была в отчаянии.
— Мама, у него не советские взгляды на жизнь. Все скупает, тащит, вообще надо его проверить. Может оказаться, что мы с тобой доверчивы как овцы и он никакой не брат твоего отца. Он на него и не похож ни капельки.
Кто был братом моего отца, так это Томка, следовательские таланты так и рвались из нее.
— Томочка, закончишь школу и пробивайся в юридический или в школу милиции. Уголовный розыск плачет по тебе.
— Не исключено,— отвечала разгневанная Томка,— но перед этим мне придется поменять школу. Ты ничего не знаешь, а я терплю кошмар какой-то каждый день. Знаешь, как они шутят? «Приехал дядя и повесил им замок на холодильник». «А Томке, своей внучке, купил стеганую кацавеечку».
Она его все-таки выследила. Дождаться меня дома не смогла, пришла на работу.
— Мама, если ты не умеешь глядеть вперед, то хотя бы слушайся других.
«Другими» была она, я должна была ее послушаться: выпроводить Трифона домой, пока не поздно, пока он здесь не женился и не привел к нам в дом старушку супругу. Томка так и выразилась «старушку супругу». О чем-то в этом роде подумывала и я: Трифон приободрился, стал долго по утрам бриться, вопросительно поглядывал на телевизор, когда передавали классическую музыку, и задумывался, глядя в угол. В это время на ногах у него появились трехцветные разношенные туфли, которые он где-то подобрал, продаваться такие не могли. Трифону поздно было жениться, тем более приводить старушку супругу в чужой дом, в этом я была с Томкой согласна, но это совсем не означало, что моя дочь должна была этого бояться.
— Ну и приведет супругу,— сказала я,— что это ты так воюешь против стариков. Ни жениться, ни выйти замуж они у тебя не имеют права.
Томка притихла.
— Как хочешь,— сказала она,— я предупредила, а ты как хочешь. Только потом, мамочка, не кусай себе, пожалуйста, локти.
— Постараюсь,— ответила я,— а ты потом не красней, когда вспомнишь, как хотела его выпроводить.
Доброту и широту души надо в детях воспитывать с раннего детства, но это, наверное, хорошо получается у тех, кто сам терпелив и добр с людьми. Моего терпения еле-еле хватало на Трифона. Я не верила Томке, что он собрался жениться, и все равно нельзя так заживаться в гостях. Через несколько дней спросила у нее, с чего это ей померещилась женитьба Трифона. В ответ Томка подробно обрисовала мне ту часть Измайловского парка, где увидела Трифона в «объятиях хитрющей старушки». Они, вместе с другими стариками, танцевали под баян фокстрот.
— Но почему ты решила, что он собрался жениться на ней?
— Потому что я точно выяснила: туда за другим не ходят,— ответила Томка.
Каждый вечер собиралась я завести с Трифоном разговор об отъезде. Но ничего не получалось. Трифон упорно не желал понимать моих намеков. Дни его были разнообразны, видимо, Измайловский парк не так много занимал места в его жизни. Но вот позвонила в дверь соседка и, отказавшись войти, у порога сказала:
— Знаете, а ваш старичок торгует грибами.
— На базаре?
— У метро «Электрозаводская», в тоннеле, где выход на электричку.
Томка была дома и подала голос:
— Продавать грибы никому не воспрещается!
Соседка смутилась.
— Я просто поставила вас в известность. Очень уж он старенький.
Может быть, она думала, что Трифон с грибами в тоннеле бросает тень на нас, вроде мы его плохо кормим, вот он и вынужден промышлять. А тут еще, в тот же день, пришло письмо из его деревни. Оно было адресовано мне и написано знакомым детским почерком. «Здравствуйте, дорогая родственница. Как вы живете, как ваше здоровье? У нас урожай идет к концу. Осталась только картошка и бураки, уже и яблоки собрали. Если Трифон думает чего запасти к зиме, то пусть приезжает. Да и надоел он вам, хватит. Когда человек гостеприимства не понимает, его не надо спрашивать, а надо ему сказать: погостил и знай честь. Скажите ему, что Лексей мотоцикл разбил, за ремонт назначили восемьдесят рублей. Но он его вроде будет продавать. Так что если Трифон хочет вернуть свои деньги, то пусть в Москве не засиживается, а едет домой...» Письмо было без подписи, но этот кто-то, оставшийся неизжитым, не просто звал Трифона домой, а настаивал и при этом сердился. Второе письмо, тоже адресованное мне, пришло назавтра и уже кипело гневом. «Если человек готов за сладкий кусок променять все свое, то такому человеку грош цена. Скажите Трифону, пусть не дожидается, когда я приеду и погляжу ему в глаза. Если он за своей старостью все подзабыл, то пусть хоть вспомнит басню про стрекозу и муравья. Разъясните ему, что он и есть та самая стрекоза, которая не думает о зиме. А его деньги с Лексея я востребовать не буду. И все его кацавейки, платки и сумки, что поприсылал, повыкидываю на двор. Пусть едет домой. Писем моих ему не показывайте, скажите своими словами».
Я сказала своими словами:
— Лексей жив-здоров, а мотоцикл свой покалечил.
Трифон поднял голову, уставился мне в глаза, и я увидела, что больше мотоцикла его сейчас интересует, откуда я знаю про Лексея.
— Письмо он написал, что ли?— спросил наконец Трифон.— Так письмо положено давать тому, кому написано.
— Кто-то другой письмо прислал. Без подписи. Мне прислал. Пишет, что все скучают по тебе. А Лексей будет продавать мотоцикл. И тебе надо на месте быть, чтобы деньги с него взять.
Трифон опять о чем-то долго думал.
— Я Лексею сто рублей дал. Так дал, без отдачи. Зачем же я буду их назад брать? И еще я ему отсюда сапоги послал.
Брать назад подаренные деньги не годилось, я была с ним согласна. Но сколько же он собирался у нас жить? То ли раздражение, то ли обида вдруг захлестнула меня: мать моя с двумя малыми детьми, несчастная, овдовевшая, обратилась за помощью, так они даже на письмо не ответили. И сейчас: грибы продает, а нам хоть бы грибочек принес. Я спросила: кто такой Лексей? Оказалось, сын племянника, «внучок», так пояснил Трифон. Такой же внучкой была ему и Томка. Я сказала об этом Трифону.
— Томка у тебя девка хорошая, самостоятельная,— ответил Трифон,— вникает в жизнь, хочет в ней разобраться.
Его слова наполнили меня радостью: неужели Томка на самом деле такая? Но тут же я сказала себе: не ликуй, это самая беспробойная лесть — похвалить ребенка, Трифон не так прост.
— Ты не думая говоришь такое, Трифон, а я вся в беспокойстве: что с ней будет, как ее жизнь сложится?
И тогда Трифон сказал мне те слова, которые я не сразу, а много лет спустя оценила:
— Ты о себе думай. Как тебе будет в жизни, так и девке твоей будет.
Осень в том году затянулась. Стояли теплые солнечные дни, не верилось даже, что скоро уже холода. Но листья почти уже все опали, на голых деревьях блестели серебряные нити. Люди ловили эти последние погожие деньки: просушивали на балконах одеяла и ковры, варили из яблок варенье, рубили в засол капусту, и запахи в московских дворах стояли домашние, деревенские. И еще в эти дни неслись с балконов песни Высоцкого. Трифону эта жизнь нравилась: он сидел в глубине балкона на низкой скамеечке и вслушивался в музыку и голоса. Томка, забыв, что совсем недавно настраивала меня против Трифона, говорила: «Иди посмотри, какой он симпатяга» — и несла на балкон свое старое зимнее пальто, набрасывала ему на плечи. Туда же она приносила кружку с горячим чаем и хлеб с колбасой. Трифон брал хлеб как-то странно, прикрывая его ладонью, держал колбасой вниз и откусывал, пригибаясь, словно боялся, что кто-то этот хлеб увидит. Томка однажды спросила:
— Что ты так ешь, будто от кого-то прячешься?
Трифон ответил:
— Так, правильно сказала, прячусь. От партизан своих ховаюсь.
— Боишься, что отберут?
— Боюсь, что увидят. Стыдно мне, девка. Столько вот живу, всех пережил. Хлеб такой ем, с московской колбаской. А они, мои горькие, не просто поумирали, а в голоде и холоде. И страху хватили.
Он уже не ходил в Измайловский парк, и грибы в лесу кончились. Но где-то иногда пропадал днями, являлся поздно, готов был разговаривать со мной до утра, но только не о том, где был, что делал. Пенсионные дела, из-за которых он пожаловал в столицу, его уже не интересовали.
— Я свою пенсию на книжку складываю, она мне туда сама идет, а потом, как помру, вся родня меня и вспомнит. Всем по завещанию выделю. А теперь, посколькy у меня на книжке денег много, мне каждый рад. Так человек устроен: старого только тогда любят, когда у него деньги есть.
Это было что-то новенькое. Выходило, что и мы с Томкой рады были ему, рассчитывали на наследство. Но деньги у Трифона были и наличные. Где же он их брал? Не спекулировал же своими кацавейками.
— Трифон, если пенсия на книжку идет, откуда же тогда у тебя деньги? Ты ведь и на транспорте разъезжаешь, туфли вон себе купил, посылки домой шлешь.
Трифон поглядел на меня подозрительно: счет ведешь?
— Так я же зарабатываю,— ответил он все с тем же недоверием на лице,— и дома, и здесь у вас работаю и зарабатываю.
— Где же ты работаешь?— Я понятия не имела, где мог заработать старый деревенский человек в большом городе.
— А где понадоблюсь,— ответил Трифон,— там и работаю. Вот хочешь, на твоих глазах в магазин твой подойду и заработаю рупь?
«Мой» магазин был гастрономом с вечной вывеской: «Нужны продавцы, кассир, грузчики».
— И ты таскаешь тяжести? Трифон, ты им там таскаешь мешки и ящики?
Трифон покачал головой: нет.
— Я им как сторож. Чтобы сами у себя ничего не украли.
Это было что-то очень сложное, я потребовала объяснения. Трифон не хотел рассказывать, я не отставала, и он, на вздохах, явно против своего желания, рассказал:
— Не все надо в жизни знать. Есть такое, чем меньше знаешь, тем лучше живется. Вот пришла машина с продуктами. Разгрузить ее — полдела. Надо еще, чтобы все из машины в магазин попало. Ну и стоит заведующий, смотрит. А как его куда вызовут, да и мало ли у него делов. Тут и счастье, когда под рукой подходящий человек.
— И ты им для этого подходишь? Воры с тобой считаются?
— Я медаль свою на грудь вешаю, они меня боятся. А беру с них дешево — рупь.
Он оглушил меня, никогда не думала, что старый мой дядя найдет себе такой заработок.
— Трифон, неужели в каждом магазине можно рубль заработать?
— Про все магазины не скажу. Их вон сколько, я в каждый двор не заглядывал.
А дома у нас ситуация поменялась. Сейчас я задавала вопросы, когда он уедет и уедет ли вообще, а Томка меня останавливала. Она прониклась к нему прямо какой-то материнской заботой. Прихожу с работы, она стрижет Трифона. Тот сидит, приставив к груди газетный лист, и на него падают легкие, как перышки, седые прядки. То она сажает его на диету, варит многослойные, из разных круп каши. Но все это урывками, играя. А вообще Трифон к концу своего пребывания был у нас заброшен. Я уже не ждала его по вечерам, не отправляла в ванную. С обидой думала: у него есть деньги, одаривает родню, а у нас с Томкой даже не спросит: как вам, девки, живется? А должен бы видеть, что не роскошествуем, что еле-еле. Сейчас сердце болит, как вспомню, а тогда действительно обижалась на Трифона: уж если ты отцу моему был старшой, то мне и дочке моей будь тем более. А он о своем старшинстве забывал, жил, мне казалось, как ребенок.
Приводит однажды в воскресенье мужчину. Лет под пятьдесят, лицо круглое, волосы на голове короткие и торчат, как у ежа. Представился: Виктор. Томка шепнула мне на кухне: «Взломщик. Одна надежда, что вглядится в наше «богатство» и не станет связываться». Оказалось, шофер. Одинокий, имеет комнату в коммунальной квартире. Это мне сразу было сказано, чтобы ясность была, не на квартиру его привели устраиваться, не в квартиранты. Томка в магазин сбегала, пряников принесла, еще чего-то к чаю. Стол в комнате накрыли, не на кухне: неизвестно, что за человек, но все-таки гость Трифона, первый и единственный, надо уважить. Сели за стол, и вдруг этот гость Виктор идет в коридор и приносит оттуда сало, колбасу, курицу импортную и рукой машет, отвергая все возражения: мол, чего там, берите, берите. Я глянула на Трифона: прямо умирает от счастья, какого щедрого гостя привел. И Томка мне подмигнула: порядок, это нам сгодится. Пришлось взять продукты, отнести в холодильник. Гость сразу себя почувствовал лучше, разговорился, порывался несколько раз еще нырнуть в коридор, видимо, у него там имелась бутылка, но Трифон не позволил. Когда Виктор, просидев до вечера, наконец-то удалился, я спросила Трифона:
— Ты его хорошо знаешь?
Трифон ответил уклончиво:
— Хорошего человека сразу видно.
— Где же ты с ним познакомился?
— Мы, мужики, не знакомимся. Подошел, заговорил — вот и все знакомство.
Я не случайно насторожилась: посреди недели Виктор появился вновь. Меня дома не было, Трифона тоже. Виктор вручил Томке пакет с продуктами и, как доложила Томка, «передал мне привет и массу наилучших пожеланий». Я расстроилась: это уже было ни на что не похоже. С какой стати такие подношения? Трифон, когда явился, в ответ только посмеивался.
— Тебе разве плохо? Ты радуйся. Много тебе кто за так в жизни чего давал? А с другой стороны: не дорог подарок, дорога любовь.
Любовь Виктора росла не по дням, а по часам. Каждый вечер он сидел у нас. Я опасалась его, меня пугали его подношения, была уверена, что он имеет какое-то отношение к магазину или складу и там это все крадет. Снял с меня опасения Трифон:
— Сватается к тебе Виктор. Неужели такая пробка, что сама этого не видишь?
— Да, именно пробка, представь себе, ни сном ни духом такого не предполагала. Томке, пожалуйста, не говори. Не втягивай ее в эту ерунду.— Я боялась Томкиного смеха и того, что она кому-нибудь об этом расскажет.
— А что тебе девка? Она сама скоро вырастет, жениха себе найдет. Думаешь, ты ей очень нужна тогда будешь? У тебя ведь даже рубля не прикоплено. И в няньки ты ей не сгодишься — работаешь.
Он нес неизвестно что.
— Ты соображаешь, о чем говоришь?
— Не пара, значит, он тебе?
— При чем здесь «пара»? Это вообще дикость. Даже в деревнях давно уже так не женятся.
— Много ты про деревню знаешь! Это молодые так не женятся, а перестарки только так.
Вот и дождалась: перестарок. Все правильно. Но не надо с ним спорить: чем больше слов, тем глубже увязнешь, а его переучивать поздно.
Я решила поговорить с Виктором, но не так-то оказалось это просто. Он глядел на меня разнеженными глазами, и весь его вид говорил: ты ведь совсем по-другому думаешь, это тебе, как женщине, положено таким вот образом набивать себе цену. Наконец и Томка поняла, зачем он приходит.
— Мамочка, только не умри от смеха, но этот Виктор влюбился в тебя.
И очень удивилась моему печальному ответу:
— В том-то и дело, что не влюбился. Просто решил жениться.
— На тебе?!— Глаза у Томки вспыхнули, как у рыси.— Весь мир сошел с ума. Ты хоть замечаешь это?
— Мир в порядке,— сказала я ей,— а вот ты о чем хлопочешь? Где это ты вычитала, что бабушке замуж выходить поздно, Трифону вообще нельзя, а мне — это уж лучше пойти и утопиться?
— Ну, мама...— Томке нечего было сказать, в таких случаях появлялось это капризное «ну, мама».
В дверях кухни появился Трифон. Кажется, слышал наш разговор.
— Ты, когда с матерью разговариваешь,— сказал Томке,— слова считай. Мать десять слов сказала, значит, тебе можно сказать одно. А ты,— обратился он ко мне,— если добра себе не желаешь, если хочешь продолжать жить, как верблюд, то и продолжай. А Виктор себе жену найдет. Ты на его счет будь спокойна.
И он действительно вскоре нашел. И, что поначалу очень смущало меня, в нашем подъезде. Трифон с прискорбием мне доложил:
— Хорошая женщина, работает на фабрике, имеет сынка и мать-старуху. Теперь все будут сыты, одеты и обуты.
Свадьбу сыграли в декабре. Трифон был приглашен. Отнес в подарок уцененный подсвечник. А перед Новым годом он от нас уехал. В один час, будто пронзило его какое-то воспоминание, забеспокоился, засобирался, попросил меня составить телеграмму и назавтра утром уехал.
Утро было метельное, ветром поднимало сыпучий снег, мы вышли из такси, и я вдруг увидела, как стар Трифон, как он плохо по такой поре одет, и еще подумалось, что, наверное, я его никогда уже больше не увижу. Трифон почувствовал мои мысли и, когда мы вошли в здание вокзала, сказал:
— Приеду и помру, а ты уж тогда не поминай меня лихом.
— Ну что ты за человек, Трифон,— рассердилась я, — разве можно так говорить?
— Можно. А что я за человек, это, когда умру, узнаешь.
Потом уже, когда вошли в вагон, поймав мой взгляд, вдруг сказал:
— Твоя мать зря на меня зло держит. Не мог я ей тогда помочь. Заарестовали меня. Твой отец Мишка приехал и заарестовал. Мельница у меня была. Вот за эту мельницу и повез он меня в кутузку.
— Мой отец тебя арестовал?
— Твой отец — еще бы ничего. Брат мой меньшой меня заарестовал. Не могли, поганцы, другого кого послать для такого дела.
Я не знала, что сказать, и спросила:
— А потом тебя выпустили?
— Потом выпустили. Как Михаила убили, меня вроде как за него помиловали. Решили: очень им там будет весело вдвоем, на том свете.
— А кто его убил, Трифон? Как он погиб?
— Э, девка, кто же это теперь тебе скажет. Враги убили. Кто ж еще убивает...
Перед отходом поезда он пожал мне руку и сказал:
— Зря ты от Виктора отвернулась. Я тебе его по всей Москве искал.
Что Трифон умер, я узнала из маминого письма. Он умер вскоре, как вернулся к себе. Мама писала, что остались у него деньги на книжке, но завещание было оформлено неправильно, прямых наследников не оказалось и деньги отошли государству. Томка прочитала письмо и так плакала, так рыдала: «Помнишь, какой он был? Старенький, слабенький, а мы считали: ну и что, что старенький...» Во дворе Трифона знали многие, но о том, что он умер, я сказала только Виктору. Встретила его возле магазина и сказала:
— Письмо получила. Умер Трифон.
Виктор остановился, как запнулся, поднял тяжелую сумку с продуктами и прижал ее к груди.
— Сколько же ему было?
Я смутилась: сколько же было Трифону? Но ответ нашелся:
— Да за восемьдесят. Отец у меня девятьсот четвертого, а Трифон — старшой.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





