ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
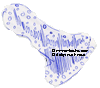

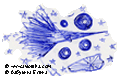
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Катасонова Елена
Памяти О. О. Маркова,
актера Куйбышевского театра
1
Пароход уходил по темной воде все дальше от города, стараясь, чтобы как можно тише стучало его гулкое сердце. Там, на берегу, бухали зенитки, взлетали и лопались красные, как кровь, ракеты. А он шел упрямо и молча, при погашенных огнях и задраенных иллюминаторах, увозя с собой хмурых женщин с тревожными глазами и перепуганных ребятишек, которым велено было не бегать и не шуметь, а сидеть тихо. И они сидели, прижимая к груди тряпичных кукол с болтающимися большими ногами и коробки с солдатиками, и смотрели на город, которого не было видно.
Он отправлял их от себя подальше — туда, где не стреляют. Теплое летнее небо сияло луной. Это было плохо для парохода, и потому никто ею не любовался. Взрослые враждебно косились на предательскую серебряную дорожку, а малыши закрыли глаза и уснули, устав от суматошного дня, убаюканные дрожанием палубы, запахом воды, свежестью и прохладой. Широкие лопасти, шлепая по воде, переламывали дорожку, поспешно уничтожая ее, луна рассыпалась светлыми брызгами, а потом, успокоившись, снова ложилась на воду — там, далеко, за кормой парохода.
Аленка успела сунуть котенка за пазуху — в шуме и суете, когда потерявшая голову мать бросалась то к шкафу, то к вешалке, то к дивану. Разрешалось взять два чемодана и узел, и она связывала узлом ватное одеяло, упрятав в него хрустальную вазу — самое ценное, что было в доме,— стягивала ремни, прикрепляя к чемодану подушку. Вечером в дом рвался отец — отпустили на полчаса,— вышвырнул из оделяла вазу — мать только руками всплеснула,— наступил на мамину любимую шляпку, сунул в узел тушенку, галеты и сгущенное молоко.
— Петя,— застонала мать,— да что ж ты все отдавил! А сам-то, Петя?
Жалкая, потерянная, худенькая, как подросток, она вжалась в его широкую грудь, вцепилась белыми пальцами в просоленную гимнастерку и забормотала что-то невинное. Он гладил ее волосы, прижимался к ним колючей щекой, а потом закрыл измученные глаза и покачал головой, будто не понимая чего-то.
Аленка стояла, держась за Ирину руку, котенок мурлыкал, укрытый на ее груди, и ей не было страшно, потому что она спасала Мурзика. Было, правда, очень жарко в толстом на ватине пальто, но Аленка с Ирой терпели, потому что знали, что нужно побольше увезти с собой в какой-то город, который взрослые называли новым словом военных времен — тыл. Котенок сладко мурлыкал и пел, а иногда, проснувшись, карябался и мяукал, стараясь выбраться на свободу. Тогда Аленка приоткрывала пальто и давала ему подышать, а Ира загораживала сестренку собой и толкала ногой чемодан, создавая шумовую завесу.
На берегу у шатких мостков, по которым надо было забраться на пароход, отец поднял Аленку на руки, прижал к себе, и она шепнула:
— Тихо, папка, не раздави Мурзика...
Она расстегнула верхнюю пуговицу пальто и тихнонько показала котенка: она знала, что отец не выдаст. Отец как-то странно всхлипнул — не то заплакал, не то засмеялся,— сжал Аленку напряженными жесткими руками.
— Берегите мать, слышишь?
Он хотел сказать что-то еще, но вокруг все задвигались, зашумели, отец быстро поставил Аленку на землю, обнял и поцеловал Иру и подтолкнул их обеих к мосткам, к женщинам в ватниках, коротких юбках и сапогах.
Это были немолодые уже горожанки — нервные, слабые и худые. Года два назад они и представить бы не смогли такую вот обувь на своих ногах или такие ватники. Но теперь они стояли в этих тяжелых кирзовых сапогах, широко и крепко расставив ноги, покачиваясь на скользких мостках, и передавали детей друг другу, не чувствуя тяжести, не простужаясь и за себя не боясь. Мостки качались, скрипели, были мокрыми от брызг и от высокой волны, чьи-то руки больно подхватили Аленку под мышки — «не смотри вниз, вниз, говорю, не смотри»,— передали в другие, такие же сильные руки и поставили наконец на палубу. Она испугалась, что потеряет маму, и потому изо всех сил cмотрела на нее в сгущавшихся сумерках. И мама не потерялась. Вместе с другими взрослыми она поднялась на пароход, и он поскорее отплыл от опасного берега, увозя людей из родного края, может быть, навсегда.
Всю ночь Аленка спала, прижавшись к надежному телу парохода. В нутре его что-то тикало и урчало, вздыхало и хлюпало, и было мирно и хорошо от этого урчания, хлюпанья и постукивания. Утром она проснулась от резких криков птиц и пахнущей рекой прохлады. Она зашевелилась под маминым пальто, отодвинула Иру, навалившуюся на нее во сне, и стала тихо звать Мурзика, потому что он делся куда-то.
Прямо перед ней вместе с солнцем просыпалась Волга, пароход, уже не скрываясь, ни от кого не таясь, резал гладкую розовую волну, слева на палубе спала, положив голову на узел, мама, и на том же узле, рядом с ее головой, вздымался и опадал пушистый комочек — вывезенный контрабандой из грохота и огня котенок по имени Мурзик.
2
Ирка была ужасная вредина: ну что ей стоило дать свой портфель? Ведь только донести до школы! Тревога поднимала Аленку чуть свет, она торопливо одевалась («Да спи, ты, дурочка»,— говорила мама) и терпеливо ждала, когда встанет Ира.
— Доченька, пора в школу...
Ира что-то бормотала, не открывая глаз, а Аленка уже бежала в кухню: занимать очередь на умывание. Соседей было много — двенадцать дверей в коридоре, длинном и узком, заставленном ларями и ящиками, раковин же всего две, как и уборных. Так что по утрам было сложно, и Аленка служила сестре верой и правдой, без всякой, впрочем, надежды, что Ирино сердце смягчится. Потом она вставала у дверей и так стояла, уже в пальто.
В половине девятого приходила Ирина подруга Галя, вежливо здоровалась с Анной Петровной, вроде бы не замечая Аленки, и говорила привычно:
— Ир, ну скорей!
Ира хватала учебники, запихивала в зеленую сумку от противогаза и начинала метаться по комнате.
— Сейчас, сейчас, я сейчас,— повторяла она, влезая в пальто, нахлобучивая торопливо шапку, отгидывая на спину толстые косы.
Аленка наконец решалась.
— Ира, можно я понесу твой портфель? — тихо просила она.
Галя только того и ждала.
— Ну какая ты странная,— рассудительно начинала она. — Мы идем в школу, понимаешь, в школу, а ты еще маленькая. Вот пойдешь в первый класс...
Аленка начинала моргать быстро-быстро, сдерживаясь, чтоб не плакать. Ира, хоть и дразнила сестренку «плаксой», видеть слез ее не могла. Сжалившись, она совала Аленке чернильницу в пропитанном чернилами задубелом мешочке: знаменитые «непроливалки» еще как проливались!
— На, неси!
Втроем они выходили на утреннюю полутемную улицу. Счастливая Аленка шагала чуть сзади, не смея вступить в разговор, независимо размахивая мешочком на длинном шнурке и поглядывая по сторонам: все, конечно, думали, что она тоже школьница. У школы отдавала мешочек Ире и опять ждала, теперь уже перемены, когда Ира с подружками будет прыгать через веревку. Аленке великодушно разрешалось веревку крутить.
Город Аленке нравился: здесь было тихо, а там, откуда они уехали, все гремело и грохотало. И небо там было громким, и улицы, даже Волга — угрозой, остальное забылось. Ира тоже была довольна, а мама — нет.
— Какие тут холода,— говорила она, зябко кутаясь в шаль, тоскливо замирая над чашкой чая.— Никак не могу привыкнуть.
— А какие тут холода? — удивлялась Аленка. — Нормальные, зимние.
— Нет, не нормальные,— качала головой мама.— Таких морозов у нас не бывало...
Она сидела и смотрела в одну точку, пугая девочек этим неподвижным взглядом. Она забывала похвалить Иру за чай, Аленку — за тапочки, выставленные к ее приходу с работы. Она сидела и думала об одном: нет писем, ни одного письма, ни единого...
Морозы и вправду стояли великие, сживая немцев со свету. Но и наши мерзли в окопах, и тыл посылал им варежки, шарфы, толстые шерстяные носки. Ирина школа как раз собирала посылки, и мать отдала пару новых носков и жилет, а Ира вышила на нем большой цветок, желтый, как солнце.
Аленка целый день рисовала бой на Волге — с бурунчиками от взрывов, с красным знаменем во все синее небо, с фигурками тонущих в Волге фрицев. Вечером гордо показала рисунок матери, но мать посмотрела на него как-то очень печально и сказала, вздохнув:
— Нарисуй лучше Красную Шапочку. Взрывов у них и без твоих хватает...
Аленка обиделась и рисовать какую-то дурацкую Красную Шапочку, конечно, не стала.
К весне Аленке исполнилось семь, она уже умела читать и писать. Каждый день, когда Ира садилась делать уроки, она тут же устраивалась напротив, приготовив заранее бумагу и карандаш.
— Надо было отдать тебя в школу, да не брали с шести, — жалела ее мать и заступалась за свою меньшую, когда вздорная Ирка вопила, что ей мешают.
А вообще, если не копаться в мелочах, сестры любили друг друга. Их разделяло всего полтора года, но Ира хорошо помнила, что она старшая. Она всегда защищала сестренку, она бросилась однажды на самого Юрку Власова, грозу из двора, не успев даже сообразить, что это же Юрка! И что это взбрело в тот вечер Аленке в голову? Она встала зачем-то на низенький шаткий заборчик и заорала на весь двор противным голосом, покачиваясь в неустойчивом равновесии:
— История Власа, лентяя и лоботряса!..
Юрка и в самом деле учился неважно, в школу ходить не любил, а любил драться. Вот он и кинулся на Аленку — длинный, худой и свирепый. Ничтожный малек, да еще девчонка, смеет его оскорблять!
Да, Ира тогда просто спасла сестру от рыжего Юрки. Но сама она как хотела, так и распоряжалась Аленкой: гоняла в магазин за хлебом, велела сидеть и ждать маму, убегая по каким-то таинственным делам с Галей. Однажды она усадила Аленку на санки и повезла через Волгу, на тот берег, смутно белевший вдали,— посмотреть, что там, на берегу.
Дул влажный, уже весенний ветер, санный путь доживал последние дни, вот-вот должны были закрыть переправу. А пока она работала с перегрузкой: тяжелые грузовики, укутанные попонами лошади двигались впритык, друг за другом. Водители на всякий случай держали открытыми двери кабин, возчики в здоровенных, с галошами, валенках шагали рядом с санями.
Раскрасневшаяся, деловая Ира упрямо продвигалась вперед, несмотря на нытье вконец закоченевшей сестренки, повторяя не оборачиваясь: «Сейчас, сейчас, уже близко», хотя впереди, кроме розвальней и красных огоньков машин, ничего не было видно. Они шли и шли по бесконечной, во льду, реке. Смеркалось. Холодало немилосердно. Ира отдала сестре шарф, натянула ей вторые варежки, a тот берег, как заколдованный, вроде не приближался. И тогда Аленка спрыгнула с санок прямо под лошадиную морду с умными человеческими глазами и решительно зашагала обратно, не обращая внимания на гудки встречных машин, на сердитые окрики шоферов и возчиков. Санки вмиг полегчали. Ира бросилась за сестрой, схватила за руку, но Аленка руку выдернула и еще быстрей, еще решительнее зашагала к городу.
— Ну вот, так и знала,— ворчала, скрывая растерянность, Ира.— Вечно ты все испортишь... Почти уж дошли...
Она догнала Аленку и заглянула в ее сердитое лицо:
— Только маме не говори, ладно? Она расстроится, а у нее же больное сердце...
Так Аленка вышла из полного Ириного подчинении и обрела независимость.
3
Отец исчез из их жизни. Он не погиб геройски, как погибали другие, а пропал без вести, при обстоятельствах странных, если не подозрительных. Анну Петровну куда-то вызвали, ей это сказали, она вернулась оробелая и притихшая, легла на диван лицом к стене и укрылась с головой одеялом.
— Мам, я есть хочу,— заканючила Аленка, но мать только застонала в ответ.
— Ты что, не видишь, что маме плохо? — засуетилась Ира, сразу, привычно почувствовав себя старшей.— Уж ты, слава богу, не маленькая... Сейчас я тебя накормлю...
Она разогрела пшенную кашу, вскипятила чай, накормила Аленку, поела сама и осторожно приблизилась к матери:
— Мама, мам, чаю хочешь?
Мать опять застонала, так слабо и жалобно, что Ира тут же умолкла:
— Ну, чего стоишь, иди спать,— прикрикнула она на Аленку. — И чтоб ноги вымыла, смотри у меня!
И она притащила из коридора эмалированный тазик.
С этого дня мать уже ни о чем их не спрашивала — ни об оценках в школе, ни о продранных на коленях чулках. Она куталась в старый бабушкин платок и молчала, часами рассматривая нечеткую любительскую фотографию, висевшую в рамочке над столом: отец, озорной, как мальчишка, в тенниске и широких брюках, стоит у фонтана в Москве, на сельскохозяйственной выставке, и смотрит в объектив открыто и весело.
Эта фотография мучила ее, изводила, странным образом притягивала к себе. Анна Петровна даже во сне ее видела, она боялась, что сходит с ума.
— Мам, ты чего? — робко трогала ее за локоть Ира, и, вздрогнув, очнувшись, Анна Петровна растерянно смотрела в испуганные глаза детей.
И однажды, решившись, с бьющимся больно сердцем, она сняла фотографию со стены и спрятала в чемодан — подальше, подальше, на самое дно,— чтобы не поддаваться искушению, не доставать ее, не смотреть, не видеть это родное лицо, не разговаривать с ним ночами...
Когда девочки вернулись из школы, фотографии над столом не было. Ира чувствовала, что не нужно спрашивать, но отца стало так нестерпимо жаль, так хотелось за него заступиться, что она не выдержала.
— Зачем ты ее сняла? — насупясь, подступила она к матери.
Аленка же вдруг расплакалась.
— Не ваше дело, оставьте меня в покое! — сразу и тонко закричала мать.— А ты не реви!
Она вскочила со стула, схватила дочку за плечи и затрясла с такой силой, что Аленкина голова замоталась из стороны в сторону, как у старой куклы.
— Замолчи, замолчи, замолчи, тебе говорят!
От обиды, страха и неожиданности Аленка совсем зашлась в плаче. Ира из солидарности заревела тоже, вцепилась в материнскую руку, стараясь отодрать ее от сестренки, которую, если надо, поколачивала сама, но в обиду никому, даже матери, не давала.
Мать отпустила Аленку, рухнула на диван и зарыдала. Девочки мгновенно притихли.
— Мама, ну мама... Ну мамочка...
Ира хотела погладить маму по голове или укрыть чем-нибудь, но не посмела. Тогда она сбегала в кухню, принесла воды в кружке, но мать оттолкнула ее руку, и вода пролилась на диван и на пол.
Так мама и пролежала на диване до cамого вечера. Уж потом Ира притащила большое теплое одеяло и закутала ее, как могла.
Они уже не получали за отца аттестат, и мать перешла в самый трудный, горячий цех своего мебельного комбината — в сушилку. Она возвращалась домой поздно и сразу ложилась, ничего не могла делать, иногда не пила даже чаю, и тогда Ира на нее обижалась. Она и обеда теперь не готовила. Хорошо, что девочки ходили в школу, а в школе давали горячие завтраки, так что ничего, ничего... Случались, правда, конфликты — кому мыть посуду, кому подметать, случались и драки, исход которых был предрешен, потому что Ира была крупнее и выше, но от матери все скрывалось, да они ее почти и не видели. Потом приловчились играть в «дурака» — кто проиграл, тому и мыть посуду,— и споры отныне решала слепая судьба (не такая уж, впрочем, слепая, потому что Аленка жульничала, чего простодушная Ира не замечала).
В редко выпадавшие ей выходные Анна Петровна раскрашивала картонные куколки для какой-то артели, и Аленка ей помогала: мыла кисточки, меняла воду. Комната в эти дни превращалась в настоящую мастерскую: по всему столу разложены краски и кисти, стоят всевозможные баночки, а на кровати — множество кукол, завернутых в одеяльца. И мама, спокойная, мирная, накинув на плечи неизменный платок, сидит и рисует черные, карие, голубые глаза, намечает чуть заметные ноздри-точечки, а потом берет кисть потолще. Этого момента и ждет Аленка.
— Мам, сделай синее,— просит она, и на ее глазах, по ее заказу невзрачный картон превращается в яркое одеяльце.
Это она, Аленка, решает, каким ему быть: синим, красным, зеленым! На фабрике куколок покроют лаком, они станут гладкими и блестящими, и какой-нибудь девочке купят этого малыша, а она и не узнает, кто придумал такой красивый цвет. Ну и пусть не знает, все равно здорово! А Ире на этот раз вообще повезло: за пятерку по русскому мама дала ей раскрасить одно одеяльце. Ира пыхтела тогда над куклой чуть ли не полчаса.
В марте открывали окна, хотя было еще очень холодно. Но все равно они сдирали с рам тонкие полоски бумаги, вытаскивали посеревшую за зиму вату, лежащую между рамами, протирали сверкавшее на солнце стекло старыми зачитанными газетами. Потом мать отпарывала от пальто теплые подкладки, за два часа превращая зимние вещи в межсезонныe. Она знала, что еще будут морозы и она пожалеет, что поспешила, но все так ждали весну, потому что за весной идет лето, а летом насколько же легче жить!
Когда сходил с Волги лед, они ездили на тот берег, на огороды.
— Хорошо, что не отобрали,— говорила, вздыхая, мать. — Совсем пропали бы...
На ту сторону ходил паром, но ходил он редко и не спеша, а ей всегда было некогда. Поэтому нанимали лодку и плыли по высокой воде, доходившей почти до бортика. Анна Петровна старалась не смотреть на воду, а смотрела вдаль, на деревья и старые сараюшки, храбро державшиеся перед натиском половодья. Деревья и сараюшки медленно приближались, росли, и наконец люди до них доплывали.
— Ну, приехали,— переводя дыхание, говорила мать,— осторожнее, девочки! Ира, дай руку Аленке... Нет, хватит, в следующий раз — только паромом...
Но и в другой раз ей было некогда, и они опять влезали в ненадежную старую лодку, и лодочники их уже знали.
— Ничего, Петровна, не робей, доберемся,— ободряли они мать, подмигивая Ире с Аленкой.— Живы будем, не помрем, верно, девоньки?
Каждый год Волга заливала часть огородов, и тогда казалось, что она забрала их себе навсегда. Но потом, наигравшись, натешившись, река отступала, великодушно и милосердно, возвращая людям наполненную влагой землю.
— Повезло нам, ах как повезло! — повторяла мать, доставая лопаты, с наслаждением вдыхая привольный, не городской воздух.— Ну, спасибо комбинату, не дал пропасть, подсобил.
Все лето они усердно поливали огород, таская воду из Волги: мать — ведрами, Ира — чайниками, Аленка поила свою морковь из маленькой лейки.
— Смотри, мам, у меня уже есть росточки,— хвалилась она.
— У тебя рука легкая,— думая о своем, рассеянно откликалась мать.
Тут же мчалась ревнивая Ира, всматривалась в грядку темными обиженными глазами.
— Да-а-а, ты хитрая... Морковь просто быстрее растет.
— А ну давай посмотрим, что у тебя, — спохватывалась мать.— Ого, да на твоей грядке тоже ростки, ты разве не видишь?
Между тем Аленка, присев на корточки, уже выдергивала тонкие травинки — будущие сорняки.
— Мам, все? Пошли купаться,— торопилась Ира.
— Погоди, надо сперва поесть.
Мать стелила половичок, ставила миску с последней, сохранившейся в погребе картошкой, а посредине банку с капустой, и девочки набрасывались на еду, потому что чувствовали вдруг жгучий голод. Исчезало все в один миг. А потом Ира спускалась к Волге, вынимала из тайничка бидон с квасом, они пили холодный квас, добирая остатки хлеба, и бежали купаться.
Лето для них было Волгой — с утра и до вечера. Мать волновалась ужасно, но не могла же она запретить: все пропадали на Волге, все, кто не в лагере, на пересменке, а взрослые — после работы, хотя бы и ночью. Волга не только кормила-поила город, она была радостью, наслаждением, хотя и не безопасным.
Ира научилась здорово плавать — саженками, как мальчишка, далеко-далеко, и потому чуть не утонула однажды (но от матери это, как водится, скрыли), Аленка барахталась по-собачьи, любила, чтоб под ногами всегда было дно, и потому не тонула ни разу. Целыми днями, наплававшись вдосталь, они валялись на песке, прожариваясь насквозь, черные, как негритята. Мальчишки вырезали из бумаги сердце, клали его на грудь и так лежали, чтобы белое сердце сияло на шоколадном теле до середины зимы. Никто тогда и слыхом не слыхал ни про какой рак, никому и в голову не приходило бояться солнца.
Ира с Аленкой неохотно отрывались от пляжа и уезжали в лагерь, хотя и там была та же Волга, был пляж. Но в лагере не разрешалось часами валяться на берегу, сладко плавясь под солнцем, и там не плавали, а купались, да еще по свистку, какие-то жалкие десять минут, а потом еще десять.
— Первый отряд, в воду!
И они с шумом и визгом бросались в Волгу, стараясь не потерять ни секунды отпущенного им счастья.
— Первый отряд, из воды!
И они заплывали подальше, чтобы, вроде как подчиняясь, подольше добираться до берега.
Война была уже позади. Исчезли и колонны пленных, на которых бегали смотреть Ира с Аленкой и которые делали медные кольца для обмена на хлеб. Появились тетради с настоящей белой бумагой, учебники, пахнувшие свежей типографской краской. И однажды, на день рождения Иры, Анна Петровна надела единственное шелковое платье, нарядила девочек в одинаковые, в горошек, костюмчики и повела в театр.
Они, конечно, и прежде бывали в театре, но почему-то лишь в ТЮЗе, где им упорно показывали одно и то же: нудные истории из школьной жизни. Истории были, в общем, похожи на те, что творились в классе, только в классе получалось весело и смешно, а на сцене уныло и даже глупо, почему-то неловко было смотреть на актеров — взрослых, не очень-то молодых,— как они бегают, прыгают, ссорятся, как маленькие, а потом конечно же мирятся.
Так что девочки пошли в театр неохотно, скорее для мамы (уж очень она радовалась, все рассказывала, как доставала билеты), а он сразу их поразил: светлый терем-теремок, весь в резьбе и узорах, с башенками и лесенками и с видом на Волгу. Он и внутри был таким же нарядным и ярким, а за войну они так соскучились по яркости, блеску, что сразу, еще до спектакля, обрадовались.
Давали «Горе от ума», комедию, но оказалась она не смешной и не очень понятной, да к тому же в стихах. Почему мама повела их именно на этот спектакль? Может быть, ей захотелось посмотреть на иную жизнь — чтобы не о войне, не о тяжелой работе тыла, вообще не о нас, совсем о других людях, с другими проблемами и в другом веке,— а может, такие ей достались билеты, кто знает? Во всяком случае, она усадила девочек в красной плюшевой ложе, уселась сама и велела им смотреть и слушать, и чтоб — ни слова!
Изящные женщины в длинных платьях, мужчины в камзолах и белых чулках о чем-то все время спорили, толстяк в смешных башмаках с пряжками на всех сердился, понятного было мало, но Аленка не отрываясь смотрела на сцену и даже в антрактах, когда Ира без передышки сыпала вопрос за вопросом, молчала, потрясенная театром.
Вот с тихим шелестом раздвигается занавес, в голубой гостиной задумчиво сидит Софья. Вот вслед за ней, подчиняясь ее движению, плывет, уплывает куда-то комната с креслами, картинами, зеркалами. А вот и бал — играет музыка, нарядные дамы. И тут случается что-то страшное, от чего Аленка просто сжимается: Софья идет по лестнице со свечой в руке и — все против нее, даже Чацкий, особенно Чацкий, про которого мама сказала, что он Софью любит.
— Мама, ведь он хороший?
— Да-да, конечно!
— А почему он на нее кричит? И подслушивает...
Аленка потрясена: хороший человек не может подслушивать! А Чацкий все говорит, говорит, весь зал ему аплодирует, раскрасневшаяся мама кричит «браво», и никому не жаль бедную Софью.
Они идут домой ,через весенний, пахнущий листвой город — Аленка впервые видит, как он красив,— мама объясняет своим девочкам пьесу, защищает Чацкого: он же в отчаянии, его объявили — подумайте! — сумасшсшедшим. Мама веселая, счастливая, вдруг — молодая...
— Будем теперь ходить в театр? — звонко спрашивает она, не сомневаясь в ответе.
— Только в этот, мам, в настоящий!
— Конечно! Ведь вы у меня уже взрослые...
— Вырасту — стану артисткой,—неожиданно говорит Аленка.— Что, не веришь? — это уже к Ире.
— А на скрипке хочешь играть? — перебивает Аленку мама: сейчас ей кажется все возможным.— У нас на работе повесили объявление.
Аленка не успевает ответить.
— Я, я хочу! — кричит Ира так громко, что на них огдывается идущая впереди женщина.
4
Настала вторая послевоенная осень. Ира теперь ходила в две школы: в простую и музыкальную, а по вечерам играла на скрипке, старательно отбивая ногою такт. Подбородок ее упирался в маленькую плюшевую подушечку, смычок с туго натянутым конским волосом плавно ходил по струнам, и даже Аленка слышала, каким глубоким и чистым был звук: мать купила очень хорошую скрипку, в рассрочку.
Артур Семенович, Ирин учитель, сам принес ее в школу, бережно вытащил из футляра.
— Это хороший инструмент, настоящий,— сказал он и погладил скрипку. — Первая скрипка нашего мальчика, а он был таким талантливым! Мы ее берегли: думали, что когда-нибудь будет играть внук. Теперь что ж, сын погиб, и внука не будет. Послушайте, какой звук...
И он заиграл что-то такое нежное и такое печальное, что Ира чуть не заплакала.
А вот Аленку в музыкальную школу не приняли. Как позорно она провалилась в этот долгий и душный августовский день! Ее прослушивали последней. Седая дама в черном закрытом платье строго смотрела на робкую девочку, неуклюже стоявшую перед ней, и резко ударяла пальцем по клавишам пианино. Аленка должна была звук пропеть, повторить.
С недоумением, страхом, отчаянием слышала она откуда-то стороны свой собственный дребезжащий голос, странные звуки вырывались у нее из горла. Ничего похожего строгая дама не играла, конечно, но Аленку словно заколдовали: голос, ей совершенно не подчиняясь, лез выше и выше, пока, захлебнувшись от невероятной высоты, куда он почему-то забрался, не смолк сам собой.
Аленка стояла красная, взмокшая от стыда и жары, комната уплывала куда-то в головокружительном мареве, штапельная белая кофточка прилипла к спине. Экзаменаторы за длинным столом сочувственно переглянулись.
— Подойди сюда, девочка,— сказал самый главный старик (он-то и оказался потом Артуром Семеновичем), но Аленка, опустив голову, не двинулась с местаю
Он подождал немного и продолжал очень мягко:
— Приходи на следующий год, хорошо? А пока пой в школьном хоре. Слышишь, девочка, обязательно.
Он жалеет ее, жалеет! Аленка вскинула голову и с ненавистью взлянула на старика:
— Ни за что не приду! Никогда! И петь вам не буду!
И она выбежала из зала.
Мама, ждавшая в коридоре, ни о чем не спросила. Она молча протянула Аленке носовой платок, обняла за плечи и прижала к себе. А Ира, уже принятая в школу, обласканная педагогами за удивительный, можно сказать, абсолютный слух, засуетилась, заспешила,— может, и слышала,
как Аленка там пела,— и тут же поклялась подарить сестре вышитые крестом варежки, которые Аленка давно и безуспешно у нее выпрашивала. Тем более что пока еще было лето.
— А что, девочки, не купить ли нам мороженого? — бодро сказала мама, когда они вышли на раскаленную до бела улицу.
— Ой, здорово! — преувеличенно обрадовалась Ира и вопросительно взглянула на Аленку.
Та, еще всхлипывая, хмуро кивнула.
Они подошли к стоявшей на углу продавщице с длинным и узким алюминиевым бачком, и Анна Петровна купила две самые большие круглые порции. Аленка, растягивая удовольствие, аккуратно облизывала мороженое по кругу, откусывала хрустящие вафли, и горе ее отступало и таяло. А мама рассказывала, как училась когда-то в узбекской школе, какой добрый народ узбеки и какой звучный у них язык.
— Вот, например, «соловей» по-узбекски «буль-буль»...
— Мам, ты себе почему не купила? — спросили вдруг Ира.
— Да я не люблю,— отмахнулась мать.— А «змея» знаете как? «Илльон»...
Ира решительно остановилась и загородила матери путь, протягивая ей мороженое.
— И у меня, и у меня откуси,— спохватилась Аленка, хотя у нее почти ничего не осталось.
Мама улыбнулась, но спорить не стала. Она осторожно откусила от каждой порции по кусочку, и все трое, довольные, пошли дальше. Они шли и шли, жара понемногу спадала, и Аленка, как всегда, стала потихоньку копировать встречных — какая у них походка (у всех же разные!), какое выражение лиц. Ира покатывалась со смеху — такие вот представления очень любила,— а мама на этот раз вроде ничего и не замечала. Она остановилась у невысокого здания из серого камня с большими, до земли, окнами и сказала, тоже посмеиваясь:
— А ведь это Дворец пионеров, в нем штук сто, наверно, кружков. Может, пойдешь, Аленушка, в драматический, раз уж ты у нас такой клоун? — Все она, оказывается, прекрасно видела.
Через неделю, замирая от собственной смелости, никому ничего не сказав — второй раз позора бы не пережила, — Аленка толкнула тяжелую дверь Дворца и вошла в прохладный мраморный вестибюль. Вверх вела парадная лестница, огромные зеркала отражали ссутулившуюся от страха фигурку, а на втором этаже, в комнате с окном во всю стену сидел сухонький седой человек и принимал ребят в кружок художественного слова. Человека звали Дмитрий Михайлович.
5
Дмитрий Михайлович Самсонов, старый провинциальный актер, был из тех, на ком многие годы держалась слава театральной России. Лет за десять до революции он окончил киевскую гимназию и поступил в университет, на юридический, учился три года и бросил: все равно ведь просиживал в театре все отпущенное для наук время.
Закончил театральную студию, вышел на любезные сердцу подмостки, и пошла-поехала сладостная, беспечная, определенная не более чем на сезон актерская жизнь. Киев, Севастополь, известный строгими ценителями Харьков, даже Москва — два сезона. Наконец он осел окончательно здесь, в Поволжье, в голодные тридцатые годы.
Ах, терем-теремок — милый, уютный, родной, с прекрасной акустикой, с низкими купеческими дверьми и неожиданно просторным залом! Он играл и играл — не главные, но и не выходные роли, а как-то побыл даже Чацким: подменил заболевшего красавца премьера. Но это было давно, еще до войны.
Дмитрий Михайлович знал себе цену: некрасив да и рост — не очень, а теперь уж и возраст. Но он никогда не раскаивался, что променял на театр сытое адвокатство. Не раскаивался и не жалел, потому что любил. И его любили. В театре не притворишься, сколько ни пой про «святое искусство», лицемерие здесь не пройдет, вмиг разгадают товарищи-лицедеи. Но Митя любил театр в самом деле — до сентиментальности, до смешного — и, что поражало особенно, никому не завидовал. Потому, наверное, так сохранился: был он подвижным, легким, хотя не то что спортом, никогда и физкультурой не занимался, даже зарядки не делал. А театр знал как собственный дом, мог часами рассказывать, как играл Шекспира знаменитый Дальский — какой у него был Отелло и какой Гамлет, как бледнела на подмостках великая Савина, каким широким, непрактичным и добрым был Варламов — лучший комик российской сцены, какие капустники устраивал он в великий пост, когда целые семь недель театры были закрыты, а играть хотелось безудержно!
В труппе друг о друге всегда все известно, ничто в труппе не скроешь, нечего и пытаться. Про Митю было известно, что от него подло сбежала скрипачка-жена и увезла с собой единственного, любимого сына, что сын вырос где-то вдали и Митя писал ему длинные письма — сначала печатными буквами, потом письменными, очень разборчиво, крупно, и это было мучением, потому что почерк у Mити был непонятен, стремителен. Но он писал и писал — советы на все случаи жизни, которую сам до смешного не знал, писал на репетициях и спектаклях, в ожидании выхода, потому что был твердо уверен, что сына нужно воспитывать.
А потом сын погиб в воздушном бою с «мессершмиттами», и Дмитрий Михайлович на нервной почве потерял голос. Врачи говорили, что со временем все восстановится, только надо бы поберечься, и Митю от спектаклей освободили. Поразмыслив, главный режиссер отправил его в городскую библиотеку, поработать над репертуарными сборниками: современных хороших пьес, как всегда, катастрафически не хватало.
Там Митя и познакомился с тихой и милой библиотекаршей, у которой тоже на фронте погиб сын, а муж еще раньше — на западной нашей границе. Познакомился и любил, пожалуй, впервые в жизни. Ему уже было за пятьдесят, Татьяне Федоровне немногим меньше. Оба они стеснялись своего позднего, да и не ко времени чувства, но, боже мой, как они ссорились и мирились, как ревновали, страдали и обижались! Особенно когда он вернулся в театр и они не могли уже видеться с утра и до вечера, не могли сразу же объясниться.
«Моя любимая, ненаглядная, прости, меня,— писал он ей после очередной вспышки ревности, когда — в который раз! — хотел с ней навеки расстаться.— Я просто очень расстроился, что ты не пришла на спектакль. А ведь я играл для тебя, для тебя одной, дорогая моя! В антракте посмотрел в щелочку, а тебя нет в зале. И я решил, что ты меня разлюбила, бросила, а тебя, оказывается, отправили на дежурство. Не знаю, как я дожил до вчерашнего дня, когда ты мне все объяснила. Не осуждай меня: актеры всегда чувствуют все острее».
Но и она, не-актриса, чувствовала так же: ревновала его к бывшей жене, о которой он зачем-то ей все рассказал, ревновала к партнершам и вообще к богеме, которую — была уверена! — прекрасно знала по классической русской литературе, неустанно о нем думала, когда был он занят в театре, смущалась и радовалась, когда в редкие свободные вечера он встречал ее у библиотеки.
Они изводили друг друга почти два года, целомудренно храня в тайне свои сложные отношения, о которых знал уже весь театр и вся городская библиотека. А потом праздновался первый послевоенный Новый год, и главный режисссер (не без мудрого совета жены — ведущей актрисы) пригласил Татьяну Федоровну под зыбким предлогом «огромной ее помощи в подборе репертуара». Актеры выпили, ...ись и расчувствовались: в легкомысленном их ...нществе, на их глазах родилась любовь — настоящая, … все ..уют,— и кто-то что-то про это сказал, кто-то провозгласил тост за «прекрасное и святое чувство», и кто-то и пошутил, что в коллективе зажимают свадьбу.
Митя вспыхнул, вскочил, но Татьяна Федоровна положила ему на локоть добрую руку, останавливая улыбкой, и он увидел, что вокруг него только друзья, а рядом единственный человек в мире, и через два месяца они поженились.
6
Татьяна Федоровна сдала служебную комнату и переехала к мужу, в деревянный домик у Волги. Домик был маленький, симпатичный — укрывшийся в тиши глубокого глухого двора, вросший в землю гриб боровик. В нем было целых три комнаты да еще что-то вроде сеней — хоромы после ее клетушки. Правда, вода во дворе и печной обогрев, но три комнаты...
Татьяна Федоровна поднималась по широкой поскрипывающей лестнице, отпирала дверь (Дмитрий Михайлович торжественно вручил ей выточенный театральным слесарем специально для нее ключ), проходила через прохладные сени и входила в гостиную. Яркое мартовское солнце холодно заливало афиши спектаклей, в которых играл когда-то Дмитрий Михайлович, блестело в стеклах больших фотографий. Она стояла перед ними, не сняв пальто, и любовалась Митей на фотографиях, пока его не было с нею рядом.
Потом она открывала форточку, и волжский ветер, озоруя, врывался в дом: весело пробегал по тетрадям с аккуратно переписанными ролями, добирался до пухлых журналов, стопкой лежащих на этажерке, сдувал пыль с корешков старых книг, сохраненных и сбереженных, несмотря на годы актерских скитаний. Все в этом доме казалось ей удивительным, несерьезно-прекрасным, она и не знала, что бывают такие дома. Вместо ковров — афиши, ветхие, но любовно подклеенные, никаких бронзовых часов или же фарфоровых пастушек, зато шкафы переполнены книгами, да еще книги на полках — их читали и перечитывали, передавали друзьям,— старые пластинки с голосами актеров, о которых Митя рассказывать мог часами. И путешестви, путешествия... Митя исколесил пол-России.
Она, правда, тоже поездила — муж кадровым был военным,— но у них были солидные ответственные командировки, а Митя всякий раз рисковал и надеялся, взлетал и падал, шел в новую труппу и к новому режиссеру, и все по каким-то детским, далеким от реальной жизни соображениям. Однажды уехал из театрального Харькова в нетеатральный Тамбов к вздорному главному и на меньшую ставку, и для чего? Для того только, чтобы сыграть одну-единственную, подготовленную ночами, в гостиничном номере роль.
— Ну и как, сыграл? — замирая от страха за того, молодого Митю, спрашивала Татьяна Федоровна.
— Ого, еще как! Аплодисменты сорвал настоящие!
— И все?
— Что же еще, Танюша? Стою, помню, на авансцене, зал прямо буйствует, а я от слез ничего не вижу.
— А потом?
— Что потом? Отыграл сезон и уехал: тяжелый город Тамбов...
Она уходила в библиотеку утром, когда Митя еще спал после спектакля, а приходила вечером, когда его уже не было: занят был почти каждый вечер, хоть и на маленький ролях, иногда и на выходных. Но как же чувствовалось его присутствие в доме! Была протоплена печь (успевал после дневной репетиции), в печи стояла каша или картошка, еще горячие, и обязательно на столе лежала записка: такой-то сегодня спектакль и не придет ли она в театр, а если нет, то к двенадцати он будет дома. «Но если, Танечка, ты устала, то, конечно, меня не жди»,— из деликатности добавлял Дмитрий Михайлович, хотя ни он, ни она и представить себе не могли, чтобы она легла спать, его не дождавшись.
Старые ходики отбивали время мелодично и громко, с каждым ударом приближая свидание. Татьяна Федоровна сидела в кресле, за письменным общим столом и работала: переписывала стихи для ребят из Дворца пионеров — у нее был хороший почерк, да и времени больше. Зачем Митя взялся руководить кружком? Вообще-то она догадывалась...
В двенадцатом часу заливалась лаем, срываясь на радостный визг, их дворовая Бобка (назвали Бобиком, а она принесла щенков), скрипела деревянная лестница под быстрыми родными шагами, в комнату входил Митя и прижимал Татьяну Федоровну к своему сердцу. Они садились за стол, из кастрюльки валил душистый горячий пар, картошка в мундире блаженно жгла пальцы, янтарно светилось в блюдечке, пахло полем и лесом настоящее подсолнечное масло. Они чистили друг для друга картошку, хрустели ледяными, из погреба, огурцами, с наслаждением ели вкусный, уже не военный хлеб и говорили обо всем, что в этот день с ними случилось...
А по ночам ему снился сон — тот маленький серьезный мальчик с торчащими после стрижки ушами, который уехал от него когда-то да так и не воротился. А теперь его нет вообще — нигде, ни в какой стороне, ни на каком кусочке такой огромной земли. Это невозможно было понять, с этим нельзя примириться, а главное — никак этого не представишь, а ведь Дмитрий Михайлович вроде бы умел представить все.
Он хранил эту боль в себе, боль без конца и без края, без надежды, что когда-нибудь она уйдет или хотя бы смягчится, он таил эту боль от Тани — ведь она потеряла двоих. Но когда в театр позвонили из Дворца пионеров и спросили, не возьмется ли кто из актеров вести кружок за мизерную, смехотворную просто плату, Дмитрий Михайлович заволновался, нервно закашлялся и сказал помрежу:
— Я попробую, Сергей Сергеич, вы не думайте, я сумею...
— Да ради бога, Митенька! — изумился его волнению помреж.— Работа, можно сказать, шефская.
7
Встретили его во Дворце пионеров на удивление странно: вроде бы в нем не нуждались. Во всяком случае, сразу сказали, что комнаты для кружка пока нет, но все равно скоро каникулы, так что пусть он не беспокоится, и что его задача — отбирать молодые таланты на городскую олимпиаду, больше от него ничего не требуется.
Дмитрий Михайлович растерялся, расстроился, полез было в спор, но тут же перепугался, что его не возьмут, и на все согласился.
И вот он сидит в большом неуютном зале, отданном ему на сегодня, и записывает в тетрадь тех,
кто хочет у него заниматься. Как он боялся, что никто не придет! А они идут и идут — пятиклашки, смелые и полные любопытства, легко краснеющие самолюбивые девушки с комсомольскими значками на отглаженных школьных фартуках, подростки с длинными руками-ногами, которые им мешают.
— Почитай что-нибудь,— просит каждого Дмитрий Михайлович.
И они читают стихи о войне, что-то из школьной программы, из газет и журналов (он и не знал, что такое печатают, да еще называют стихами), а один, в очках, с задумчивым взглядом — «Я помню чудное мгновенье...» — под хихиканье и перешептывание остальных.
Он возьмет их всех, даже если ему придется заниматься с ними в три смены, всех — способных и не способных, он научит их отличать поэзию от подделок, ее любить, чувствовать! Олимпиада... Черт знает что!
Дмитрий Михайлович вернулся домой с целой программой, выложил ее жене прямо с порога и протянул внушительный список книг.
— Тютчев, Танечка, Фет, Майков... Представь себе, они их почти не знают, не проходят, представь себе, в школе! Даже Блок не очень-то им знаком.
— Но это стихи не для сцены,— пыталась образумить его Татьяна Федоровна.— Они же не пионерские.
— Ну и что? — закричал в ответ Дмитрий Михайлович.— Они о самом главном: о вселенной, в которой все мы живем, о движениях нашей души!
Он, конечно, тут же раскаялся, что закричал, обнял Таню.
— Пионерские, Танечка, поищи тоже, что-нибудь этакое, веселое. Но не знать Тютчева...
К лету они уже любили его так, как любят только в юности: беспредельно и беззаветно. Как не хотелось ребятам уезжать в лагеря! Они остались бы с ним навеки, но, конечно, пришлось покориться. В конце августа все собрались снова — выросшие, загоревшие, соскучившиеся друг о друге. А Дмитрий Михайлович встретил ребят смелой идеей: поставить спектакль, настоящий спектакль — «Снежную королеву».
— Зал у нас есть, сцена — вот только без занавеса и без круга — тоже. Костюмы я раздобуду в театре, а кое-что сошьют здесь, в костюмерной. Ну, что вы на это скажете?
Что они могли на это сказать? Они закричали «ура», они были в таком восторге, что ему пришлось срочно призывать их к порядку.
— Тише, тише, да тише же! Прошу всех перечитать Андерсена, перечитать и подумать, о чем, если всерьез, его сказки? У кого есть Андерсен?
Поднялось несколько рук.
—Вот и хорошо, почитайте вслух, вместе, или передавайте книжки друг другу, поспрашивайте в школьных библиотеках...
Они, конечно, решили читать вместе — ведь тогда можно не расставаться,— они как раз сговаривались, где и у кого встретиться, когда приоткрылась дверь и на пороге возникла маленькая фигурка. Аленка стояла молча, не двигаясь и не входя в комнату.
—Ты, девочка, к нам? — спросил ее Дмитрий Михайлович. — А почему так поздно? Мы ведь уже заканчиваем. Врочем, это неважно. Тебя как зовут?
—Лена.
—Значит, Аленка? — сразу угадал он ее домашнее имя. — А меня зовут Дмитрий Михайлович. Ну что ж, Аленушка, проходи, не стесняйся. Почитай что-нибудь, мы тебя слушаем.
Она уже знала, что без экзаменов никуда не примут, и потому выучила наизусть любимое стихотворение. Аленка откашлялась, глубоко вздохнула.
— Сквозь волнистые туманы пробивается луна,— тихо сказала она.— Нет, не так... Сквозь волнистые туманы пробирается луна...
Или все-таки «пробивается»? Она не помнит, не помнит! Аленка сглотнула, опустила голову и умолкла. Стоит посреди комнаты и молчит, ну просто слово сказать не в силах. А на нее смотрят и девочки, и мальчишки — сидят на стульях, на подоконнике, глазеют, как на обезьяну в цирке, и кажется ей, что посмеиваются. Еще бы! Они здесь свои, а она чужая, они все вместе, а она одна, в руках у них какие-то тетради, листочки, а у нее тряпичная сумка с пляжа. Хотела оставить на вешалке, да гардероб не работает — лето.
Уйму стихов помнит Аленка, но ни один не пролезет сейчас через пересохшее горло. А если и пролезет, что.... что из этого получится? После истории в музыкальной школе она ни за что не ручается. Была бы хоть Ира рядом, хоть бы ждала ее там, внизу!
Аленкины глаза стремительно наполняю слезами. Скорее отсюда, бегом, вот только ноги не слушаются. И тут рядом с ней оказывается Дмитрий Михайлович — да он вовсе и не старик, почему это ей казалось, что он старик? Он кладет руку ей на плечо, легонько подталкивает, ведет к столу.
— Сережа, уступи девочке место. Садись, Леночка, не стесняйся. Как твоя фамилия, адрес? В каком ты учишься школе?
Неужели ее записывают в кружок? Просто так, без экзаменов? Но ведь этого не бывает!
— Мы тут как раз подумываем о спектакле... «Снежную королеву» читала?
Аленка кивает.
— Перечитай до вторника, хорошо? Во вторник соберемся здесь, во Дворце, и поговорим о сказках, об Андерсене. Придешь?
Да разве может она не прийти!
— В семь часов ровно, смотри не опаздывай, как сегодня! Небось прямо с пляжа?
Дмитрий Михайлович заговорщически ей подмигивает, и Аленке становится весело. Все встают, двигают стульями, теснятся вокруг Дмитрия Михайловича. Так не хочется уходить, но, наверное, надо? Не очень решительно направляется Аленка к двери, но этот человек все понимает.
— Леночка,— окликает он ее, и Аленка останавливается и смотрит на Дмитрия Михайловича с робкой надеждой. — Ты не очень спешишь?
Никто из учителей, никто из знакомых ей взрослых никогда так на равных с нею не разговаривал.
— Не очень,— неуверенно отвечает она.
— Тогда пойдем с нами! Ребята всегда провожают меня домой. Леша, что ж ты не приглашаешь? Какой же ты после этого староста?
Они гурьбой выходят из Дворца пионеров. Дмитрий Михайлович, утонув в ребятах, шагает по улицам буйно цветущего города, спускаясь к реке, к прохладе, к своему дому, где его ждет любимая женщина. Они все вместе входят во двор — пора уж прощаться,— а во дворе под огромной липой, за чистым деревянным столом, на котором таинственно светится керосиновая лампа и стоит большущий, на ведро, самовар, сидит и ждет их Татьяна Федоровна.
— Митя, наконец-то! А я боялась — вдруг ты один, без ребят? Видишь, что я надумала? Будем сейчас пить чай, вечер-то какой чудесный! Садитесь, садитесь...
Чуть смущаясь, все чинно рассаживаются по лавкам. Татьяна Федоровна наливает в стаканы и чашки чай, угощает гостей бубликами с вареньем, под столом тычется в ноги, обнюхивая тапочки и сандалии, несколько озабоченная таким нашествием Бобка. Потом она выходит из-под стола и ложится поодаль, задумчиво и меланхолично положив морду на лапы. Она лежит и вместе со всеми слушает, как Дмитрий Михайлович, не удержавшись, не дожидаясь вторника, описывает удивительную жизнь одинокого сказочника — мечтателя и фантазера.
Аленка сидит затаив дыхание, оставляет даже варенье в прозрачной розетке. Тонет в темноте пышная липа, вьется над лампой бесчисленная мошкара, завораживая, усыпляя, пахнут цветы и травы... Неужели и ей дадут роль? Нет, этого не может быть: она ведь новенькая. А может, дадут, хоть самую маленькую, крошечную? Надо спросить у мамы — мама, конечно, знает, — надо похвастаться перед Ирой, вот удивится! А то фасонит со своей скрипкой: уставится в ноты, будто действительно понимает что-то в этих крючках и точках...
Аленка, не мигая, смотрит на лампу и мечтает, мечтает... А у нее дома — такая беда.
8
Мама лежит на постели багровая, с чужим одутловатым лицом. Губы сухие, глаза блестят, волосы липкими прядями разбросаны по подушке.
— Петя, а как же мы? Как же девочки, Петя?
— Бредит...
Ефросинья Ивановна, ближняя их соседка, подпершись, сидит у дивана, жалостливо смотрит на мать. Ира испуганно замерла у окна. Дверь без конца отворяется, входят-выходят соседки.
— Ну, что?
— Сейчас будет.
Борис Васильевич, муж тети Фроси, сбегал уже в аптеку и вызвал оттуда «скорую».
— А-а-а, явилась,— хмуро бросает Аленке всегда такая ясная, добрая тетя Фрося,— ступай к нам, поешь что-нибудь.
— Не хочу...
— Ступай, говорят,— топает ногой тетя Фрося, и Аленка пятится к двери.
В соседней комнате она с трудом глотает остывшее уже пюре, запивает пюре тоже холодным чаем. Света, тети Фросина дочка, о чем-то спрашивает, но Аленка не отвечает, она прислушивается к шагам в коридоре — когда же придет врач? Соседки ходят и ходят, и все к ним, к матери, слышно, как отворяется-затворяется дверь.
Что-то происходит с Аденкой: перед глазами стоит еще деревянный струганный стол под старой липой, на столе самовар, лампа, тихая женщина наливает чай... Но это было так бесконечно давно, может, не было вовсе, а приснился Аленке сон или читала она книгу. Все растворилось в страхе, съежилось и поблекло, стало маленьким и далеким, как в перевернутом бинокле, который тогда, в театре, дала ей мама, Аленка посмотрела в оконца и увидела далеко-далеко крошечную сцену, а на ней кукольные фигурки актеров...
Она встает и, не понимая, что там говорит Света, идет к маме. Мамины руки шевелятся без устали, бегают беспокойно по одеялу — что-то ищут и никак не могут найти, ее голова мотается по подушке — к стене, от стены, снова к стене.
— Петя, Петенька, какая тоска...
— Аня, милая, выпей водички, авось полегчает...
Тетя Фрося наклоняется над матерью, поднимает ей голову вместе с подушкой, подносит к губам чашку с водой:
— Попей, Анечка...
Но зубы стиснуты, губы сжаты, вода проливается на подушку. Фрося растерянно глядит на соседок.
— Давай переверну,— приходит на помощь Пелагея Ильинична.
Она переворачивает и взбивает подушку, горько вздыхает:
— Господи, жар-то какой! Укатали сивку крутые горки...
На этих непонятных и страшных слов Аленка тоненько плачет, и, тут же, только громче, начинает плакать Ира.
— Цыц вы, кликуши! — Борис Васильевич сердито смотрит на Пелагею Ильиничну, неловко гладит Аленку по голове. — Ну чего вы, чего? Ну, заболела мать, вылечат! Придет доктор и вылечит... Коли надо, так и в больницу... А вы тут с нами, у нас, верно, Фрося?
— Господи, да а как же? — машет рукою Фрося и тоже всхлипывает.
А у матери оказался сыпняк, и ее увезли в больницу, далеко-далеко, на край города, за железнодорожный мост, а в коридоре сделали дезинфекцию. Ира с Аленкой остались с соседями, ни с кем и со всеми, хотя главной была все-таки тетя Фрося.
— Девочки, вставайте,— будил их кто-нибудь по утрам, а на общей кухне их уже ждал неизвестно кем приготовленный завтрак.
Они одевались, ели и нехотя плелись в школу: из-за карантина безнадежно все запустили, да и не хотелось им заниматься, школа казалась теперь такой ерундой!
— Ира, Аленка,— догоняла их тетя Фрося,— сколько раз повторять: перед уходом показывайтесь! Ну вот, так и знала! А галоши где? Осень на дворе, дождь. Не хватает еще, чтоб вы заболели! Ну-ка, живо — галоши и шарф!
Приходилось возвращаться, надевать тяжелые галоши, обматывать вокруг шеи под тети Фросиным суровым взглядом длинный унылый шарф.
— Девочки, обедать! — встречали их после школы, и они обедали на той же кухне, не очень зная, кто их сегодня кормит, разве кто-нибудь спрашивал с особой придирчивостью, как им борщ, как лапша?
По субботам тетя Фрося брала их с собою в баню — собирались долго и обстоятельно, со своими тазами, мочалками, — по воскресеньям они ходили к маме, в больницу. Ира несла бидон с киселем или бульоном, Аленка — бутылки с минеральной водой, а главное — листок с вопросами, который тетя Фрося старательно заталкивала ей в варежку.
— Смотри, Аленушка, не забудь, а ты, Ирочка, проследи — ты ведь старшая! Там все записано, пусть скажут, какая температура, что принести, может, фрукты? Сходим тогда на базар, купим, чего там...
Фруктов в магазинах города не было, на базаре драли по двадцатке за килограмм, и покупали фрукты в основном для больных, зорко следя за весами, чтоб не обвесили.
Дежурная нянечка, шевеля губами, читала листок, вписывала красным карандашом температуру, почему-то сердилась:
— Фрукты... Какие там фрукты... Совсем без понятия. Отец погиб, что ли? Никого, что ли, нету? Ну-ну, авось выберется...
На третье воскресенье — у них как раз кончился карантин — тетя Фрося повязалась крест-накрест платком, велела девочкам сидеть дома и отправилась в больницу одна. Она вернулась поздно — кого-то долго ждала: воскресенье же, накричала на Иру с Аленкой, заодно и на Свету — они играли весь день в «дурака»,— выгнала всех троих из комныты и собрала у себя соседок.
— Помирает Аня-то,— сказала она,— воспаление легких еще прикинулось. Врач говорит, осложнение, говорит, есть такое лекарство, новое, вот кабы оно... Я записала...
— Дай-ка.— Борис Васильевич берет бумажку и читает по слогам длинное, никому из них не известное слово «пенициллин»...— Ну что ж, надо достать.
И все посмотрели на Веру Павловну, глазного врача.
— Я
попробую,— сказала она и встала.— Я
поговорю у нас в клинике.
— Вы понимаете, о чем просите?
Сергей Львович, главврач, покинул свое удобное кресло и, негодуя, бегает по кабинету. Вера Павловна сидит, опустив глаза, но не уходит: пусть прокричится. Они работают вместе не первый год, она знает — надо ему покричать и повозмущаться, потом он начнет действовать.
— Нет же его еще, практически нет! Лимит на пенициллин строжайший, и я не имею права... Да и где я его возьму, в нашей-то клинике?
— Девочек жалко,— дождавшись паузы, тихо говорит Вера Павловна,— и Аню...
— Какую еще Аню? — Он останавливается с разбегу и смотрит на нее, нахмурившись, недоуменно.
— Которая умирает... Она одна их растит. Ирочка даже на скрипке играет.
— Да при чем тут скрипка? — снова взрывается Сергей Львович, но думает уже, думает, Вера Павловна видит.— Отец погиб, что ли?
— Не знаю,— пугается Вера Павловна,— наверное...
Правду сказать не решается, да и не знает она всей правды.
Но Сергея Львовича ответ ее нисколько не занимает, он его и не слышит: ищет, к кому обратиться за помощью, чтоб вернее всего.
— Может, позвонить в здравотдел? — осторожно помогает ему Вера Павловна.
— А позвоню, что скажу?
— Что остаются двое сирот, никого на свете...
— Ах, Верочка, сирот сейчас миллионы!
Вера Павловна терпеливо вздыхает, снова опускает глаза: без пенициллина она не уйдет. Да и он, старый заслуженный врач, не может уже ее отпустить — там, за мостом, в инфекционной больнице, умирает неизвестная ему Аня, остаются двое детей, пенициллин — последняя, единственная надежда... Лимит... Так он как раз для таких случаев! Сергей Львович садится в кресло и набирает номер — первый из тех, что предстоит ему сегодня набрать.
Звонок, звонок, еще звонок — по цепочке, сверху и донизу. Наконец заветная бумажка с адресами и телефонами у Веры Павловны в руках.
В один конец города — за рецептом, в другой — за самой главной, второй подписью, снова туда, где была,— за драгоценными маленькими пилюлями. Вечером измученная Вера Павловна одолевает последнее препятствие — длиннющий железнодорожный мост, отделяющий инфекционную больницу от города. А в больнице ей говорят, что Анна Петровна два часа назад скончалась.
9
Дожди идут днем и ночью — тяжелые, обложные. Не было в этом году бабьего лета, не было печальных и светлых дней. Сразу дожди, холода... И в день похорон — дождь с самой ночи. Дождь по дороге на кладбище, и когда хоронили — дождь, и когда ехали обратно — дождь и дождь без конца.
Тетя Фрося держала девочек за руки, не отпускала, словно боялась их потерять, и плакала, плакала, ругала себя, что поздно хватилась, поздно поеха в инфекционку. Вера Павловна с Пелагеей Ильиничной остались дома и пекли блины на поминки — у кого сохранились с последней выдачи, тот и отдал свою муку бедной Анечке. Вера Павловна мучилась тоже: эти несчастные два часа не давали покоя. Бегала по городу, ждала, как дура, трамваев, надо было ловить такси...
— Какое такси,— пыталась образумить ее Пелагея Ильинична,— где ты его найдешь?
— Люди ловят служебные,— не принимала утешения Вера Павловна,— а я не умею, мне и в голову не пришло. Не привыкли мы, тетя Паша, к роскоши.
Пелагея Ильинична хотела еще возражать — понимала, что надо, что Верочка возражений ждет,— но, посмотрев в окно, увидела Фросю и девочек, всех соседей.
— Приехали,— засуетилась она,— как раз мы с тобой поспели...
До самого вечера все тесно сидели за длинным столом, составленным из отдельных кухонных столиков, сидели и поминали Анну Петровну, давали друг другу слово как-никак, а сестер вырастить, если надо, так и удочерить.
— Ты, Борь, узнай, куда пойти, к кому обратиться, — наставляла тетя Фрося мужа, единственного кроме старика Евсеича в коридоре мужчину.— Удочерим, чего там, пусть Анечка спит спокойно.
Борис Васильевич молча кивал, курил самокрутки, подливал в граненые стаканы водку.
— Ты ж, Ира, смотри скрипку-то не бросай,— волновалась раскрасневшаяся тетя Фрося.— Мама говорила, слух у тебя какой-то особенный, значит, играй!
В свое время женщины осуждали Аню — у самой ни плаща, ни пальто приличного нет, а она скрипки тут покупает, в свое время женщины сердились на Иру — пиликает целыми вечерами, как комар пищит, действует всем на нервы, — но теперь соседки дружно поддержали Фросю.
— А что, будет у нас своя музыкантша! Придем на концерт, а Ирочка в длинном платье... Как мать задумала, так пусть и будет! Выпьем, бабоньки, за ее светлую душу...
Все пили не чокаясь, а во главе стола стояла пустая тарелка, и на ней кусок хлеба и рюмка — для той, которой здесь уже не было, но которая вроде бы все видела и все знала —так сказала тетя Фрося Ире с Аленкой.
10
Аленка бредет по улице, опустив голову, гонит перед собой ледышку. Домой идти неохота: Ира еще в музыкалке, а со Светой они поссорились. Светка вообще теперь ими командует, хотя тетя Фрося их защищает, а дочку бранит. Но тетя Фрося приходит домой только вечером. Была бы мама жива...
Аленка перекладывает набитый учебниками портфель в другую руку. Небо темное, низкое, географичка сказала, что скоро опять пойдет снег, тогда потеплеет. А пока очень холодно, с Волги дует ледяной колкий ветер. Повернуть, что ли, домой? Нет, не хочется. Тетя Фрося сегодня придет совсем поздно, Светка вредничает. Была бы мама жива...
Может, попроситься в детдом? Вчера вечером на кухне спорили, шумели так, что даже в комнате было слышно. Тетя Паша детдом хвалила — одевают, воспитывают, кормят за день четыре раза! — Фрося на нее почему-то сердилась... Поговорить, что ли, с детдомовскими девчонками? Их в классе четверо, друг за дружку всегда горой и дерутся здорово. Интересно, как там у них? Ничего, наверное, жить можно. А то Фрося все шепчется с Борисом Васильевичем, а о чем, кто их знает? Оформят Аленку с Ирой к себе, тогда и в детдом их не примут.
Эх, мама, бросила нас одних... У Иры хоть скрипка...
Аленка совсем замерзла, но идет все дальше и дальше, спускаясь к мертвой, во льду и снегу, реке. После маминой смерти ей как-то все время скучно, короткие зимние дни тянутся долго, даже читать не хочется. Таня Смирнова из пятого «Б» подошла недавно на большой перемене, молча протянула книгу. «Три мушкетера»... Сколько Аленка их когда-то выпрашивала! Но даже «Три мушкетера» теперь не читаются: откроет Аленка книгу и сидит над страницей, сидит и о чем-то думает, а спроси о чем, она и сама не знает...
— Девочка, девочка, подожди!
Она не сразу понимает, что это к ней. Смотрит — через дорогу бежит человек, бежит, задыхается, машет рукой. Как назло потоком идут машины, приходится человеку остановиться.— Подожди, девочка! — кричит он, прижимая руку к сердцу.
Где она его видела? Нет, не помнит. А человек уже рядом.
— Ты разве не узнаешь меня? — Чему он так радуется? — Я, представь, тебя сразу узнал, вот только забыл, как зовут. Лена? Ну конечно, Аленка! А я Дмитрий Михайлович, ты еще к нам в кружок приходила, помнишь? Потом взяла и пропала куда-то, мы даже старосту за тобой посылали: думали, вдруг ты на что-то обиделась? Леша сказал, что у вас карантин — мать заболела. А теперь ты почему не приходишь? Карантин же, наверное, кончился?
Аленка смотрит в сторону и молчит. Не хочется разговаривать, ничего не хочется. Дмитрий Михайлович заглядывает ей в лицо — какие усталые, какие больные глаза, какая недетская в них тоска... Он берет странную девочку за руку.
— Слушай, да ты совсем замерзла! Где твои варежки? Ты их что, потеряла? Куда ты идешь?
— Никуда.
— Как — никуда? Ты ведь почти у Волги! А я иду с репетиции, вижу — знакомая девочка...
Он совсем растерялся от этой непонятной ему замкнутости. Но оставить Аленку одну он никак не может.
— Почему мы стоим, когда такой холод? — осторожно говорит Дмитрий Михайлович.— Пошли ко мне, к нам. Дома волноваться не будут?
Да что он к ней пристает, когда она так устала! Собравшись с силами, Аленка стряхивает с себя привычное оцепенение, выдергивает руку и поворачивается, чтоб уйти. Но Дмитрий Михайлович ее не пускает.
— Деточка, что с тобой? — спрашивает он совсем тихо и снова берет ее руку, греет в своих ладонях.
Так называла ее только мать... Сколько, оказывается, накопилось в Аленке слез! Они мгновенно заполняют глаза, вырываются из берегов, текут по щекам, скатываются к подбородку.
— Мама... Она умерла...
Аленка дрожит и плачет и не может остановиться.
— Пойдем к нам, деточка,— обнимает ее Дмитрий Михайлович,— мы же совсем рядом с домом. Там нас накормят, напоят чаем — у Татьяны Федоровны как раз выходной...
Надо что-то сказать, что-то немедленно сделать, чтобы она перестала так плакать! Нет, он совсем не умеет обращаться детьми...
— Ты знаешь,— торопится он,— мы вовсю сейчас репетируем «Снежную королеву», и, представь себе, наша принцесса вдруг нахватала двоек. Пришлось Валю от репетиций отстранить.
Обнимая Аленку за плечи, защищая от ветра, Дмитрий Михайлович ведет ее к себе домой, где тепло и сытно и есть Таня. Что-нибудь она придумает, как-то поможет этой худенькой несчастной девочке.
— Хочешь играть принцессу? — осеняет его счастливая мысль. — Хорошая роль, со словами! Вернется Валя — будет у нас две принцессы! У нас и Герды две и два Кая.
— У меня тоже двойки,— всхлипывает Аленка.
— Ну и что? Подумаешь, двойки! — фрондерски фыркает Дмитрий Михайлович, совершенно не заботясь о логике собственных слов.— Разве бывает жизнь без ошибок и двоек? Скучная жизнь! И, между прочим, как раз из двоечников получаются артисты, певцы и художники.
— Почему? — удивляется Аленка.
— Потому что они непоседливы, любознательны и с фантазией.— Только бы она не расплакалась снова! — Они, понимаешь, не могут учить и учить, как заведенные, каждый день... Нет, учиться, конечно, надо... — Как раз вчера из-за истории с Валей руководство втолковывало ему, что он прежде всего педагог.— Но у нормального человека должны же быть срывы... У тебя по какому двойки, наверно, по математике?
— Да... А откуда вы знаете?
— Догадался! — Он радуется, как маленький.— Сам был двоечником, закоренелым, матерым двоечником!
— Правда? — Аленка прерывисто вздыхает, неуверенно улыбаясь.
—
Честное
слово... Ну вот мы и пришли! Сейчас нас с
тобой покормят, а потом мы посмотрим
роль — ты уж нас выручай, хорошо?
Оранжевый абажур над круглым столом, фаянсовая белая супница, фотографии и афиши, таинственно всплывающие из полутьмы,— все видится смутно, неясно, сквозь надвигающийся, наваливающийся на Аленку сон. Она сидит на диване, и глаза ее закрываются сами собой. Даже в собственной комнате не чувствует она себя так спокойно, дома страшно без мамы. Усыпляюще тикают ходики, за окном бесшумно хлопьями валит снег, женский голос слышится как сквозь вату:
— Смотри, Митя, какой снегопад.
Чьи-то руки кладут ей подушку под голову, поднимают на диван ее ноги, укутывают пушистым пледом. Руки ласковые и теплые, почти как у мамы.
— Поищи, Митя, в тетрадке, у тебя же есть адрес. Надо предупредить, а то там, наверное, беспокоятся,— последнее, что слышит, засыпая, Аленка.
— Нет,— бормочет она через силу,— никто там не беспокоится.
— Ну уж никто,— ворчит в ответ Дмитрий Михайлович,— так не бывает.
Но
Аленка уже спит.
Дмитрий Михайлович едет в трамвае на другой конец заносимого снегом города. Кондуктор, закутанная в клетчатый платок, с большой старой сумкой, с катушками билетов на толстом ремне простуженно выкрикивает остановки, дергает за старую, с бахромой, веревку, с легким звоном отправляя промерзший трамвай, они подолгу ждут, пока расчистят пути,— давно не было такого сильного снегопада. Пассажиры беззлобно бранят снег, а заодно и трамвайные власти с их всегдашней растерянностью перед стихией, и только Дмитрий Михайлович стоит молчаливо и безучастно.
Он думает о спящей в его доме девочке, думает с давно забытой нежностью, он вспоминает сына — того, маленького, увезенного от него навеки, потом опять видит Аленку, свернувшуюся на диване клубочком. Думы странным образом переплетаются, чем-то нерасторжимо связаны, и заслоняет их взволнованное лицо Тани.
— С богом, Митенька, с богом,— шепчет она, оглядываясь на Аленку. Верхний свет погашен, у дивана горит ночник, чтобы девочка, если проснется, не испугалась. — Ты же смотри, Митенька, ты скажи, что, мол, устала, переночует у нас, пусть не волнуются. Ничего, если и школу пропустит.
И вот он едет, не зная толком куда и к кому, с кем она там живет — с тетей, с бабушкой? Вдруг они на него рассердятся? Дмитрий Михайлович сам знает, что робок, от грубостей — обычных, другие и не заметят — совершенно теряется. В длинном коридоре он не сразу находит Аленкину комнату. Робко стучит, но его не слышат, потому что в комнате кто-то играет на скрипке. Тогда, поколебавшись, Дмитрий Михайлович открывает дверь и входит.
Стол, стулья, диван, две кровати в алькове, над диваном размытая фотография со штампом в углу — отклеили с паспорта, увеличили. Молодая женщина смотрит вошедшему прямо в глаза, брови страдальчески сведены, будто знает заранее о своей судьбе. А у кровати играет на скрипке девочка, косы чуть не до пояса, нога отбивает такт. Она чувствует чужой взгляд и, опустив смычок, поворачивается. Старше Аленки, выше и крепче, но очень похожа: та же пустота, та же усталость, взрослая усталость в глазах. «Какая печаль... Никакой грим такую не сделает...» — механически отмечает Дмитрий Михайлович.
— Я и не знал, что у Аленушки есть сестра,— мягко говорит он.— Ты ведь сестра, правда? Тебя как зовут?
— Ира.
— Ты в каком классе?
— В шестом... А где Аленка? Тетя Фрося волнуется...
При упоминании о какой-то тете Дмитрий Михайлович путается.
— Понимаешь, какое дело... Иду с репетиции, вижу — знакомая девочка, приходила к нам, во Дворец... Бредет куда-то совсем одна...
Но тут распахивается настежь дверь, в комнату врывается невысокая плотная женщина, за ней — встревоженный чем-то мужчина.
— Вы кто такой? — сразу подступает она к Дмитрию Михайловичу.— Что вам здесь нужно?
— Я Леночкин преподаватель,— старается казаться уверенным Дмитрий Михайлович,— то есть не совсем, конечно... Вообще я актер...
— Акте-е-р...— тянет женщина подозрительно, и Дмитрий Михайлович обижается.
— Да, актер, а что? Что здесь такого? А вы, наверное, их тетя?
«Эх, надо было Таню послать...»
— Вот что, давайте знакомиться,— решительно вмешивается мужчина и протягивает Дмитрию Михайловичу руку.— Борис Васильевич, а это моя жена — Ефросинья Ивановна.
Снова открывается дверь, входят еще три женщины, и с ними девочка. Она проскальзывает между взрослыми к Ире и становится с нею рядом, берет за руку. Дмитрий Михайлович понимает, что рассказывать надо всем, потому что все здесь каким-то образом к сестрам причастны. И он рассказывает, зачем-то достает документы — хорошо, что оказались с собой, есть даже партийный билет, потому что в театре сегодня собирали взносы.
Как ни странно, сам вид документов действует успокаивающе. Впрочем, Борис Васильевич паспорт берет и внимательно изучает, остальные стоят молча и ждут.
— Ну ладно.— Он возвращает паспорт Дмитрию Михайловичу.— Значит, хотите, чтобы она ходила во Дворец пионеров?
— Да погоди ты, Боря,— не выдерживает Ефросинья Ивановна,— при чем тут Дворец? Как мы ее ночевать-то отпустим? Все-таки чужой человек, мы вас не знаем...
— Так ведь жена... Она присмотрит...
Дмитрий Михайлович снова начинает рассказывать о себе, о Татьяне Федоровне, зачем-то хвалит свой дом — какой он просторный и светлый. Он говорит, говорит, а из угла не отрываясь смотрят на него детские большие глаза.
— Я боюсь одна,— дождавшись паузы, шепчет Ира.
— Мам, пусть она поспит у нас,— испуганно вступается за подружку Света и крепче сжимает Ирину руку.
— А то как же! — восклицает Ефросинья Ивановна. — Неужто здесь бросим?
Она подходит к Ире, проводит рукой по ее опущенной голове.
— Поспишь сегодня у нас? Со Светой, вальтом. Во сне не брыкаешься?
— Зачем со Светой? — это уже Пелагея Ильинична.— У меня место есть, на диване...
— Вы не возражаете, если кто-нибудь съездит к вам, прямо сейчас, посмотрит, как там Аленка? — вежливо предлагает Вера Павловна и краснеет.— Могу, например, я.
— Верно, верно,— подхватывает Ефросинья Ивановна, — надо взглянуть, уж вы не сердитесь. И Борис с вами, Верочка, вдвоем веселее.
— Если товарищ не возражает...— откашливается Борис Васильевич.
—
Конечно, я
понимаю,— торопливо соглашается Дмитрий
Михайлович, хотя ничего он не понимает:
кто такие все эти люди? Кто они для Иры
с Аленкой?
В тот вечер они долго сидят за столом в старом деревянном доме. Вера Павловна рассказывает об Аленке с Ирой, об их матери, несчастной Анечке, а Борис Васильевич, если что не так, ее поправляет. Впервые при посторонних Татьяна Федоровна достает из шкатулки фотографии мужа и сына, а Дмитрий Михайлович, волнуясь, горюя,— детские рисунки Саши.
Рвутся в бой танки с красными звездами на зеленой броне, падает самолет, сбитый врагами... Дмитрий Михайлович смотрит и смотрит на черный траурный шлейф, застилающий небо: мальчик предвидел свою судьбу, оставил о ней отцу вечную память.
Расстаются далеко за полночь. Гости уходят домой, совершенно за Аленку спокойные: действительно лучше один раз увидеть...
— Пусть отоспится,— великодушно решает Вера Павловна,— бог с ней, со школой. Надо восстанавливать силы, это я как врач говорю.
—
Значит, Ирочка
завтра приедет к нам, хорошо? — прощаясь
на крыльце, еще раз для верности спрашивает
Татьяна Федоровна.— Я отпрошусь с
работы, я обед хороший сготовлю... И
скрипку свою пусть захватит, тут и
позанимается, у нас места много...
Потом, когда обе выросли, когда Аленка стала учительницей, а Ира детским врачом, когда разъехались они со своими семьями по городам, а встретились на семидесятилетии Дмитрия Михайловича, Аленка уверяла сестру, что в эту снежную ночь и решилась дальнейшая их судьба. В эту, а не полгода спустя, когда после всяких сложностей и долгих переговоров, в которых принимал участие весь коридор, решено было отпустить сестер насовсем в домик у Волги: все равно с утра до ночи они там пропадали.
А тут и квартиры стали людям давать. В разных концах большого города оказались тетя Фрося и Вера Павловна, бывшая фронтовичка Наташа и старенькая Пелагея Ильинична, которая так любила купать малышей в большом деревянном корыте — всех малышей, по очереди. А Борис Васильевич умер, в одночасье умер, от сердца, и тетя Фрося рыдала, когда ей дали квартиру: не хотела жить без соседей. Да и Света всплакнула, потому что как раз влюбилась в Витальку из угловой, а тут уезжать...
— Правда, Ира, правда,— уверяла сестру Аленка. — Сквозь сон я все слышала: как они говорили о сыновьях и о нас с тобой — что нас нельзя разлучать,— о судьбе, о войне — столько сирот... Дмитрий Михайлович тогда и сказал: «Возьмем, Таня, девочек, если окажемся им нужны?» А Татьяна Федоровна сказала, что сама все время об этом думает.
— Ох и фантазерка ты, Ленка,— снисходительно смеяласьИра, привычно чувствуя себя старшей.— Ни капельки не изменилась! Не могла ты этого слышать, потому что спала. И запомнить этого не могла.
— А вот запомнила! — защищалась Аленка, встряхивая пушистыми, как у матери, волосами.— Володя, скажи, ведь правда у меня хорошая память?
Володя, летчик гражданской авиации, в щегольском, с погончиками кителе, влюбленно смотрел на жену и подтверждал, что да, память чудесная.
— А ты-то откуда знаешь? — поддразнила его Ира.
— Да
будет вам, девочки,— добродушно сказал
Дмитрий Михайлович, захмелевший от
бокала шампанского, вороха телеграмм,
огромного букета из театра и грамоты
от Дворца пионеров.— Экие вы спорщицы,
да, Танюша? Я и сам не помню, когда мы вас
взяли в дочки, теперь кажется, что так
было всегда...
Поздно вечером, почти ночью, уложив спать стариков, они, конечно, пошли на Волгу. За эти годы отстроили великолепную набережную, на длинных, вдоль всего города пляжах стояли грибки и разноцветные раздевалки, на той стороне, где раньше были огороды, вырос большой поселок. А в остальном Волга осталась прежней — могучая, широченная в этих краях река, ее особенный какой-то запах и плеск, далекие, в огнях, пароходы. И вода была теплой и шелковой, как во времена их детства.
— Помнишь Фросю? А Пелагею Ильиничну? — спросила Ира, расчесывая влажные волосы.— Как она малышню купала... Хотя ты тогда была маленькой.
— Как
купала — не помню,— призналась Аленка.—
А как Фрося провожала нас в школу и
велела надевать галоши, помню прекрасно...
Смотри, сколько огней на той стороне.
Съездим завтра, посмотрим поселок?
1986
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





