ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
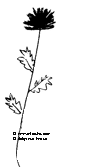

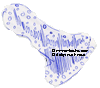
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ванеева Лариса 1981
Я написала этот рассказ, потому что не надо ничего забывать. Мы строим коммунизм, но забывать ни в коем случае ничего нельзя. Иначе постоянные будут накладки, и мы ничего не построим. Вот пятнадцать — двадцать лет назад в нашем сибирском городе Н. прошла повальная голубиная эпидемия, и теперь опять, буквально на днях. Опасный симптом. И это еще на фоне воинствующего вещизма и ведьмизма. Развелось очень много ведьм. Социальное разложение. Нужно бить во все набаты и вспоминать в печатных органах о темных страницах в нашей истории, чтобы больше такое не повторилось!
Говорят, в ... году...
Я не любила петь в хоре. И физ-ру не выношу. Всегда стараешься увильнуть от этих дел. Но благодаря учителю пения Шнайдерману школа занимает места на районных смотрах. Гонят всех на хор в спортзал. На скамейках расставят по росту и голосам наши четвертые классы. На пол недоростков, выше — нормальных, еще выше — нас. А я и среди «акселей» каланча.
Ведь пытка! Раскройте, дети, рот... А-аа-а... Теперь ты, теперь ты, теперь Ты. При параллельном «Б»! За что такая пытка! При параллельном Игоре Новикове и Гарике Михайловском... При всех остальных параллелях! Загудели гудошники. Этим всё нипочем. Гудят от пуза. Учитель страдальчески сморщился, как старая обезьяна в зоопарке. Зато мне шевельнуть губами страшно, не то что петь. А если вспою — ужас. Какая фальшь, какая фальшь! Передо мной, хоть дуй ей в золотистую макушку, наша Леночка — золотая серединочка, заливается серебристым голоском. Ax, заливается, упивается, и, мало того что красивая, приглашают ее из строя, и теперь солирует с учителем. Сольвейг.
Комплекснешься уж с младых ногтей тут.
Наш же учитель пения в богемистом шарфе, с тросточкой, одержим манией полюбить вас петь. Он так и говорит: я хочу полюбить вас петь. Я хочу любить вас петь школа, дома, переменка, улица... Урок! — подсказывает хор. Хиханьки-хаханьки... Старичок качает благородной обезьяньей головой, вдруг изящно извлекает непонятно откуда темную указку, привстает на цыпочки, точно пытаясь ею до чего-то такого высокого дотянуться, наконец дотянувшись под смешки до чего-то там и замерев, начинает опускать ее тихо, еще тише, сгибаясь следом, прислушиваясь... музыки никакой нет и все возятся еще пуще... но он тише и тише опускал ее, слыша какую-то свою музыку, и — странное дело — балбесня стихала. Весь хор замолкал, подчинившись его немой власти. Доведя беззвучную ноту до самого низа, старичок встряхивался и тогда уж приступал к занятию:
— Дети, сегодня я хотел повторять...— с милыми неправильностями жевал учитель слова, потому что он был немец, наш учитель пения, как и многие ученики сорок седьмой школы сибирского города Н., отпрыски сосланных в войну немцев Поволжья.
Дети! Шуман «Вечерняя звезда»... Киндер! «Форель» Шуберта.
Вот плещется форель в живой воде, как блестки серебра.
До сих пор не знаю, какой голос. Так и не пою. А могла бы. Поскольку слух у меня идеальный. Могла бы, не случись тогда того, что случилось. Рыбой была, рыбой осталась. Вот плещется форель... Правда, однажды, один лишь раз в жизни, в восьмом классе после уроков я запела низким контральто или меццо-сопрано (шут их разберет), как Мария Каллас, а точнее, Леонарда Дайне, отчего все кругом обалдели и полегли, и я тоже обалдела, сползла с парты, на которой сидела верхом, и на дрожащих конечностях уканала домой. С тех пор фигу. А жаль. Немо раскрываешь рот, но стоит запеть...
— Девочка, да-да, вот ты, девочка, приди сегодня после обеда... Скажешь маме, что я буду с тобой заниматься. У тебя хороший слух, но петь ты стесняешься. Это плохо. Разве хорошо, детонька, стесняться петь... Мы будем тянуть голос. Это необходимо, вытянуть голос. И тогда ты станешь петь ккак... колокольчлчичи...
Он
запутался в суффиксах.
Припрыгивая от возбуждения на своих «длиннотах», забыв, что на асфальтовые трещины наступать нельзя,— опять отец с матерью друг друга в упор не увидят, никогда не знаешь, возвращаясь из школы, разговаривают или замолкли на месяц,— я проскакала мимо голубя на колодезной крышке люка.
И вернулась.
Перья вокруг головки у него встопорщены, как жабо... Покосился, внутренне дернулся.
А-а-а! ... я помчалась домой с диким захлебывающимся воплем, ранец колотится карандашами по лопаткам, голубь на вытянутых руках — то к груди, то на вытянутых... Я воплю, перескакиваю через ступеньки, и в который раз в нашем огромном подъезде, где такой жуткий провал с сетками между перилами, мне хочется выпасть из жизни.
Я не хочу жить, ребята. Это ненормально, но это факт. Мы все тут приговоренные к жизни, ребята.
Чуткие предки, наградившие меня острой чувствительностью, быть может, ощущая вину, никогда не протестовали, если я или моя сестра притаскивали в квартиру разных божьих тварей с перебитыми деталями. Как сказал некто, всего-то и делов — не мучить животных. Дескать, на этом программа построения будет выполнена. Мать при мне мазала тварь йодом, перевязывала, поила лекарством, пропихивая птице в глотку чего-нибудь пальцем. И отсылала меня спать. Тоже насильно. В любой час суток. С димедролом или валерианкой. Я лечилась сном, травмированная. Уроки потом. Ребенок спит. Все ходят на цыпочках. Иначе затечет кровью глаз или из носа хлынет, или головная боль. Чуткий ребенок учился чутко относиться к своей чуткости, минуя тормозами объект, о который поранился. Или — это после уже — вообще за километр чутко обходя все острые и режущие предметы.
Дело
было не в голубях, а во мне. Итак, я
мчалась, с большой взвинченностью желая
швырнуть им голубя в породившие меня
--,--. Оттого, что кто-то ему обломал лапку,
а больно мне, они обломали ему лапку, а
мне было больно, и я хочу падать и биться
в падучей. Но дома никого не оказалось.
Дома была только меньшая сестра Сонька.
— Коробку, быстро! Вату и йод!
Я остановилась у зеркала, вделанного в дверцу шкафа, и показала себе в зеркале голубя — вместе с собой. Потом показала себе язык. И побледнела еще сильнее.
— Не знаю, где колобка...— приковыляла меньшая сестра Сонька.
— Я тоже не знаю, где колобка, но, если ты ее не найдешь, я тебя побью, так и знай. Сходи в магазин и попроси.
Наконец она отыскала где-то завалящую обувную коробку, которая была тесна голубю.
Надо привязать его за целую лапку к балкону, решили мы, чтобы не улетел или не свалился с нашего седьмого этажа.
— Принеси крупы.
С балкона, опоясывающего весь седьмой этаж дома, седьмой и последний, с купидончиками над арками окон, виден был широкий окрест и купол оперного театра в кипени молодой зелени.
— Принеси воды.
Гипсовые толстые перила безобразно загажены птицами. Целыми днями они курлычут и топчатся на балконе, пока кто не выйдет и не шуганет стаю. Известка и птичий помет перемешались — не отличить. У Соньки глаза круглые от ужаса.
— Не смей реветь!
Я смочила ватку йодом, прижала к голубиному обломанному черенку, голубь затрепыхался, вырываясь, больно забил крыльями.
— Бинт! Марлю! — закричала я.
Сонька бросилась в комнату.
— Я вот расскажу вашим родителям, что вы тут делаете, бесстыдницы,— я и не заметила, как Валера вышел из своей комнаты на общий балкон.— Это ты зачем пакость в дом таскаешь, а? И лапу ему ломаешь зачем, а... Такая маленькая, а так нехорошо поступать...
За его спиной вздымалась отвратительная кисея серо-буро застиранного цвета — из его же занюханной комнаты. Он вмял окурок в жестяную банку, прикрученную проволокой к перилам. И вдруг опустился на колени и стал подползать к нам. Мы пристально, оробев, на него смотрели, а он плывущими карими зрачками на нас.
— Девочки, зачем вы губки красите... Какие красные губки... вы маленькие еще губки красить, я вот скажу вашей маме, подойди-ка ко мне, я оботру...
И он протянул руку. Сонька вцепилась в меня, и мы онемели.
— Девочки...— он подвинулся совсем близко.
Теперь я так рядом видела его жесткие сухие губы, которые он облизал толстым языком, в хвоинках рыжевато-седой небритости.
— Девочки,— прохрипел он.
И — вот так — сделал губами. Удивительный шарм.
Шар-ман...
—
Занимался с
тобой сегодня Теофил Петрович? — я
оглянулась. За нашей спиной в инвалидной
коляске, шуршащей шинами так тихо, как
змея по песку, улыбалась нам светловолосая
Линда.
Был портрет. Чудесное лицо. Ни у кого я не видела больше такого чудного лица. Лика. Афинская дева. Мокрые пряди струятся по щекам, как цветок Ласочки, как ее вишенка, цепляются за корочку высохших от страданий, чувственных губ. Мука, высота неимоверная и благость. Лепная, восковая чистота. Точно горящая свеча, вся она тянется вверх, распяв глаза свои. Зрителю. И всё это под душем, на фоне мокрого кафеля, в ванной... Полгруди срезано кадром. Ясно, что снимали голую.
Муж Переплетчиков, когда еще был, сфотографировал ее и, склонившись, не боясь замочить модный чуб, поцеловал в желобок шеи, выемку между ключицами, где собралась капля воды. Точнее, выпил с нее воду, отведя «Зенит» за спину, как бы спрятал руки, чтобы не касаться, в священном равнодушном трепете, профилем своим походя на персонаж картины «Поцелуй Иуды» одного из малых голландцев. А Линда, как свеча на скозняке, вытянулась и поплыла, зажмурившись, подумав, что за такой миг можно отдать и жизнь, и горбом остро и холодно сада-нулась о режущий кафель.
Вот, однако, странная манера — все разом ставить на карту. О миг! Сколько таких мигов было и будет. Но нет, жизнь ничему не учит. Снова лезть в огонь: пусть потом будет плохо, даже пусть потом специально будет плохо, лишь бы сейчас... сейчас. Нет, дай такую любовь, чтобы тут же и откинуться... разбитое сердце. Вот даже как.
Когда-то была осторожней. Острые выступы костей, вилки ключиц, тяжелое, намного тяжелее других, изможденное, бренное тело, обтянутое пергаментом, еще один громоздкий корсет плоти, как тот, металлически брякающий, сверкающий, поскрипывающий ремнями въедливых застежек и зажимов, в который ее обрядили на долгие годы после того, как девочкой упала с седьмого этажа легким своим, нежным тельцем, пропарила пушинкой, спружинив на ветвях тбполя, и теперь думала, что упала тогда не случайно, намеренно, в силу осторожности перед жизнью, желая развязаться пораньше, чтобы не мучиться. С урока сбежать. Есть отличники, есть двоечники, а есть, которые сбегают... Глупые уроки. И еще заставляют меня петь. Не только выучи их уроки, но еще звени и пой сутки напролет.
И
вот так странно получилось. Выпасть,
казалось, для того, чтобы больше не
страдать, чтобы не видеть их больше, не
слышать, не знать, но тем самым и заработана
была настоящая потная мука, крест и
Голгофа, и помочь некому, поднести,
подставить плечо,— и отныне уколы,
клиника, операции, инвалидные коляски,
отныне и вовеки веков,— то есть как бы
предчувствие муки спровоцировало самое
муку, а желание избежать — приблизило...
и она попала точно в лапу своих мучителей,
прямиком в крепкие звериные объятия...
и его
повели, но не в «воронок», а в газик
обыкновенный с жесткими лавками,
решетками и запахом блевотины, куда
патруль подбирает вечерами разбросанных
по дорогам работяг, хотя — и это смешно,
конечно,— мечталось, да, вот именно
мечталось, как это ни смешно! — что
пригласят в черную «Волгу», по бокам
два джентльмена, щелкают наручники,
небоскребы, Европа, окосевшие
прохожие-разини, не успевшие захлопнуть
варежки... с усталой победной насмешкой
он их пожалеет... машина рванется с ходу,
и стая голубей на брусчатой площади
пырснет по
обшивке, а одно, несвежее, с вспотевшим
пухом крыло острой траекторией вспорет
воздух перед самым его носом, и он
откинется расслабленно на мягкое,
прошитое полосами сиденье, которое
своей кожаной комфортностью и прочностью
всю жизнь подозревал в себе, носил в
себе, как истинный немец, и подумает,
что он еще немного и русский, уже немного
и русский, и никогда русский не говорит
о свободе, но требует волю. Воля-волюшка
— разгуляй-размахнись плечо, из-за
острова на стрежень катится голова
Пугача... Анафема! И не воли ли он захотел,
вот что он подумает, чтобы наконец... о,
очень скоро... и тут он посмотрел с живым
любопытством на каменные профили
сопровожденцев... чтобы наконец-то
получить свободу.
— Ну что... что он сказал о твоем голосе? — улыбалась нам Линда безмятежно. Стерва безмятежная. Валерка стряхнул колени.
— Как колокольчи-ччи... чиччи...
— Правильно. Ваш учитель очень хороший человек, девочки. А вот с этим дяденькой я вам разговаривать не советую.
Из глаз Линды, как из белесых фар, полился на Валерку уничтожающий свет.
— Балкон общий, а птица гадит. Натаскали тут. Птица должна летать, а не прыгать. Все равно зимой каюк. Кошке отдать. Скоро постановление выйдет, готовится уже, голубей всех уничтожать, потому как производят порчу памятников,— задолдонил Валера, отводя взгляд.— Капают памятникам на лысины, а оне обтереться не могут. Это я оботрусь, а оне не могуть. А я, может, тоже обтираться не хочу, мне, может, уже во где, когда на меня! — и тут Валерка, сморгнув, тоже уставился на Линду.
— Да кто же на вас... так делает, Валерочка? — насмешливо, но и беспокойно спросила Линда.
— Я... эта... Я знаю, кто.
— Да кто?
— А вот кто-то,— торжествующе сказал Валерка. И мрачно.
— А вы не ошибаетесь ли? — снова насмешливо, но уже как бы и затравленно вопросила Линда.
— Саперы ошибаются только раз!
— Ну-ну,— иронически сложила Линда губки. Только они у нее мгновенно пересохли.— Хочешь посмотреть портрет?
— А вот не хочу! — сказал Валерка.
— Как — уже? — натянуто улыбнулась Линда.
— Сто лет мне..., если захочу!
—
Девочки, не
слушайте его, вы еще маленькие,—
беспокойно перебила Линда, дернула
своим колесом. — Пойдем посмотришь
портрет, Валерик. Ну иди же! Идем... Вези
меня.
Вот так я и запомнила Линду. По портрету. Во всю стену над ее тахтой, точно фотообои, составленные из частей. Ее портрет, который перед изумленными зрителями, поражая своей наготой, говорил откровенно, что и ее любили, и даже как бы подталкивал к мысли об еще одной возможной любви, расширял сознание... уж сосед Валерка-то наверняка был не прочь и как знать... но не благодаря ли именно портрету, на который было смотреть не так неудобно-страшно, на который можно было сполна пролить жадность к чужой, вдобавок уродливой, что еще больше подогревало животный интерес, жизни, чтобы потом сопоставить с рваными злыми взмахами колес «инвалидки», с этим вечным стуком и злыми раздраженными резкими криками из-под щели двери на тихо бормочущую мать, она запомнилась так ясно, точно я вижу ее лицо в своем зеркале, все еще ожидая, ожидая своего Переплетчикова, сурмя лицо и отталкивая холодное стекло... Ну, а Валеру зрительно мы не запомнили (и тут я говорю мы, потому что нас было двое перед ним, ползущим к нам на коленях, я и сестра Сонька, как два выросших на полянке грибка, один побольше, другой поменьше, с едиными корнями грибницы), однако и не запомня, и с закрытыми глазами узнали бы его в толпе по тому мистическому ужасу и влечению, что он нам внушал, так он был четко отлит в некую форму Валеры, разгуливающую по проспектам...
О, как билось, как трепыхалось мое напуганное сердечко, как я даже принималась подвывать в голос с сестрой, скребя известковую стенку с изученными наизусть трещинами профилей и рисунков, с любимыми картинками голой стены, и отколупливая то тонкие, полупрозрачные пластинки верхней краски, то прямо ошметки штукатурки, которые ссыпались на плинтус под кровать, пока ты там, за стеной, насмотревшись на Линдин портрет и, хорошенько затем поддав, избивал свою жену Нинку, Валера, пока ты там под странные краткие эйфорические вопли ее прикручивал ей полотенцем ноги к шее, а закрутив до предела, как завертывают щепкой коньки «Снегурки» на валенки или испанский сапожок на твоей работе, измочаливал ее пинками в месиво, при каждом ударе, однако, не выкладываясь в полную силу, но оставляя еще некую незавершенность, некую невозможную щемящую сладость, в которой заключалось продолжение Нинкиной жизни, кричащей «Бей, бей, садист... Убивай! На! Бей!». Она это уже начинала кричать, когда ты только появлялся пьяный во дворе, и она, заслышав твои глухие, твердые, каменные шаги на лестнице, налитые свинцом злобы, бухающие бетонным эхом застенков, металась по квартире, хваталась за детей, просила ее спрятать, однажды втиснулась в наш коридорный шкаф, а потом вылетела к нему прямо под ноги, сама и кричала: «Ну, Ниночкина, так тебе и надо... Бей, бей, садист! Убивай!» Глупо ухмыляясь, Валерка «ложил» кулек с гостинцами для детей на стол, медленно разворачивался и давал ей кулачищем в ухо... Первый удар.
— Это издевательство, так издеваться над человеком! Когда это кончится! Это издевательство над всеми нами! Нет, я не могу больше терпеть!
— Не смей ходить туда! Сами разберутся. Я запрещаю тебе ходить туда! — мелькнув белой тенью, как луч проезжающей машины, отец преградил маме путь.
— Ты равнодушный, страшный человек,— сказала мама. И мягким нежным голубым облачком шелка скользнула по лунным квадратам ночной комнаты прочь от него. Зависла под потолком.
— Хорошо, я эгоист,— потух отец, и посреди комнаты образовалась черная дыра.— Но почему нам дали, а другим нет?
— Потому что я обивала пороги инстанций...
— Другие тоже обивают,— цыкнул отец.— Другие тоже ждут десятилетиями, тоже обивают пороги годами, побольше, чем мы с тобой, а получают шиш... А моя идет к какому-то Федотову, и нате вам, пожалуйста, отдельная квартира... Надо же, какая трогательная забота государства о населении!
Облачко затрепетало:
— Что ты имеешь в виду?
Светящийся вопль, как чадящая ракета, пронесся за стеной белой огненной лентой.
— Жить в квартире, полученной таким способом...
— Каким?! Каким способом полученной! На что ты намекаешь?!
— Это уж тебе лучше знать — каким.
— Договаривай!
— Понимаю, семья, дети слушают это безобразие за стеной каждый день... У вас, женщин, на все тысяча оправданий. Но извини... Я жить с тобой после этого не смогу...
— Да ты... да ты... да как у тебя язык-то... как ты мог подумать...— в отчаянье заломило облачко руки и заметалось по комнате, как по клетке.— Ммм, тяжко мне...За тебя мне тяжко... Как я только могла с тобой, дура... Как раньше не разглядела... Дура я, дура... Да убирайся ты, давно мечтал, так и уматывай! Без тебя проживем еще лучше! Думаешь, не проживу?!
— Ты-то проживешь, не сомневаюсь. Вот только как дочери.
— Что — дочери?
— По суду я мог бы забрать их себе. Распутная легкомысленная женщина не имеет права их воспитывать. Но, зная твою привязанность, я возьму только одну. Мы с ней останемся здесь.
— Здесь?
— Здесь. А ты можешь съезжать на новую квартиру. Вместе с Егоровым.
— Каким еще Егоровым?!.. Ха-ха... Ох и подлец... Ха-ха-ха... Нашелся, подлец. Да ведь ты уезжать-то отсюда — не хочешь! Думаешь, не знаю, думаешь, не догадываюсь... что вы там все вертитесь возле ее портрета... Ох, ну и сволочи же!
— И ведь счастлива! Ведь на шею бросилась: «Нам дали квартиру!» Значит, Федотову, потом... кто еще... председателю исполкома... Захаров, Егоров... всех обошла,— отец скукожился и застонал сквозь зубы.
— У-ю-юй...— сорвался за стенкой заячий визг и вслед за тем удар. Замолкли.
—
Нет, я с
ма-мой! И я с мамой! — взвыли мы с Сонькой.
Был он захвачен иль схвачен врасплох? И за решеткой спортзала (конечно, нет...), где мистер Икс раскладывал на заляпанном пианино сочинения немецких композиторов, он не случайно усек подъезжающий «газик».
В классах-сотах жужжала вторая смена. Урок. Коридоры пусты. Они правильно выбрали время. Но он не думал, что в школе. Должны были вот-вот прибежать, отобедав, детки с первой смены. Леночка из 4 «А», Светик из «Б», Анхен... И высоконькая такая девочка, болезненно стеснительная, тоже из четвертого, Линда за нее просила. Милые деточки... .
Да, я должна была прийти, чтобы вытянуть голос, скоординировав его со слухом. Слух у меня абсолютный. Я сидела за кухонным столом и давилась супом и слезами.
— Не болтай глупости! Не болтай ногами! — строго приказывала распухшая от ночных и утренних слез мама.
— А если... а если он меня отсудит?
— Не отсудит! — сердилась мама.
— А Соньку?
— И Соню.
— Ну тогда скажи... скажи, что ты меня больше любишь!
У раскрытого кухонного балкона в коляске сидела Линда, свесив до пола прозрачные на солнце волосы, крошила хлеб нашим больным птицам, улыбалась загадочно. У груди она грела воробышка. Дунет ему в носик. Тот зажмурится. Или в шейку — воронка пуха. Воробышек— любимчик богини любви. Римские девы держали при себе воробышков, как попугаев или канареек. «На смерть воробышка» написал Катулл и тем самым положил начало лирике.
Четверо, разминаясь и поскрипывая невидимой портупеей, вышли из машины, оставив внутри тень шофера, который нахлобучил кепи на переносье и сполз вниз, чтобы подремать пока.
Четверо скучно шли к школьному крыльцу, как бы пощелкивая хлыстиками, неторопливо, на бетонном прогретом крыльце остановясь и оглядевшись, словно что подсчитывая в окнах.
Шнайдерман Теофил Петрович отскочил от решетки (ведь он был еще не за... решеткой, а пока перед...) окна спортзала, когда они добежали до него взглядом. Короткая его тень метнулась через козлы и маты, перепрыгнула толстые пыльные столбы солнца... Мистер Икс откинул крышку пианино, сел и только хотел опустить пальцы на клавиши, мимикрируя под учителя, как Шнайдерман одернул их, будто обжегшись звука, сгреб рассыпающиеся альбомы, вскочил — снова коротким мячиком прыгнула тень через станки и пыль, ноты разъехались, он нагнулся поднять и понял — надо бежать... бежать же надо!
Он взбегал по стертым ступенькам, сухонький, легкий, обезьяноподобный, с развевающимся шарфом, постукивал невпопад тонкой тростью. Седая грива как пушок нимба. Вот туннель, дощатый коридор, уборщица вымыла, просыхает пятнами; скользит, прихрамывая, как галантный танцор, учитель танца раз-два-три-с, учитель пения злосчастный концертмейстер, и вот чего он больше всего страшится — ученичка-пионерчика, возвращающегося из уборной с блудливой скверной в рыжих зрачках. Он туда побег, дяденьки! Дяденьки, а хочете, хочете, я его сам щас словлю!
Однако сил хватило до учительской на втором этаже... Как бы вот он — учитель и больше ничего. Учитель и больше — под учительской маской, ничего и никого. Да и на самом-то деле, кто еще? Нет никого и ничего, ни пота, ни крови, ни желаний, ни отправлений. Высох уже. Стар.
В большой комнате завучиха трудилась над отчетом. Запыхавшись, присмиряя дробный шажок, цепляясь тростью за столы, добрался он до нее и... и... не могу ничего... сказать... Ухватился потными мякишами ладоней за полированный край.
Завучиха подняла длинное лошадиное лицо за модными толстыми стеклами и вдруг неудержимо помидорно начала заливаться краской.
— Это недоразумение... я прошу вас... вы должны им... разъяснить,— залепетал бедный старик, боком, истово, как птица, вглядываясь в завучиху, как бы вдвигаясь, пытаясь впрятаться в нее, стать ею... и понял — она уже знает... Ей уже позвонили... заранее... предупредили администрацию, что придут... может, сама и позвонила, сорок пять минут, окно, постарайтесь уложиться, дорогие товарищи... Тут взгляд его упал на телефон, и она, заметив это падение, вспыхнула шеей и красным треугольником на открытой кримпленовой груди.
Те уж выходили из пустого спортзала.
Ну да, понятно, дома им было забирать не с руки. Лишняя огласка. Дома — вокруг соседи. Тоже немцы. Что поделаешь, он один был интеллигентом в этой малой этнической группе обрусевших колхозников с Поволжья, сосланных во время войны. Кое-как они еще лопотали на родном языке между борщами, очередями и лавочками у подъездов, а уж их внуки еле тянули на тройки по своему родному немецкому же, и он должен был спасти свою культуру. Что, однако, было с них взять, с этих толстых клуш, чему они могли научить детей своих и внуков?
Ничему. Вот так.
Шнайдерман учил. Он учил их петь. По-немецки тоже. Он учил петь всех.
Так уж случилось, что учил нас петь немец, и против факта не попрешь.
Он подталкивал завучиху к выходу, почти любовно, щекоча усами ее воспаленную дряблую грудь, подталкивал метр за метром настойчиво, ласково бормоча, и торопливо, в торопливом возбуждении — к открытой двери, уговаривал, тискал, подталкивал и наконец вывалил ее в прохладный проем, злобно перегнулся сам, рванул дверь перед ее сизым унылым носом и повернул на ключ.
В скобу сунул ножку стула и трость. Крест-накрест. Шпага и меч. Пусть теперь попробуют...
Дверь тотчас задергалась:
— Теофил Петрович, вы с ума сошли! Откройте! Теофил Петрович... Товарищ Шнайдерман! Это возмутительно!
Он потер сухие теперь ладони, хихикнул.
Главное, дождаться звонка. Дети помешают. Высыпет орава детей. Защитят любимого учителя. Они не посмеют. Они спасут.
Но разве дети их когда-нибудь останавливали?
Разве остановил их сынишка Генриха, его друга-коммуниста, немецкого антифашиста, когда за ним пришли ночью еще тогда, в 37-м, и десятилетний мальчик в пижамке прыгнул, как белка, к тому, что стоял у двери, и укусил его за палец, и тогда другой разрядил пистолет... Отца увели, а сын навсегда остался лежать лбом в ботинки, под вешалкой, у колеса своего заляпанного глиной велосипеда.
Те времена давно прошли, скажете вы, и только некая инстинктивная затравленность одного старшего поколения, наших отцов и матерей, на которых мы тренируем наше злоязычное бесстрашие, и от которой тихо бесимся, презирая их за это, напоминает нам о давно прошедшем, таком плевом, такой... Стоит ли об этом опять начинать?
— Он закрылся,— приглушенно сказала завучиха.
Она постучала:
— Мистер Шнайдерман, дорогой, да что же вы, фройнд... Мне журналы классные проверять...
Пустой спортзал настежь. Гуляют по полу ноты на сквозняке. Солнечные квадраты решеткой лежат на полу и ползут по стенам. Я стою посреди пустоты и гулкости, а завучиха, засунув мокрый сизый нос мне за шиворот, за кружевной воротничок, булькает в ухо:
— Ваш обожаемый Теофил Петрович, дети, оказался плохим человеком, дети, отныне он не будет вести у вас хор, этот старый немецкий козел, потому что он... хих-и.... развратник и развращал самых красивых девочек нашей школы под предлогом того, чтобы научить их петь, а сам фотографировал их в спортивном трико, или без, или в одних штанишечках и маечках, или даже без маечек и комбинашечек, а в одних штанишках, или даже без трусишек, дети, а заставлял их раздвигать свои ножки под предлогом того, чтобы научить петь и сделать из них знаменитых певиц, вот он каков оказался проказник нехороший мистер Шнайдерман...
Леночка, значит, Леночка, которой я так завидовала, значит, Леночка раздвигала свои ножки... и мне тоже сказал прийти... и все будут думать, что я у ж е приходила и фотографировалась в спортивной форме, которая на мне так отвратительно висит... или даже б е з... все так решат, раз сказал мне громогласно прийти после обеда. И Леночке, и Светику, и Анхен... и как же теперь Леночка, Светик и Анхен... будут жить... после такого позора и разоблачения... ведь они много раз оставались после обеда, и теперь у него в коллекции... порно-графия, вот как это называется, и теперь их будут пороть их родители... фотографии, как у Линды на стене... значит, и Линду он снимал! Ну конечно, они приходили все к ней и закрывались на ключ, и говорили так тихо, будто там никого не было, включали музыку, а на самом деле они снимались! Не зря же дядя Валера подслушивал, заглядывал в скважину... А значит, и я красивая девочка?., нет, стыдно, стыдно... как же теперь людям в глаза смотреть... после такого позора и разоблачения... нет, я бы повесилась, отравилась... спичками... спичек съесть целую пачку... головки обгрызть... когда же кончится этот урок... квадраты заливающего солнца из огромных окон, занавески шевелятся как мускулы, доска черная, и нужно посмотреть на зеленые деревья и небо, чтобы отвлечься, стало лучше и не кружилась голова... Вдруг из черной доски вылезает мерзкий слюнявый старикашка. Все плоскости класса странно замыкаются на нем, точно от парт и от стен тянутся слюни. Где-то за ним ходит туда-сюда завучиха, указкой стучит прямо по старикашкиному черепу. А он в паутине и грязи зовет меня к себе в чулан, зовет и зовет, и подмигивает красным глазом, срамно похихикивает и шевелит пальцами, похотливо шевелит пальцами, и я, будто не своя, будто под гипнозом, иду к нему, медленно и ровно иду, иду к нему, будто завороженная, и вот уже ледяные скрюченные пальцы бегают по моему тельцу и забегают т у д а... и мне от этого так невыносимо, так ужасно и так... мрак.
Дверь в тряске выкореживалась из пазов. Юродивый старик хрустел суставами, то подбегал к ней поправить выскользающий стул, то отбегал за дальний шкаф к зеркалу и мыльницам, где обычно молоденькие училки крутились на переменах. Что делать?! Стул, расшатавшись, выпал. Что я делаю... ведь все одно никуда... щелк! как струна лопнул замок... трость пошла белым древесным мясом. Он посмел приблизиться. Взял стул, чтобы воткнуть еще раз ножку, но вместо того в страшной слабости сел.
Зачем мне это все было надо? Зачем? Майн гот, какой думкопф, какая старая дурная башка... Сельский домик, удочка, природа и тихие безмятежные дни старости... И вместо того вся эта болтология за столом, все эти чаепития, их сопливые ублюдки, не ведающие о... Никчемное лидерство! У Редикопов, Веберов, Фрюшенбахов... майн гот, майн гот... Ведь ясно заранее, как день, все это ни к чему не приведет... Отличиться захотел? Покрасоваться? Майн гот, пусть минует меня чаша сия... Линда, деточка моя, покрасоваться захотел перед этой бедняжкой, перед этой горбуньей, уродкой чертовой, доннер веттер нох айнмаль!
И вдруг мистер Икс-Шнайдерман, застыло уставясь в пляшущую дверь, которая без особого шума, но раскачивалась, открываясь все больше и больше, вдруг взором ушел в себя, выпрямился, потянул носом и еще часто, как собака, попринюхивался... Как вдруг вспыхнув, как алая девица, всплеснул в комическом ужасе перстами и в панике — дверь уж раздвигалась — не снося такого позора, сиганул в раскрытое весеннее окно, приземлившись прямо на струящийся под ветром серебристый газон, на подогнутую ногу, которая тут же, вместе с тростью в двери, и хрустнула.
А вот скажите нам, Теофил Петрович, так ли вы уж Шнайдерман, и не выяснится ли, если хорошенько подумать, что вы вовсе и не Шнайдерман, а какой-нибудь мистер Икс без роду, без племени, завезенный в наши стратегически-оборонные районы для разведки и подрывной деятельности, чтобы наши угольные копи взлетели к дьяволу, а вы радовались, тряся усатой бородой, как старый проказник-бабник...
Погодь, он у меня еще не так заговорит! Кричал, распалясь, Валера и как петух вырывался вперед. Красное и бетонно-железное, нещадный сноп лампы и снова красное, красным заливалось все.
А вы радовались, ну-ну, не отворачивайтесь, дорогой мистер, теперь это уж наша с вами судьба, яркий свет, вы говорите, пульсация, ничего не можете сообразить, а кому это надо, чтобы вы соображали, раньше надо было, а теперь что ж... теперь мы оставим вам ваши подтяжки, так и быть, уж извините, дорогой, не углядел, забыл, каюсь, извините, оставил вам ваши подтяжки...
Можно мине? Примерным учеником выскакивал Валера, и его снова останавливали, отодвигали в угол.
Ах не фашист, вы коммунист, вы были коммунистом, когда я еще под стол ходил... Согласен, что ж... Да ведь и нам чужда расовая или национальная ограниченность. Наоборот, инородность вызывает в нас умиление, пятый пункт — этот маленький физический недостаток... вызывает в нас сочувствие... Мы ласкаем взором негров, к примеру, чтобы поддержать в них дух, чтобы они не комплексовали так из-за своей кожи... Ах, как мы добры! Мы всем хотим блага и добра, и всем помочь, поддержать под локотки... Да, нас волнует каждая разноцветная пядь земли, на всех мы хотим излить мир и счастье полной чашей, полными ковшами... а не то, что вы, серый примитивный... останься, Валера, ты нам еще пригодишься... учитель пения, возомнивший себя хранителем национальных традиций и заставлявший наших деток садистски ломать язык на какой-то тарабарщине.
Не-ет, не могу больше, хрипел Валера и разрывал на себе тельняшку... Кулак, как молот, и череп трещит под его кувалдой... режущей болью восторга в паху и — о! это его череп разламывается на части!
Ты поможешь нашему мистеру справиться с подтяжками, но пока, увы, он еще должен кое-что подписать, дабы ограничились выговором за мою непредусмотрительность... выговоров у меня... А для этого нам надо разобраться, кто есть кто, в наших с вами заклятых-закадычных-друзьях-врагах, пивко которых я попиваю, только вот для кого, действительно, друзья, а для кого враги... И кто я такой, хотите вы знать? Как — и ты еще не понял, учитель?! Я — вечный, не жид, конечно, жидню, дорогой мистер, вы поубивали их во время своей войны, а я вечный любящий друг твой, дорогой мой учитель, и мы совокупимся с тобой, вот погоди, в нашем вечном замкнутом круге и кольце, палач и жертва, и, ненавидя, люблю... обратите, кстати, внимание на соседа лучшего вашего Валеру...
Ведь бил он жену свою? Бьет по-страшному. По-черному бьет он жену свою любимую Нинку и вот-вот забьет насмерть. А почему? А потому что — привык и по-другому уже не сможет. Не стоит у него по-другому, наивный вы наш чудак... Да ведь и ты, таясь, когда хор свой немецкий набирал, разве не понимал тогда, дирижируя своей палочкой, что тем самым зачал вонять, как самка насекомая, а я уж прилечу, я уж услышу тебя за тысячу верст и прилечу к тебе на твой призыв, я уж завсегда готов, чтобы совокупиться с тобой, потому как ты мне бросил вызов... в то время как мог бы сидеть тихо-тихо и не испускать... Мог бы? Сельский домик, речка, удочка... Ну так как? Знал? Ну вот видишь, если не знал, то догадывался... Ну вот видишь да? Ну, я чувствую, мы с тобой договоримся. Подписать хочешь? Побыстрее хочешь — подписать? Подпишешь что угодно? Ну это погоди, это ты постой, это ты зачем уж так спешить-то... К этому и я еще не готов.
А вот давай мы с тобой лучше обстряпаем, значит, одно дельце, прежде чем попросим нашего Валеру помочь с подтяжками, обстряпаем, значит, дельце, да хорошенько, в деталях художественных, чтобы комар носа не подточил... Девочки-то тебе, старый черт, не просто ведь так, голосишки вытягивать? Ну признайся, да не красней ты, обезьяна чертова, сколько лет, а краснеть не разучился, как маленький, ей-бо, а признайся лучше, что-то здесь такое, ммм? ...Вот где мы нашу слабинку и отыщем, человеченку нашу, слабищу отыщем и обсмакуем, верно? Хороша версия, а?! Скажи, чего-чего, а такого поворота не ожидал, точно? Гениально! Что хошь ожидал, а такого нет, и дочек лучших своих друзей, немцев твоих уважаемых, уточнять не станем, кого именно, сами разберутся, сами скрывать будут семейный позор да по углам перешептываться, друг на друга показывая, нет-нет, перебарщивать тоже не будем, понимаю, импотент, слюнявый ты мой учителишка, но девочек-то мы малолетних фотографировали-с... да-с...
— Ах
ты, гад ползучий! Да я его не на подтяжках,
я его на шарфе удавлю! — вскричал Валера.
Тревога поселилась в нашей квартире. Линда ни с кем не разговаривала, в комнату на портрет не пускала. Целыми днями она крутила у себя Баха. Мы с Сонькой подобрали на улице еще десяток голубей с черенками. Кто-то ловил их, ломал и отпускал. Валерка сидел за кухонным клеенчатым столом перед нашим отцом и каялся. Отец наш имел обыкновение время от времени «ходить в народ». Он приводил какого-нибудь пьянчугу, печника дачного или алкаша подзаборного с биографией, повелевал маме жарить мясо и ставил бутылку. Все это обсужде-нию не подлежало. По тому, как наш отец сидел, как смотрел, в нем угадывался могучий ум, и печники, робея, выкладывали ему всю подноготную, и редко кто пытался тягаться с ним волею.
Вот так раза два он и с Валерой выпивал. А Валера плакал. И голубой отцов взгляд последовательно отражал смущенное удивление с легким оттенком отвращения, потом холодел, а потом изнутри выбивались боль и тоска. Он цыкал, как мальчишка, сквозь зубы, наливал Валере и снова цыкал. А Валера все ниже и ниже опускался перед ним, будто сидел на скамейке, а Валере становилось все тошнее от себя, и у Валеры уже начинался галлюционный бред, и снова перед строем их выпуска, перед строем молоденьких курсантов шел тот, наводящий холодный ужас, легендарный человек и заглядывал им прямо в душу. Ни живы ни мертвы, подтянув животы к спине, с остекленевшими зрачками, со струйками пота по позвоночнику, они прямо и преданно, не сморгнув, смотрели в никуда перед собой, пока он ходил, заглядывая в их глаза, как в дыры, как в замочные скважины, прожигал насквозь, чтобы там, внутри, ничего не оставалось... и что он там мог отыскать-то... их деревенское навозное детство, коров на лугу, речку с воронкой, мельницу, единственное облачко на голубом небе, мамку с ведром парного молока... и сивухой разило, украденной и выпитой тайком на сеновале... На следующий день они недосчитались полкурса. Был расстрелян каждый второй.
А каждый первый с того часа... плача, Валерка мотал пьяной башкой и сжимал зубы, чтобы не проговориться. Его Нинка постанывала в кровати или тихой тенью, в чудовищных фингалах, но как бы удовлетворенно, почти счастливо, точно прошла гроза и теперь все умывалось, светилось изнутри, и изломанное, грелось и тянулось к живительному солнцу, стирала пеленки и неслышно развешивала в ванной или на балконе. Купол оперного театра блестел острыми металлическими лучами.
А к вечеру Валера удавился в сортире. Не найдя ничего подходящего, не намылив, не приготовившись по-людски, Валера просто-напросто повесился на собственном ремне из кожзаменителя, долго мучился, извивался, пока петля не затянулась, а она никак не затягивалась, но наконец ремень пошел. Валера пошаркал дырявыми носками по кафелю, руки он себе связал, чтобы не опираться об узкие стенки, и уже хотел стать на цыпочки и прекратить это дело до лучших времен, как захрипел и кончился... Ремень же, повисев еще и расстянувшись, точно жилы, бесцветным прозрачным пластмассовым составом, лопнул, и Валерии труп плавно осел в унитаз, так что Валеркин старшой, заглянув из ванной комнаты в соединительное окошко, кричал мамке Нинке, что папка опять напился и уснул на горшке.
Час за часом проходил, в дверь стучали, но без толку. Пора уж было ложиться спать, и мы с сестрой ходили и жались и писали в ванну, а Валерка все не просыпался, не открывал. Мои родители угрюмо сидели в комнате, по обыкновению не вмешиваясь. Взвинченная Нинка побежала за управдомом, грозя пятнадцатью сутками.
Вместе с управдомом пришли еще какие-то слесари, побили сапогами в дверь:
— Ну ты, падла, проснешься когда-нибудь или нет? Открывай!
Один разбежался, врезался в дверь. Шпингалет изнутри отскочил, дверь выломалась, и пока он выдирался из щепок, несчастная, залившаяся стыдом Нинка с одним пацаном на руках и другим у юбки ждала своего череда, чтобы забрать папку из унитаза. Не первый раз уж так Валерка кемарил на очке, и не впервой вышибали дверь, раз он загорелся там, в унитазе, наш папка, и дым пошел, ядовитый от линолеума, ой, мамка, а у папки фуй торчит,— сказал старшенький и застеснялся в Нинкин подол.
Огрузнув
и сдавившись в унитазе, со спущенными
от выдернутого ремня портками, Валеркин
труп, посинев, налился кровью как раз в
торчащем между волосатыми бледными
ляжками столбе, тот отвратительнейшим
образом взбух, цвета носа завучихи,
размером превышая все известные нормы
и анормальности, и с удавленной Валеркиной
плеши свалилась на него кепочка, так
что не сразу и разобрались, где голова,
а где кепочка... приняв вначале одно за
другое.
Я лежала в гипсовой коросте у своей стеночки и колупала известку, недвижимая после моего полета теперь, как личинка-куколка, и мне так хотелось стать бабочкой. Я думала, что теперь, как только расколют с меня этот панцирь, непременно стану, как Леночка, буду танцевать, петь и смеяться, всегда танцевать, петь и смеяться, на радость себе и людям. Посмотрите, какая девочка! Какая веселая девочка, она всегда смеется, с ней не соскучишься. Как хорошо быть таким веселым человеком, повезло тебе такую веселую легкую бабу иметь, а моя выдра, стерва, на роже у нее написано, что стерва и сука выездная...
Иди ко мне, моя деточка!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





