ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

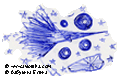

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Берберова Нина 1960
— Прощайте, друзья! — сказал Пушкин, и в это
время глаза его обратились на его библиотеку.
Письмо Жуковского о смерти Пушкина
В сентябрьской книжке «Нового мира» напечатаны воспоминания И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В них много любопытного, и по-разному любопытного: есть страницы, посвященные русской жизни начала нашего столетия; есть характеристики парижских художников эпохи кубизма и «диких», портреты Модильяни, Пикассо, Диэго Риверы; есть воспоминания о Максимилиане Волошине в его парижский период. Перед первой мировой войной Эренбург жил в Париже, многих знал, всюду бывал, знакомился с людьми известными и неизвестными, читал книги, писал стихи. Одно из мест, где он просиживал часами, была Тургеневская библиотека. Вот что он пишел о ней:
«Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось литературно-музыкальное утро с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. И. С. Тургенев, распространяя билеты, указывал: «Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов». Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами «тургеневки» и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились. В начале второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки» («Новый мир». 1960. кн. 9. Стр. 90).
Прочитав эти строчки, мне показалось, что я могла бы дополнить этот рассказ о гибели русского книгохранилища в Париже, тем более что я была свидетелем вывоза книг из старого особняка на улице Бюшелери, который незадолго перед тем город Париж предоставил русской библиотеке. В этом «отеле Кольбер» расположилась «тургеневка» как бы «на вечные времена». Никто не мог предвидеть ее страшного конца.
Немцы заняли Париж 14 июня 1940 года. В начале августа я приехала в Париж на велосипеде из деревни, где у меня в то время был маленький деревенский дом. Других способов передвижения, кроме велосипеда, в те месяцы не было. Я выехала очень рано и была в городе около одиннадцати часов утра. Я вела в те годы записи, нечто вроде дневника. По этим записям видно, что я в тот день была в Тургеневской библиотеке и взяла том Шопенгауэра (в русском переводе), видела хроникальный фильм на Елисейских полях (где было представлено, как Гитлер со своим окружением приехал на автомобиле на площадь Трокадеро и обозревал Париж с высоты площади, выходящей на Марсово поле и Эйфелеву башню), затем ночевала у друзей в Булони. Через месяц я снова приехала в Париж и на этот раз зашла к И. И. Фондаминскому, вернувшемуся из Биарицца и жившему у себя на квартире, на авеню де Версай.
Кто в это время жил вместе с Фондаминским, мне неизвестно. Сам он по-прежнему занимал свой кабинет, темный и сыроватый, весь уставленный книгами. В течение августа месяца ко мне в деревню было привезено довольно много ценных вещей людьми, желавшими скрыть свое имущество. Главным образом это были картины. На чердаке лежали, тщательно укрытые старыми газетами и соломой, небольшого размера Ван ден Вельде и довольно длинный и узкий Больдини. А. Н. Бенуа также доверил мне одну папку с рисунками 17-го века. Внизу, в так называемой гостиной, где непрерывно жили проезжавшие в «свободную зону» близкие друзья и где иногда спали два-три человека, стояли на полках, смешанные с моими скромными книгами, «Русские Портреты» вел. кн. Николая Михайловича, первое издание комедий Мольера и другие ценнейшие книги, до поры до времени нашедшие убежище в этом углу Франции и таким образом уцелевшие. У меня была мысль предложить И. И. Фондаминскому перевезти ко мне наиболее ценные книги, чтобы их сохранить столько же от бомбардировок, сколько и от обысков, которые вот-вот могли начаться. Но я встретила с его стороны категорический отказ.
Он начал с того, что высмеял меня за «панику», и сказал, что бомбардировок он не боится, т.к. кабинет его в полуподвале (в этом, вероятно, он был совершенно прав), а что касается обысков, то ему они не страшны, так как у него теперь есть защитник — молодой немец, книголюб и ценитель русских изданий, который ходит к нему часто по вечерам и с которым он беседует на самые различные темы. Немец этот (насколько я помню, это был штатский человек) заходит как свой, иногда и днем; он покупает у букинистов старые русские книги, у него громадная коллекция, и Фондаминский уверил меня, что он спокоен не только за свои книги, но и за самого себя. Делать было нечего. Я с грустью оглядела полки, на которых стояло столько прекрасных книг, и собралась было уйти, как раздался стук в дверь и в комнату вошел молодой человек, светловолосый, в очках, с улыбкой на довольно приятном лице. Это и был новый знакомый Фондаминского. «Мы сегодня решили сходить в Тургеневскую библиотеку, — сказал мне Фондаминский, знакомя нас, — я хочу показать, какие у нас там есть замечательные книги». Я вышла с тяжелым чувством.
Когда через несколько времени я снова приехала в Париж, начиналась уже осень. Самое трудное было в этих поездках передвигаться по городу с грузом — картофеля, молока, книг,— привозимых в город. Так как мне предстояло пробыть в Париже весь день, то я решила первым долгом завезти в «тургеневку» том Шопенгауэра, оставить его там (библиотека открывалась в четыре часа пополудни) у консьержки, а затем уже сделать все, что нужно, в различных концах города; повидать кого нужно, купить кое-что и вернуться в библиотеку к ее открытию. Отель Кольбер находится в маленькой улочке около моста Нотр Дам. Не было еще и десяти часов, когда я вошла в ворота. Весь двор был заставлен длинными ящиками некрашеного дерева, похожими на гроба. Они лежали и стояли стоймя, их было около тридцати, а может быть, и больше. Они казались пустыми. Я постучала в окошечко консьержки, которая меня знала, и попросила ее сохранить книгу у себя, обещав зайти за ней после трех. Она посмотрела на меня хмуро и сказала:
— Они там.
Я бросилась наверх. Двери были настежь. Два ящики стояли на площадке лестницы, два других — в прихожей. Шла быстрая, энергичная, ритмичная укладка книг.
Я помню, что я растерялась настолько, что стала спрашивать на плохом немецком языке, что, собственно происходит, хотя сомнений не могло быть никаких. Мне ответили вежливо, что книги увозят. Куда? Почему? На это ответа не было, но в переднюю вдруг вышел человек — это был молодой коллекционер русских издании. Он узнал меня, улыбнулся и спросил, не может ли он чем-нибудь быть мне полезен? У меня, вероятно, на лице была написана часть того, что переживалось. Он опять подошел ко мне. Мне показалось, что он хочет взять у меня из рук Шопенгауэра, и я помню, что в тот момент я бы, конечно, его отдала ему. Но он совсем не интересовался книгой, которую я держала под мышкой, наоборот, он очень любезно и с каким-то даже соболезнованием спросил меня, нет ли в библиотеке каких-либо моих книг, и если есть, то он мне сейчас же их выдаст... В том состоянии, в котором я была, я совершенно не поняла его вопроса: хотел ли он, зная, что я пишу книги, выдать мне те, которых я была автором? Или он думал, может быть, что есть в библиотеке книги, мне принадлежащие? Я повернулась и пошла к двери. И только внизу вспомнила, что ведь, действительно, в библиотеке есть книга, мне принадлежащая: вместо залога (от бедности) я в свое время дала библиотеке «Поэзию Армении», толстый том под редакцией Брюсова, который и лежал где-то в задних комнатах, на случай, если я потеряю библиотечную книгу. Лежал он в библиотеке по крайней мере лет десять, если не больше. Но за «Поэзией Армении» я не вернулась.
Молодой коллекционер, конечно, задолго до прихода к Фондаминскому имел свой план действий. И знал хорошо о существовании русского книгохранилища в Париже. Но к Фондаминскому в то утро мне идти не захотелось, мне показалось, что нужно попытаться сделать что-то... но что? Я сомневалась всего одну минуту. В следующую я уже спешила на Монпарнас, к Вас. Ал. Маклакову.
Со времени войны у Маклакова я бывала часто, он любил, когда к нему приходили, настроение у него было угнетенное, глухота все увеличивалась, слуховая машинка (одна из первых моделей) часто не действовала, приходилось громко кричать ему в ухо. Когда звонил телефон или звонок у парадной двери, в кабинете зажигались огни под потолком лампочки (звонков он не слышал совершенно), и это всегда действовало мне на нервы. Но что-то было и уютное кругом — отчасти в семенящей маленькими шажками сестре его, Марии Алексеевне, отчасти в старой прислуге, отчасти в тех предметах и особенно бумагах и книгах, которыми был заполнен кабинет. Он принял меня в теплом бархатном пиджаке, удивившись и обрадовавшись моему приходу в столь странный час.
Когда я рассказала ему, откуда я, он думал несколько мгновений и затем взглянул на меня. И в эту секунду одна и та же мысль прошла в его мозгу и в моем, как это иногда бывает (и даже довольно часто). Мы оба подумали об одном.
— Я знаю, куда надо пойти, — сказал он, — и вы тоже это знаете.
Я молча кивнула головой.
— Надо предупредить советское посольство, ведь они с Германией в союзе. Они могут вступиться. Если, конечно, добраться до настоящего человека и суметь объяснить. Они остановят!
Через минуту он уже звонил председателю Правления Тургеневской библиотеки, Д. М. Одинцу, историку и сотруднику газеты П. Н.Милюкова «Последние новости». А через полчаса Одинец уже был с нами» [К. И. Солнцев и другие члены Правления в это время были вне Парижа. — Прим. автора.].
Мне пришлось повторить свой рассказ. Маклаков, которого очень утомляла машинка, выключил ее и сидел неподвижно за письменным столом, не участвуя в разговоре. Одинец был совершенно согласен, что единственное, что еще можно сделать, это пойти в советское посольство на улицу Гренель и попросить вмешаться. «Кто пойдет?» — спросила я. «Надо мне идти», — ответил Одинец. Мы наскоро закусили, и он ушел. Я осталась ждать его возвращения.
Забегая вперед, скажу, что конец жизни Д. М. Одинца был довольно грустен: мы знали друг друга давно, и я несколько раз навещала его в больнице Валь-де-Грас, когда его оперировали (в самый разгар войны). Он лежал в общей палате и, видимо, страдал от недоедания, продовольственное положение перед концом войны было тяжелым. Его молоденькая, прелестная дочка варила ему какао на ночном столике, на спиртовке, он пил прямо из кастрюли, другие больные смотрели на это с завистью, и тогда она варила и им. Оправившись после операции он в 1944 году записался в советские патриоты и очень скоро выехал в Советский Союз, где ему позволили жить в Казани; там он через несколько лет и умер.
Но в тот день, в квартире Маклакова, ничто не предвещало такого необычного для эмигранта, русского антибольшевика, конца. Мы ждали долго, Маклаков стал нервничать, ходить из комнаты в комнату; я сидела у него в кабинете и старалась занять свои мысли чем-нибудь. Помню, я читала какой-то старый адрес-календарь членов Государственной Думы. Краткие сведения, год рождения, от кого выбран... Вас. Ал. подошел ко мне и сердито сказал:
— Я тут когда-то ножичком выскреб год своего рождения. А теперь мне все равно. Пусть знают все, что я старик. Пусть. Не все ли равно? Дайте я его впишу, или впишите сами.
— Ничего не желаю вписывать. Пусть остается так. Да и вписать некуда — вы тут все продырявили.
Он в этот первый год войны (и во второй год) выглядел еще сравнительно не старым. Только отсидев в тюрьме у немцев, он потерял свой блеск, и уже навсегда. Помню, он позже рассказывал мне, что, выйдя из тюрьмы, он ни о чем не думал, как только о том, что ему не вернули шнурков для ботинок и ему приходится шагать с незашнурованными башмаками по улице, и держать брюки, потому что пояс тоже не вернули, и так как он сильно похудел в Сантэ (несмотря на передачи, в которых принимали участие все его друзья), то он боялся, что брюки упадут, и все это его занимало, а вовсе не мысли о том, что он наконец свободен.
Одинец вернулся часа через два. Его рассказ я тогда же записала. Его ввели в одну комнату, затем в другую. Он сказал, что хочет видеть первого секретаря, или заместителя посла, или, если можно, самого посла. Сначала он говорил с одним человеком, потом с другим, потом с третьим. Кто они были, осталось ему неизвестным. Он несколько раз объяснял, зачем пришел: вступиться за русскую библиотеку; Тургенев основал; Тургенев — «Отцы и дети», «Рудин», — когда в Париже жил... На лицах не отражалось ничего. Это надо сделать скоро, иначе все книги уйдут... Но слушавшие его люди только плечами пожимали: при чем тут мы? Эмигрантские дела! Нас совершенно это не касается. «И вдруг, — сказал Одинец, — словно меня осенило, и я сказал им: в этой библиотеке Ленин работал, там есть книги с его пометками, там есть книги, которые он оставил в библиотеке, там даже есть стул, на котором он сидел (у меня, сказал Одинец, работало воображение, как никогда в жизни)». И вдруг люди забегали, засуетились, позвали еще троих, заставили повторить слова о Ленине.
— Провожая меня, — закончил Одинец,— они провели меня через совсем другие двери. И они все отпирали их и запирали их. И, представьте себе, мне показалось, что один из них даже обещал, что они что-то такое предпримут, хотя, конечно, мало это вероятно. А наверное, одного телефонного звонка было бы достаточно!..
В ту ночь я опять ночевала у друзей в Булони, и когда на следующий день я пришла к отелю Кольбер, все было кончено. Гробы были увезены, двери заперты, наложены печати. Самое крупное русское книгохранилище вне России перестало существовать.
Фондаминского я больше никогда не видела. Шопенгауэр остался у меня [Постепенно за эти годы трудами бескорыстно преданных людей, озабоченных воссозданием русской библиотеки в Париже, кое-что было восстановлено, и работа по собиранию книг продолжается. В основу нового собрания положены дублеты книг (около 600), которые хранились в подвале отеля Кольбер и до которых не добрались. Город Париж снова предоставил русскому книгохранилищу помещение. — Прим. автора.].
1960
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





