ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

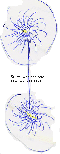

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Васильева Лариса 1987
Начать с матриархата? Но тогда не было письменности, а будь она, возможно, женщина не сдала бы позиций. Это, разумеется, подобие грустной шутки, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Буду исходить из реальности. В сущности, все не так плохо.
Чего только за долгие века не наговорил нам мужчина! Нас возвышали и преувеличивали наши возможности; нам придавали значения, о которых мы порой не подозревали.
«Кто способен управлять женщиной, способен управлять государством», — говорил Бальзак.
«Мужчина, идя на доброе дело, всегда сделает его хорошим, если, провожая, его поцелует любимая женщина», — подмечал русский историк В. Ключевский.
«Мужчина велик на земле и в веках, но каждая йота его величия выросла из женщины», — писал Уолт Уитмен.
Нашу пресловутую логику пытались понять:
«Женщина не способна любить человека счастливого. Та, что никогда не испытывала жалости к любимому, по-видимому, не знала любви», — сокрушался французский драматург Ленорман.
«Когда мы судим о женщине, мы никогда не учитываем в достаточной мере, как трудно быть женщиной», — предупреждал французский писатель Жеральди.
Перед нами склонялись исключительно на словах, но как красиво:
«Когда женщина не права, первым делом нужно попросить у нее прощения», — поучал французский писатель Круассе.
«В некоторых случаях одна женщина намного проницательнее сотни мужчин», — восклицал Лессинг.
Нам воздавали по заслугам. И незаслуженно:
«Большинство мужчин любят лесть вследствие скромного мнения о себе, большинство женщин — по противоположной причине»,— усмехался Свифт.
«Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть», — просыпался итальянский писатель Пиранделло.
Во все века, во все времена мужчины говорят, говорят о женщинах, изучают их как ученые, пытаются понять как писатели, восхищаются как поэты. Они посвящают нам книги, делают героинями огромных романов и изящно написанных повестей, коротких стихотворений и — в наши дни — героинями кино- и телеэкранов. Они жалеют и оправдывают наши падения, восторгаются нашими сомнительными и несомненными добродетелями, клеймят — еще как порой клеймят! — изо все сил стараются высветить нас, унять или разбередить наши боли, дать нам испытать радость их преданности, пусть обманную, мимолетную, но все же...
Разве такое не заслуживает поощрения, восторга, благодарности?
Разве такое не заслуживает ответа мужчинам попыткой правды о них?
Время от времени в веках женщина получала возможность ответить. И что же? Наша сестра, пьянея от этой возможности, прежде всего начинала о себе.
На том проигрывала. И никак не могло быть по-другому. Почему? По закону природы, не вопреки ему. Мужчина — начало творящее, женщина — рождающее. Это факт. В муках отдает женщина миру то, чем одарит ее мужчина. И все понятия любви, взаимопонимания — пустые слова, если он или она не умеют проникать в суть тайны противоположного существа. Мужской и женский характеры ощущают жизнь по-разному, и желания тех и других, как правило, если и совпадают, то лишь в бесконечности. Все женские требования, и литературные, и жизненные, все всхлипы: «Вернись!», все вопли: «Что тебе я сделала?» — есть пустое сотрясение воздуха, непонятное мужскому миру, раздражающее, сковывающее его, ненавистное ему.
Но жизнь есть жизнь, и третьего не дано. Не стоит ли поэтому творящей женщине, держащей слово как орудие труда, осознать в себе некую новую силу, дабы произнести некие старые слова, выражающие принципиально новые переживания? Вернее, сопереживания?
* * *
У Льва Толстого есть весьма колоритное высказывание:
«В художественном произведении главное — душа автора. От этого из средних произведений женские лучше, интереснее. Женщина нет-нет да и прорвется, выскажет самое тайное души — оно-то и нужно, видишь, что она истинно любит, хотя притворяется, что любит другое».
Обратите внимание, Толстой, говоря о женщине-писательнице, рассматривает лишь средние произведения. А поднималась ли женщина над средним уровнем в литературном процессе? Достигла ли уровня высокого, наивысочайшего, мужского, на котором — Данте, Шекспир, Гоголь, Чехов...
Может быть, все же поднималась и достигала?
* * *
Могу лишь верить, что Сафо была великой. Приятно этому верить. Ее наследие, практически не дошедшее до нас, не что иное, как черепок давно разбитой, всего вероятнее, великолепной вазы, листок со строками, изорванный временем, да еще на чужом для нас языке.
Но воспоминание о ней прекрасно: тонкая, темноволосая, в белом хитоне на фоне вечности — дивная.
Она выразила боль, всегда одну и ту же боль женского сердца, какие бы века ни пролетали над человечеством. Она обратила внимание на женщин молчащих, обреченных быть лишь предметом, неким кремнем, ударом о который мужчина высекает свой огонь любви. Не подумайте, что меня злит «чувство кремня», напротив, не так уж плохо быть предметом, если тебя возвышают, пусть всего лишь словом, тебя поют, тобой восхищаются.
Ты тоже хочешь рискнуть выразить себя в слове? Пожалуйста...
* * *
Какие разные были эти застенчиво-смелые английские девушки из белостенных, окруженных кудрявыми парками, тихих поместий срединной Англии и резкие богемные писательницы-француженки, воронообразные горожанки с необузданным воображением.
Как, в сущности, похоже пели их души: сестры Бронте и мадам де Сталь, Элизабет Гаскелл, Анна Радклиф и Жорж Санд. Мужской мир литературы невольно влек их к смелости суждений, свободе мироощущений, и они неоглядно бросались в смелость, оставаясь, однако, в границах женской робости: всегда могли отступить на вечно женские позиции. Вот пример: Джейн Эйр, сама сила духа, сама воля, сама неоглядность, героиня Шарлотты Бронте, стоявшая выше мужчин, способная на подвиги, в конце концов обнаруживала себя в смиренном служении развалинам своей мечты. И это было прекрасно, в этом крылось наше исконное предназначение — дарить любовь и верность.
Женская проза девятнадцатого века в Англии и во Франции представляется мне своего рода поэзией, закамуфлированной под иной жанр: почуяв творческую волю, писательница замыкалась на себе, точнее, на своей героине, тушевалась, не рискуя пожертвовать правом на самовыражение ради безусловно сомнительного желания — ответить мужскому миру своим великодушным видением его сил и слабости. Мэри Шелли, рискнувшая написать мужчину, создала его чудовищем. Но парадоксально: замыкаясь на себе, женщина-писательница во все века и времена так или иначе сосредоточивала все интересы на мужчине, а ведь в женской природе самые сильные инстинкты — материнский и дочерний. Что ж, в литературе, особенно в поэзии, оба они уступают другому инстинкту, ведущему руку поэтессы или писательницы? Если на чашу весов мы положим всю женскую литературу, посвященную ребенку и матери с отцом, а на другую — все, так или иначе относящееся к мужчине, то эта другая чаша упадет к земле с сильным перевесом. Не рискую объяснить это явление, хотя у меня есть свое объяснение, может быть, его объяснят другие, согласные или не согласные со мной...
* * *
Итак, заговорившая с миром женщина — явление не новое, но и неизученное, окруженное постоянным невниманием литературных миров, насыщенных могучими мужскими амбициями. Так было всегда и в мировой, и в русской, так есть и сейчас, в современной, равноправной советской литературе. Неужели женщине судьба — оставаться на средних уровнях?
Вижу несогласных, тех, у кого на устах ярко горящие имена Ахматовой и Цветаевой, однако прежде чем заняться двадцатым веком, хочу напомнить, что в девятнадцатом веке в русской литературе на фоне ослепительных мужских звезд весьма определенно мерцают два имени: Евдокия Ростопчина и Каролина Павлова, своеобразно предвестившие появление Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.
Евдокия Ростопчина мечтательна и возвышенна. Ее стихотворение «Падучая звезда» — своего рода кредо вдохновения:
Она катилась... я смотрела
С участьем тайным ей вослед
И дошептать ей не успела
Свое желанье, свой обет...
Звездное желание растекается по земле и облагораживает возвышенным чувством все, на что направляется нежный, но сильный взор Ростопчиной. С истинно женской искренностью она выговаривает свое естественное состояние, то, которое принято считать нашей слабостью.
Прости меня!.. Когда б ты знал, друг милый,
Как больно мне и тяжело!..
Как грустно без тебя!.. Убиты силы,
Сомненье на душу легло... —
пишет Ростопчина, и эти чувства, безусловно, понятны сегодня каждой женщине, но вечные женские мотивы, варьируемые до бесконечности разными женскими поэтическими натурами, — могила нашей лирической силы. Попав в нее, поэтический дух женщины не может возродиться, потому что такова наша природа. Женщина несет в себе две ипостаси: власти и покорства, границы их зыбки, и обе они проявляются лишь после того, как мужчина проявит свою силу или слабость.
Каролина Павлова — предшественница, на мой взгляд, некоторых поэтесс двадцатого века, ищущих освобождения от вечной женственности в рационализме, подчеркнутой мужественности и игре словесной мускулатурой (не вкладываю в эти определения отрицательной характеристики, лишь констатирую факт) — ищет опору, ищет выхода из женских тем в самом стихотворчестве:
Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!
Для чего ищет? Да все для того же, чтобы вернуться на круги своя:
Проснись же, смолкнувшее слово!
Раздайся с уст моих опять;
Сойди к избраннице ты снова,
О роковая благодать!
Уйми безумное роптанье.
На безграничное страданье.
На бесконечную любовь!
Выплакивание, высказывание безграничного страдания совершенно необходимо женскому поэтическому характеру. В системе этого однотемья множество нюансов, привносимых каждой отдельной душой, но суть одна, и переступить границу — поди попробуй. А что за ней?
Герой твоей поэзии. Герой как таковой. Единственный. Неповторимый. Совершенно такой же, как и все остальные. Посмотреть на него, увидеть его в нем, понять его и в этом понимании найти источник вдохновения — чего уж проще? А вот почему-то этого не случается. Женская душа, не склонная к пониманию проблем своего героя, противоречащих ее проблемам, замыкается в своем непонимании и будет монотонно выговаривать собственную боль.
* * *
В двадцатом веке женская поэтическая душа вроде бы собралась поумнеть. Явилась Анна Ахматова, не только нежная —
Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить? —
но ироничная, сопротивляющаяся исконному женскому всетерпенью и всепрощенью:
Брошена! Придуманное слово —
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
С этими суровыми глазами и пересекла Анна Ахматова полосу отчуждения между женской и мужской лирической темой, да в душу мужскую не проникла — волею судьбы ее планета повернулась в иную сторону, и в Ахматовой возобладало великое материнское начало, продиктовавшее ей горькие плачи двадцатого века. Женщине — Анне Андреевне Горенко-Гумилевой — лучше бы этих плачей не знавать, но поэту Анне Ахматовой без них не бывать в той силе, в какой она сейчас стоит перед нами.
Страданье за судьбу сына продиктовало ей «Реквием», мужественность которого предельно женская, естественная в своем предназначенье.
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты — сын и ужас мой.
Это материнское начало совпало в ее душе с дочерним, тоже не мягким и нежным, но искренним до крайности:
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Да, дочь не ушла с родительской земли, хотя и несладка была ее жизнь, зато выстрадано право сказать:
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Дочь с матерью здесь сливаются и в каждой из этих двух женских ипостасей существуют нераздельно.
Ахматова свернула с дороги, ведущей к мужскому миру, ибо ей естественней были материнская и дочерняя дороги, за что ее еще благодарно вспомнят века, но именно она, на мой взгляд, ближе всех известных мне в мировой литературе женщин более или менее близко подошла к разгадке мужской психологии. Слова ее лирического героя «Не стой на ветру!» в ответ на бурю женских чувств — это уже немало.
Марина Цветаева со своим темпераментом легко преодолела полосу отчуждения и не по гордости не приблизилась — ей собственная гордость по колено, если она любит, — а из-за эгоистической силы самовыражения, но преодолела скорей всего для того, чтобы Он лучше услышал, если она ближе подойдет.
Вскрыла жилы: неостановимо.
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской, через край — и мимо —
В землю, черную, питать тростник.
Невероятно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
Цветаева не хочет понять другую силу, она хочет быть понятой этой силой, требовательно, властно хочет понятой быть, бьется в стену непробиваемую, не может даже осмыслить, как —
Вчера еще в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал —
Жизнь выпала копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая,
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Хоть стул, хоть кровать спрашивай — бесполезно. Ответа на такой вопрос быть не может. На такой вопрос разве что Анна Ахматова нравоучительно, точно и спокойно заметит:
Столько просьб у любимой всегда,
У разлюбленной просьб не бывает.
Разумеется, Цветаева безгранично умна и не может не понимать тщеты своих поэтически-житейских желаний, но ведь то, что ум понимает, сердце может отвергнуть в одну секунду:
Крик разлук и встреч —
Ты, окно в ночи!
Да, есть над чем задуматься. Если уж две могучие жены отвернулись от возможности проникнуть в мир мужского начала и через себя выразить другое существо, что говорить тогда о множестве пришедших после, которым такое и в голову не приходит, — обо всех тех, кого Ахматова самолюбиво припечатала:
Я научила женщин говорить,
О боже, как их замолчать заставить!
Честно сказать, не она женщин говорить научила, а мужчина, со всем своим несовершенством, и в этом смысле куда точнее другие ее слова:
Одной надеждой меньше стало.
Одною песней больше будет.
Женщины и до нее говорили. Но Ахматова есть АХМАТОВА, хотелось ей думать, что она «научила женщин говорить», — пусть будет так.
* * *
Итак, Ахматова вышла за грань собственного «я» к материнскому и дочернему началам жизни, чем и поставила себе нерукотворный памятник. Цветаева, выйдя за грань, так со своим «я» и осталась.
Прошу понять меня правильно: не осуждаю и не обсуждаю обеих, я пытаюсь разобраться в них, не подвергая сомнению их поистине блистательные поэтические женские таланты, желая лишь увидеть их с некой непривычной точки зрения: какая из них подошла к герою, попыталась понять его с той же силой чувства, с какой они всегда подходят к героине, с той же мерой понимания «вражеской» психологии. Там, где мужчина говорит:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим,—
женщина, одаренная поэтическим талантом, в такие минуты восклицает:
Но не хочу, не хочу, не хочу,
Знать, как целуют другую!
Выходит, ни одна не подошла?
* * *
Ах, мы говорим, Ахматова! Ах, Цветаева! Роемся в подробностях личной жизни. А представим себе на мгновение, что обе были бы существами мужского пола. Поэты Ахматов и Цветаев. Сразу снижается образ?..
Неужели Лев Толстой все же прав и для женщин есть в общепринятом представлении некое снисхождение? Есть. Даже рискну сказать, достаточно справедливое. Кто виноват, и вина ли это, что в женской литературе мира нет неуклонной многовековой традиции, что талантливейшие из нас — лишь великолепные случайности, неожиданные курьезы в неизменном процессе? Кто виноват, что у женской литературы, как невелика она ни была бы в сравнении с мужской, нет возможностей для развития, нет традиционной критики, нет достойной прессы, нет признания? Ее признание ютится на задворках литературного процесса, облепленное снисходительными оценками и доброжелательством свысока. В человечестве, где половина населения — женщины. У нас есть даже эпитеты «бабья писанина», «женские охи, вздохи», а между тем лирический голос мужского поэтического населения заметно обнищал, и на сем обнищалом фоне женщина неожиданно звучит ярко и заметно.
На сегодня неопровержим факт: Ахматова и Цветаева — первые женщины в российской поэзии, столь широко раскрывшиеся. После них трудно быть собою, не рискуя оказаться подверстанной то ли к одной, то ли к другой. Хотя их влияние не помешало проявиться Ольге Берггольц, Людмиле Татьяничевой, Юлии Друниной, Маргарите Алигер, Екатерине Шевелевой, Маргарите Агашиной — женщинам, чьи гражданские позиции порой создавали иллюзию мужественности, своеобразно украшавшую этих одаренных поэтесс. Но ни одна из них не рискнула войти в мужской мир так, как мужчина вошел в наш, не сумела выразить — не себя в нем, а его в себе.
Та, которой такое окажется под силу, которая это сделает и при этом не лишится женского предназначения, совершит революцию в женском сознании. Она положит начало подлинному творческому равенству, при условии, что законы неравенства полов не будут нарушены. Кто будет она, как она это сделает и когда, не берусь предсказывать. Впрочем, возможно, ее появление не за горами. Но об этом позднее.
* * *
Женская проза в советской литературе двадцатого века была, конечно, не последним делом, стоит вспомнить имена и произведения Мариэтты Шагинян, Лидии Сейфуллиной, Анны Караваевой, Ванды Василевской, Галины Николаевой, Веры Кетлинской, Веры Пановой. Однако, на мой субъективный взгляд, основная самовыразительная, сугубо эгоистичная мысль и здесь преобладала, не оттого ли сегодня эти вполне достойные имена вспоминаются больше по обязанности, а книги этих одареннейших женщин не слишком активно живут в повседневности, став фактом истории литературы.
Неким подобием исключения вообще представляются мне женщины в украинской литературе конца девятнадцатого века — начала двадцатого и женщины — исторические писательницы. Что касается первых, то произведения Марко Вовчок, Марии Кобылянской, великой Леси Украинки и сегодняшней Лины Костенко служат неким противовесом задушевно-сентиментальной ноте в мужской украинской литературе.
Исторические же писательницы типа Ольги Форш, Марии Марич, Анны Антоновской вполне могут быть поставлены вровень с историческими писателями, ибо необходимость рисовать исторические мужские типы волей-неволей требовала от них максимального перевоплощения.
* * *
Ну вот и подошла я к сегодняшнему дню, но подробно разбираться в нем, думаю, мне не пристало, ибо сама я стою внутри процесса, который хочу понять, а как известно, «большое видится на расстоянье». Единственно, что могу сделать, это попробовать как женщина с женщинами поговорить с сегодняшними критикессами в форме «атакующей защиты».
Критикессы — явление весьма характерное для нашего времени. Умные, острые, злые, как осенние мухи (задираюсь не без умысла вызвать их на разговор), — Татьяна Иванова, Наталья Иванова, Алла Латынина, Инна Ростовцева, Алла Марченко, Лариса Баранова-Гонченко... Их статьи, как бы не согласны с ними вы ни были, читать интересно, что говорит о несомненном даровании. Они точно знают, как и подобает женщинам, что хорошо, что плохо, как надо и как не надо, чаще всего бескомпромиссно раздают восторги и оплеухи, исходя из неких, впрочем, не совсем ясных позиций, отдаленно напоминающих салонные взгляды дам начала века или пародию на них. И все свои букеты добра и зла раздают по преимуществу мужчинам, делая, разумеется, исключения для особо изысканных, по их мнению, женщин-поэтесс. Надеюсь, все они не заподозрят меня в желании быть ими освещенной — я давно переступила черту подобных желаний. Говорю все это в единственной надежде на будущее — достучаться в закрытые наглухо двери, ибо мне кажется, что изучение женского творчества женщинами-критиками — неизведанная и весьма плодотворная стезя. И очень нелегкая, поверьте.
Потребность в «женской» литературе несомненна, как ни уверяй нас, что нельзя разделять литературу на «женскую» и «мужскую». Почему нельзя? Природа разделила, а с нею вряд ли поспоришь. Женщинам-писательницам сегодня независимо от степени заслуженного или незаслуженного успеха не слишком уютно в мире современной литературы. Посмотрим на примерах. Белла Ахмадулина и Юнна Мориц — самые обласканные и обруганные критикой поэтессы — обязаны этим своей принадлежностью к литературной группе, популярной в литературном процессе уже тридцать лет, но если посмотреть попристальней, то даже восторженные оценки мало имеют общего с характером этих творческих натур.
Имена Татьяны Сырыщевой, Новеллы Матвеевой, Ольги Фокиной, Риммы Казаковой, Людмилы Щипахиной, Людмилы Шикиной, Татьяны Кузовлевой, Татьяны Глушковой, Майи Борисовой, Надежды Кондаковой, Татьяны Смертиной, Марины Кудимовой, Ольги Ермолаевой, Дины Терещенко, Татьяны Бек, Олеси Николаевой, Татьяны Ребровой вроде бы мелькают в перечнях-поминальниках, удостаиваются даже отдельных статей, похожих на статьи типа «лишь бы отделаться». А Наталья Астафьева, Светлана Евсеева, Лариса Румарчук, Светлана Кузнецова, Дина Злобина, Тамара Жирмунская, Любовь Ваганова, Лира Абдуллина, Аида Федорова, Лорина Дымова, Лада Одинцова, Ираида Потехина, Галина Чистякова, Марина Тарасова, Зинаида Палванова, Полина Рожнова, Лариса Миллер, Валентина Творогова, Лариса Сушкова, Маргарита Ногтева, Алла Тер-Акопян, Наталья Аришина, Раиса Романова, Лидия Григорьева, Зоя Велихова, кажется, и не надеются быть понятыми прилюдно. А скольких имен я не назвала!
Женщин-прозаиков сегодня немного, но и у них те же проблемы: Антонина Коптяева, Майя Ганина, Ирина Стрелкова, Ирина Ракша, Зоя Богуславская, Инна Гофф, Ирина Ирошникова, Любовь Заворотчева, Любовь Юнина, Римма Коваленко, Людмила Уварова, Лилия Беляева, Елена Каплинская...
В последние десятилетия появились писательницы-прозаики, дошедшие в выражении женского начала до самой-самой сути, используя бытовой материал, а ведь он дает сегодня неограниченные возможности. Это — Наталья Баранская, И. Грекова, Виктория Токарева, Ирина Велембовская, драматург Людмила Петрушевская и недавно появившаяся с рассказами Татьяна Толстая. Если посмотреть на них всех сразу, то можно увидеть: женщина самовыразилась предельно. Не пора ли за предел? Но тут я предчувствую опасность опять замкнуться. Толстая в интервью «Московским новостям» говорит:
«...Так называемой женской прозы — навалом. Приметы ее разнообразны: неразличение быта и бытия, слащавость, галантерейные красоты... Пишут женскую прозу в основном мужчины. А есть, наоборот, женщины, которые хотят писать мужскую прозу, и совершенно напрасно: неприятно, когда женщина пририсовывает себе усы».
Это лихое утверждение само по себе показалось мне не без усов — так обычно мужчины-литераторы, не называя имен, отмахиваются от женского творчества. Мне кажется, не следует называть даже в кавычках женской прозой бесталанную мужскую писанину. Подобными словами, сами того не замечая, мы отбрасываем себя от уже занятых высот. Адресую Толстой этот упрек по сомнительному праву некоторого большего опыта, возрастного преимущества (но преимущество ли это?), а также потому, что в ее рассказах я увидела попытку скорее интуитивную, но несомненную: проникнуть в мужской мир и выразить его. Правда, как это всегда бывает с ищущими, ее мужчины пока еще «эндокринологические люди», жалкие инфантилики, недолюди, продукты распада. Но, может быть, все впереди?
А женщины журналистки и публицистки всех масштабов, от Веры Засулич (можно и пораньше взять) до Светланы Алексиевич, работающие в границах все того же общеженского закона, который я хочу не нарушить, а осознать!
А женщины писательницы и поэтессы из братских республик!
Вернусь к критике. Говоря о ней, думаю не о статьях — панегириках в честь женщин, стереотипах семидесятых годов, а о критике понимания, помощи, предъявления счета. Я обратилась к женщинам-критикам потому, что, если кто порой писал о нас, женщинах, с определенным пониманием, так это критики-мужчины, хоть мало, хоть не без снисхождения, но писали. Женщина добра не забывает.
* * *
Итак, мне хочется думать, что появление женщины, умеющей проникнуть в мужскую психологию, вот, вот оно, грядет. Откуда я взяла? Мужчина-поэт подсказал. Никогда прежде ни у одного из них не встречала я мотива ожидания такой женщины. Но вот наш современник Юрий Кузнецов, неоднократно неосторожно выступавший против женской поэзии, чем и привлек к себе мое внимание, написал стихи и в последней строфе сказал о женщине, своей звездной подруге, о которой литература пока только может мечтать:
Снятся ей мои горные выси,
Где летает ковер-самолет.
Снятся ей мои гордые мысли,
От которых никто не спасет.
Когда это нам, женщинам, снились их выси? В лучшем случае мы думали, что милостиво разрешаем им оторваться от нас и отправиться туда. В худшем — мы мешали, не разрешали, боролись, разжигая лишь их стремления к высям, порой имеющим точные и нежные имена.
Когда это их гордые мысли снились нам? Свои мысли снятся или сна не дают, а у них, мол, какие еще мысли могут быть?
Кузнецов, однако, мечтает, не слишком, правда, уверенно, но спасибо и на этом. Разве заказано мужской поэтической силе мечтать о равновеликой женской державе?
Не думаю, что для появления такой фигуры все готово сегодня. Стечение обстоятельств и ход исторического процесса выведут такую женщину. Очень бы, конечно, хотела приветствовать ее при своей жизни, но вряд ли мне это суждено.
Надеюсь лишь, что сказанное мной здесь сквозь время попадет ей на глаза, и она встретит мой привет как нечто само собой разумеющееся.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





