ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


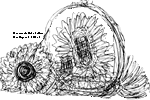
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Габова Елена 1989
19
В школе, когда я там появилась, Алька отозвала меня в сторону и сообщила потрясающую новость: она влюбилась — в Вадима Елина. Я вытаращилась на нее и призналась, что тоже влюблена.
У Альки округлились глаза.
— И ты? А в кого?
— Его звать Сережа Ковалев, — мечтательно произнесла я. — Ты видела его в больнице, такой серьезный, с челкой. А глаза! Какие у него глаза, Козлик!
Прозвенел звонок, и мы, потрясенные, что умудрились влюбиться в одно и то же время, с видом заговорщиков пошли в класс.
В прошлом году Вадим Елин мне ужасно не нравился. Он воображал себя лучше всех. Конакову в глаза называл толстухой. Смеялся над любовью Шуры Бутыревой к Кольке Исакову — после восьмого оба ушли в училище.
В девятом насмешки Елина исчезли. Он повзрослел: серьезнее стал, что ли.
Елин весь какой-то очень здоровый. Не толстый, а именно здоровый — высокий, широкоплечий. Глаза у него — светлые, как у Альки, только крупнее. Да у нас на Севере почти у всех глаза светлые, у русских и у коми. У Елина всегда румяные щеки, алый рот. Красавчик, одним словом. Одевается шик-модерн, все у него фирменное: джинсы, джемпера всякие, рубашки. Школьную форму он терпеть не может, красуется в фирменных вещичках.
Девчонки от него без ума. Лизуха в рот заглядывает. Вот и Алька, подружка моя, не устояла перед общим кумиром.
Мне кажется, Вадиму тоже нравится Козлик. Почему? А вот, пожалуйста, факты прошлых лет.
В шестом классе на новогоднем вечере во время игры в «почту» Лизуха написала Славику Сироткину: «Славик, хочешь со мной дружить?»
«Да», — ответил Славик. Тогда в нашем классе еще не училась Маша Булатова, поэтому он согласился.
Скромнице Юле нравился Вадим. Он был в то время тощим, лупоглазым, ходил всегда с полуоткрытым ртом. Сама Юля не посмела ему написать, попросила Лизуху. Записку наглым образом прочел «почтальон» Кирка Столбов, подвалил к девчонкам, дернул Лизуху за рукав и тут же, при Юле, сморозил:
— Пусть Вадику лучше Козлова напишет. Он с ней дружить хочет.
Козлик тогда возмутилась, а Юля убежала в темный коридор.
В восьмом Елин говорил Конаковой, с которой тогда сидел:
— У нас в классе, кроме Али Козловой, нормальных девчонок нет.
На вечерах в восьмом и сейчас в девятом танцевать приглашал только ее.
Так что Козлику хорошо — она Елину нравится. А Сережа, наверно, уже забыл обо мне.
На всех уроках передо мной — Сережино лицо. Брови закрывает черная челка. Как смородины, блестят большие глаза. Губы чуть улыбаются... Я бессмысленно вывожу на листочках: «Сережа, Сережа, Сережа». Даже Ларису Васильевну слушаю невнимательно. Часто ловлю на себе ее озабоченный взгляд.
Сегодня столкнулась с ней на улице около магазина. Я и не заметила ее сразу.
— Подожди, Рита.
Я в страхе на нее уставилась. Хоть бы она не спрашивала ни о чем.
— Что с тобой в последнее время?
Я отвела глаза в сторону.
— Что-то учиться не хочется. Я пойду, Лариса Васильевна?
— Ну иди, — вздохнула она.
По всем предметам я нахватала двое. Лишь бастионы истории и литературы держатся. Эти уроки я еще могу отвечать без подготовки. Какая мука домашние задания! Какие тангенсы-котангенсы, когда в голове один Сережа!
На улице весна, после школы я бесцельно брожу по городу. Воображаю, что во-он тот парень, что идет навстречу — это Сергей. С тревогой и ожиданием я смотрю на него, и когда парень, ясно-понятно, совсем не Сережа, приближается, ловлю на себе его настороженный взгляд: чего, мол, ты на меня вытаращилась?
В очередной раз на геометрии меня спросила Зинаида Анимировна. Я опять не ответила. Она не разозлилась, а пристально на меня посмотрев, сказала:
— Рита, может быть, недельку отдохнешь? Отдохни и приходи на мои уроки, когда у тебя появится желание заниматься математикой.
А двойку в журнал все-таки влепила.
Я поднялась и спросила:
— Можно идти?
— Да, ты свободна. — Заминированная даже растерялась от моей прыти.
Я и ушла.
Классная обо всем узнала. Рассердилась, велит ходить на математику, материал, мол, проходим трудный, а я и так из-за операции много пропустила.
— Все равно сейчас я Зинаиду Анимировну не слышу, — отвечаю.
— Что же с тобой произошло?
— Так... Что-то учиться не хочется...
Алька из-за моих двоек испереживалась.
Прибежала как-то вечером — взволнованная, щеки горят, на пальто блестящие капельки от растаявших снежинок — и выпалила с порога:
— Ритка, я ей все про тебя рассказала!
— Кому? Ларисе Васильевне? — испуганно спросила я.
— Да. Извини меня, ладно?
Сил не было сердиться на Козлика. Пробежали по спине липкие мурашки, я равнодушно подумала: «Ну и пусть». Наверное, в глубине души я сама хотела рассказать все классной, просто боялась.
На следующий день на литературе Лариса Васильевна взглянула на меня по-особенному. Как на взрослую.
20
За своей дурацкой любовью я как-то перестала замечать других. Казалось: мне хуже всех.
Что-то стряслось у Ирки Пунеговой. Она говорила с Ларисой Васильевной и плакала. Я расслышала, как классная сказала:
— Будешь заниматься у меня.
Я посмотрела на грустную Ирку с завистью: она сможет часто бывать у Ларисы Васильевны. Наверно, у Ирки опять нелады с отчимом. Мы с ней давно не разговариваем. Вообще у нас с ней странные отношения: то нас водой не разлить, то видеть друг друга не можем.
Ирка с мамой и отчимом живут в однокомнатной квартире. По утрам Ирка не может смотреть в глаза матери, тем более — отчима. Я не хотела бы быть на Иркином месте.
Что произошло, я узнала от девчонок. Иркину маму положили в больницу, и она осталась с отчимом. Ясно-понятно, отчимы бывают всякие, но Иркин — подонок. Пьет, обзывает Ирку по-всякому. Смеется над тем, что Ирка — комсомолка и что до сих пор хранит в шкафу пионерский галстук. Он ее уже несколько раз бил.
Мне все-таки лучше. Нас с сестрой отец никогда плохим словом не назвал. Ни разу пальцем не тронул. Может, он нас по-своему любит. Хотя это незаметно. Наверное, водка забирает все чувства. Он и маму не любит, раз бьет ее, оскорбляет.
Если бы мы с Сережей дружили, я бы не сказала ему ни одного обидного слова. И Сережа мне тоже, почему-то я уверена в этом.
— Знаешь что? — решила на днях Алька, когда мы вечером сидели у меня, и я изливалась ей на тему «несчастной любви». — Так нечестно! Он же не знает, что ты мучаешься! Напиши письмо!
— Письмо! А адрес?
— Что, адрес? Поселок Турун, школа, ему.
Я представила, как Сережа держит в руках мое письмо, покраснела.
— Нет, Козлик. Первой признаться — ни за что! — Я помолчала, повздыхала. — Слушай, а почему ты Вадьке не скажешь?
Пришла очередь краснеть Альке.
— Мы уже один раз вечером встречались.
Ясно-понятно, почему она не сказала мне об этом раньше: ведь я-то с Сережей не встречалась.
— Сегодня ты тоже пойдешь?
Алька кивнула. Она подняла на меня смущенные глаза и тут же их опустила.
— Сейчас, — шепнула она.
Козлик ушла на свидание. Она сразу повзрослела в моих глазах. А может, она права? Может, написать Сергею письмо? Что ж, напишу.
«Здравствуй, Сережа.
Пишет тебе Рита, помнишь?
Сережа, я пишу тебе потому, чтобы ты не думал, что я такая уж дура. Я грубила ребятам знаешь почему? Потому что их ужасно стеснялась, правда. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. И перед всеми мне хочется извиниться, перед тобой, перед Николаем, помнишь его?
До свидания, Рита».
Отослала и стала считать дни. Ну а вдруг он ответит.
Я бегала к почтовому ящику, с надеждой открывала его, и в руках оказывалась одна тощая газета.
Но ответ из Туруна все-таки пришел. Ровно через неделю. Я торопливо разорвала обычный конверт с незнакомым мелким почерком.
От нетерпения я даже немножко порвала листок письма.
«Здравствуй, Рита.
Ничего плохого я о тебе не думаю. Посылаю тебе адрес Николая. Он хороший парень. У меня никаких новостей нет. Учусь. В выходной пойду в клуб, на дискотеку.
До свидания, Сергей».
Внизу был ненужный мне адрес Николая.
Вот и все. Он ничего не понял. Может быть, он даже подумал, что мне нравится Николай.
Какое разочарование! Во-первых, ничего он не понял. Во-вторых, ходит на дискотеки.
Я терпеть не могу эти дискотеки, где музыка гремит так, словно все оставляют уши дома, где так жарко, что хочется поскорее выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха, где не видишь отдельных лиц, а видишь одно — расплывчатое, огромное лицо с сотнями горящих лихорадочных глаз. Танцующие в клубах похожи, по-моему, на наркоманов. Дискотечные наркоманы!
Эх, Сережа! Как я обманулась!
21
Я будто проснулась. И в школу ходить было уже не противно.
Когда впервые после персонального отпуска я пожаловала на математику, Зинаида внимательно посмотрела на меня.
— Откройте тетради, — отчеканила она. — Запишите: контрольная работа, — и снова торжествующе взглянула в мою сторону.
Ясно-понятно, не написала я эту контрольную. Между прочим, впервые в жизни. Алька видела, что у меня не получается задача, и подсунула готовое решение — у нас один вариант. Но я люблю все делать сама — отказалась. В солидарность с Козликом даже Елин предлагал списать. Я послала его к черту и разревелась.
А вообще-то на этом уроке запросто можно было скатать — Зинаида выходила куда-то минут на пятнадцать. Вернулась, увидела, что я реву, и подошла:
— Что у тебя не получается?
Я захлопнула тетрадь перед ее носом. Нечего мне помогать. Сама виновата.
Заминированная разозлилась. Процокала каблучками и больше ни разу не взглянула в мою сторону.
Предупреждала ведь меня классная!
Я никак не могла наверстать упущенное и хватала двойки. Как ни странно, мне нисколько не стыдно, хотя ругают меня на каждом шагу. Салатова предложила обсудить мое поведение на комсомольском собрании. Выручила Орлова:
— Она исправится, подождем.
Спасибо, Таня! Двойки, ясно-понятно, исправлю. Потому что о Сереже думаю меньше. Меня теперь не так сильно тянет в загадочный Турун.
Сколько раз я бегала на автовокзал! Зайду в турунский автобус и сижу с железным намерением — поеду. Школа в Туруне одна, зайти в нее может каждый. Вдруг мне повезет: в коридоре я увижу Сережу?
Но всякий раз, когда в автобусе вот-вот должны были захлопнуться двери, я испуганно вылетала из него.
22
Как-то, покончив с домашними заданиями, я вышла на улицу. Вечер только-только наступал — спускался на город затяжным парашютным прыжком с куполом во все небо.
Почему-то все в этот вечер казалось мне необыкновенно прекрасным.
Захотелось поскорее вернуться в свою маленькую комнату включить настольный грибок и написать про этот вечер. Написать не стихи — их я могла сочинять и на ходу. В последнее время я почему-то изменила стихам, стала писать рассказы.
Неделю спустя я переписала с разрозненных листочков, которые валялись где попало, все свои рассказы в тетрадь за три копейки. Переписывала не обычным мелким почерком, похожим на растянутую пружину, а четкими «парадными» буквами. Я готовила тетрадочку для других, поэтому старалась. Вот что я подумала: вдруг получится книжка? Нахальство, конечно, это с моей стороны.
Назавтра после уроков я робко вошла в двенадцатиэтажное здание Дома печати.
Стрелка с надписью «Книжное издательство» указывала на шестой этаж. Поднялась не на лифте, а пешком, чтобы растянуть время. Сунулась в первую попавшуюся дверь и положила на ближний стол зеленую тетрадку.
— Что это? Что вы принесли? — спросил хозяин стола, молодой черноволосый человек, с изумлением поглядывая то на меня, то на жалкую тетрадочку.
— Это рассказы... вдруг книжка, до свидания, когда зайти, — лепетала я, боясь, что молодой человек расхохочется мне в лицо, и в кабинет повалят желающие повеселиться.
— А-а-а, — протянул он, но не засмеялся. — А сколько вам лет? Я смотрю, что-то молодо выглядите, поэтому спрашиваю.
— Пятнадцать.
— А-а-а. Ну-ну... — Он пожал плечами и стал пятерней приглаживать волосы, которые прядками торчали у него в разные стороны. — На русском пишете или на коми?
— На русском.
— Ну-ну. Дней через десять зайдите. Да, не раньше.
Я испарилась. И вот снова робко стучусь в дверь того же кабинета, и тот же человек поднялся мне навстречу, только он был в этот раз приветливей. Пожал мне руку и, не выпуская ее из своей, повел меня на седьмой этаж. Поставил меня перед другим человеком — худым, голубоглазым, с большим значительным носом.
— Вот она, — сказал человек из издательства большеносому.
Я огляделась. Накурено, хоть топор вешай. Большой письменный стол, на журнальном столике — подшивки газет. На стене фотография синего озера с двумя склоненными травинками над ним.
— Садитесь, Рита Игнатова, — тихо проговорил человек. — Ваша тетрадь у меня. Звать меня Петр Николаевич.
Петр Николаевич погасил сигарету и молча, изучающе стал смотреть на меня. Он все смотрел и смотрел, а я все смущалась, мне здорово хотелось удрать.
Наконец он стал расспрашивать, где я учусь, чем увлекаюсь, кто мои родители. Заикаясь, я отвечала.
И вдруг он сказал:
— Я прочел ваши рассказы, Рита. Вы — способный человек. И когда-нибудь у вас, возможно, и будет книга.
Я летела по улице, и мне необходимо было поделиться радостью хоть с кем-нибудь. Нет, вру. Не «хоть с кем-нибудь». С людьми, вполне определенными — Алькой и Ларисой Васильевной. Но к учительнице идти хвастаться было неудобно. Лучше уж к Козлику.
Алька перебирала пластинки, сидя на корточках перед проигрывателем. Вид у меня, наверное, был очень счастливый, потому что Алька тотчас поднялась с какой-то пластинкой в руке и заулыбалась:
— Рита, что случилось? Он признался тебе в любви?
Она о Сереже! Да я и думать забыла о нем!
— К черту любовь, Козлик! Есть дела поважнее!
Я затормошила Альку и, кажется, стала ее щекотать.
— Алька! Поставь Паганини, каприс тот, двадцать четвертый!
Я очень люблю этот каприс. В нем сплошная страсть. Только посередине немного спокойной грусти — как островок посреди бушующего океана.
Слушая музыку, я сжимала кулаки, щурила глаза, кусала губы, вскакивала, снова садилась.
— Скажи все-таки, что с тобой? — не выдержала Алька.
Я сумбурно ей все рассказала. Козлику можно. Она не хмыкнет, как некоторые: «посмотрим, посмотрим». Она не станет завидовать.
Хорошо, что я пришла к Альке. У нее было жуткое настроение. Она с Вадимом поссорилась.
— Не могу я с ним, Рита. У него на уме одни тряпки, представь. Говорит: давай тебе кроссовки адидасовские купим. Я, мол, поговорю с мамашей, пусть достает. Да зачем мне, Рита, адидас этот. Тем более — по блату, с базы какой-то. Ну его, Рит! Не хочу я о нем разговаривать.
Алька махнула рукой, замолчала на минуту, а потом ее снова прорвало:
— Музыку он не любит. Только включу — выключает. Немодная ты, говорит, и музыка у тебя такая же — допотопная. Надо тебя перевоспитывать. И имя мое ему не нравится.
Видно, разлад с Елиным сильно ее огорчал. А моя первая любовь кончилась быстро и безболезненно. А может, это была не любовь? Уж больно она мимолетная!
23
Через неделю два моих рассказа напечатали в газете.
Не знаю, как ребята, а учителя читали. Завуч Татьяна Кузьминична остановила меня в коридоре.
— Молодец, Рита! Хорошие рассказы! Ты не имеешь права плохо учиться!
Действительно, хотя двоек за четверть у меня нет, троек, ясно-понятно, полно. Ну да ничего, теперь дело с учебой выправится. Это меня не беспокоит.
Беспокоит же совсем другое.
Раньше, совсем недавно, я ненавидела, когда меня хвалили. А сейчас мне это нравится. Хвалят меня в последнее время без остановок. За рассказы, сочинения, за пустяшные рифмованные строчки.
А если я зазнаюсь?!
Классная успокаивает:
— У тебя характер сомневающийся, с таким не зазнаешься.
Ну а вдруг?
Особенно мне нравится, когда хвалит классная. Правда, она делает это реже других. Про рассказы в газете вообще ничего не сказала.
Я люблю Ларису Васильевну. Она такая добрая, приветливая. Улыбнется, и мне становится хорошо на душе.
Только странно как-то... Мне кажется, любимая учительница должна быть особенной. А она как все. Девчонки болтают с ней о чем угодно — о мальчишках, тряпках, кулинарных рецептах. А я о пустяках не могу.
Иногда я бываю у нее дома. Ни к кому из учителей не ходила, а к ней хожу и сижу часами. Разговариваем о книгах, писателях, фильмах. Или я читаю что-нибудь. Как там хорошо! Уходить совершенно не хочется.
Вечером приходят Иван Алексеевич с Игорьком. Иван Алексеевич классную целует, называет «Ларочкой». Игорек бросается к ней, о чем-то рассказывает, ластится. Она гладит его по ершистой головке. Мне становится завидно смотреть на все это и тяжело. Я ухожу. Дома у нас все по-другому. Каждый — сам по себе. Я уже не помню, когда мы с мамой разговаривали по душам. Перекинемся парой фраз — вот и все.
Когда вечером после работы мама увидела в газете рассказы, она подошла ко мне:
— Посмотри, как твоя тезка пишет.
— Я уже читала, — ответила я, не глядя.
— Понравилось?
— Ничего. Ты, мама, эту Игнатову знаешь. Она перед тобой.
Мама засияла, в углах глаз вееры лучиков раскрылись.
— Риточка!
Она подошла ко мне, чтобы обнять или поцеловать, уж не знаю, для чего, а я отстранилась. Как-то механически у меня это получилось. Наверное, отвыкла я от этих нежностей.
И мама сразу вышла.
Но я ведь не хотела ее обидеть.
24
Когда я лежала в больнице, в нашем городе произошло ЧП.
Девчонки избили девчонку. Избили так, что врачи долго сомневались, выживет ли она. Та девчонка, Вика какая-то, не захотела дружить с одним парнем из ее класса. И этот подонок подговорил Светку Форсюк из той же школы, чтобы она со своими подругами Вику проучила.
Компания Форсюк всему городу известна. Эти модно одетые девчонки ходили всегда кучей, человек по восемь-десять, курили, громко смеялись и приставали к прохожим. Они запросто могли оскорбить прохожего, толкнуть его в грязь или сбить с него шапку.
Две девчонки из нашего класса тоже входили в компанию Форсюк. Они жили со Светкой в одном дворе — Нинка Селькова и Витка Снегова. Но в тот вечер, когда произошло ЧП, Нинка и Витка пошли на дискотеку в клуб авиаработников. Повезло, можно сказать.
Как-то не верится, что Селькова и Снегова смогли бы поднять руку на человека. Может, они были бы теми, кто остановил преступление?
Девчонки сначала просто били Вику, потом повалили на землю и топтали ногами. Все они в пимах были, а те как валенки мягкие, так Форсюк кричала:
— Давайте я, у меня сапоги!
Они бросили Вику на снегу — уже без сознания.
А потом как ни в чем не бывало ходили по городу, смеялись, и, может быть, ночью снились им розовые сны. А Вика умирала много дней подряд.
За день до суда Нинка и Витка пришли в школу с ходатайством. В нем было расписано, какая это славная девочка — Света Форсюк! Ну просто ангел с крылышками! Надо освободить ее из-под ареста и сдать обществу на поруки. Витка с Нинкой подходили к каждому и просили подписать. Все мы отказались.
А «боксерки» — так ребята зовут эту парочку — возмущались:
— Ну и люди же у нас в классе!
Форсюк и еще несколько «боксерок» направили в спецшколу.
В городе эта история наделала много шума, а с Козликом стало твориться что-то непонятное. Когда мы сидели у Альки, слушали музыку и я заговорила с ней о ЧП, Козлик умоляюще попросила:
— Не надо, Рита. Я не могу об этом слышать. Мне хочется умереть.
Я люблю жизнь. Плохую, хорошую, со слезами, с радостью — всякую жизнь люблю. Даже когда папочка месяцами не просыхает, все равно мне нравится жить. Поэтому я удивилась:
— Почему, Козлик?
— Да так... Вот с девчонкой этой случай... А сколько еще в мире бед? Вот сейчас мы с тобой говорим, а кого-то убивают. Может, сейчас от боли плачет ребенок. Я не могу, не могу!
25
Перед первомайскими праздниками у нас всегда генеральная уброка класса. Мы объявили Ларисе Васильевне, что мальчишки только под ногами путаются, пусть занимаются другим делом, а с тряпками мы уж как-нибудь сами.
Ребят отослали в столярную мастерскую чинить стулья, а мы терли столы, панели, мыли окна, скребли пол. Класс превратился в картинку. Голубые стены, столы с голубыми крышами, цветы на подоконниках, много цветов. А со стен смотрят Пушкин и Достоевский, Толстой и Некрасов.
Кабинет русского языка и литературы стал нам родным. Я люблю задержаться и посидеть здесь одна.
Мы выпросили из радиорубки, где хозяйничает Паша Ворсин, магнитофон и убирали класс под музыку. Потом сняли обувь и плясали на чистых столах. Общими усилиями девчонки учили меня танцевать.
— Да это же очень просто! — Валя Салидова делает круговые движения бедрами. — Современный танец не признает правил. Слушай музыку лучше — и все!
Окна мы пораскрывали, и двери были открыты. Весенний ветер в классе так и гулял. От работы и танцевальных упражнений на сквозняке я простыла. Заболела через три месяца после операции.
Ну три месяца не болеть — это же для меня рекорд!
И сейчас не горло болело, как раньше, а просто был ужасный насморк — без температуры. Только это еще вопрос — что лучше: высокая температура или насморк, от которого глаза слезятся так, что невозможно читать.
В первый день болезни ко мне заглянули Маша с Лизухой.
— Козлик тоже заболела, — сообщила Маша. — Вы что, сговорились?
— Добегалась без шапки, — это я об Альке. У нас в апреле еще снега хватает и морозы случаются, а она форсила. А может, тоже после вчерашней уборки простыла, все же распаренные были.
— И вы со Славиком вместе болели, — напомнила Лизуха. — Тоже сговаривалися?
Маша дернула плечом и загадочно улыбнулась. Всегда, когда заговаривают о Славике, она так улыбается. И ничего не рассказывает. В восьмом классе еще можно было чего-то добиться, а сейчас все стало ужасной тайной.
В восьмом классе после новогоднего вечера Славка прикоснулся губами к Машиной щеке на пустынной заснеженной улице и получил затрещину. (Славик потом сказал, что после этого Маша стала нравиться ему еще больше.) Так неужели они до сих пор не целуются? Мне иногда невозможно хочется целоваться с мальчишкой.
Говорили мы с девчонками о том, кто куда будет поступать после десятого. Теперь об этом то и дело заходят разговоры.
— Я в технологический, — сказала Маша. — После окончания буду инженером на консервном заводе. Чистенькое местечко, ходи в белом халате и руководи! Никаких особых хлопот.
Я удивилась.
— А я не знаю еще, куда поступлю, — подала голос Лизуха. Она сидела на диване, вытянув полные ноги в шерстяных колготках. — Я вообще считаю, что для женщины не работа главное, а то, как бы поудачнее замуж выйти. А если работа — пусть хоть какая. Но главное, девоньки, — муж. Чтобы муженек начальником был, пусть небольшим, но начальником. Ищи, Мария, начальника. Славик для этой роли не подходит — слишком робкий.
Маша опять пожала плечами и загадочно улыбнулась.
— Да вы что, девчонки? — возмутилась я. — Да разве суть в чистеньком местечке или муже? Или в деньгах?
— А по-твоему, в чем? — спросила Лизуха, снисходительно, как на ребенка гляда на меня.
— Ну не знаю... Чтоб интересно было, а не скучно да спокойно, — я чихнула. — В чистеньком местечке или грязненьком...
— Ты еще просто маленькая. Поживи с мое. — Лизуха на год старше нас и всегда так говорит, когда с ней не соглашаются.
— А замуж я совсем не выйду, — сказала я.
Лизуха хохотнула, а Маша сделала вывод:
— Значит, первая выскочишь.
Девчонки ушли, а я лежала на кровати, глядела в потолок и размышляла.
Где-то я читала, что жизнь человека, как басня, измеряется не длиной, а содержанием. Вот это верно. Я хочу жить только до пятидесяти. Почему? Ну чтобы не быть немощной старухой. И хочу приносить пользу, в чистеньком месте или в грязненьком — лишь бы пользу.
А замуж я точно не выйду.
26
ОРЗ — болезнь пустяковая. Через несколько дней я была в норме. Но уж лучше бы я болела. В школе я так расстроилась, что даже разукрашенные к празднику улицы совсем не радовали.
Расстроил меня не кто-нибудь, а Лариса Васильевна. Она оказалась вовсе не тем святым человеком, за которого я ее принимала.
После болезни я всегда бешусь в школе. И вообще, веселой я бываю только в школе, дома никогда. Во время болезни наскучаюсь без своих любимых девчонок и дико радуюсь, что снова с ними. Сегодня я не могу окоротить себя даже на литературе. Вместе с Лизухой мы шушукаемся. То и дело выдаем какие-то каламбуры, может, и не слишком удачные. Все смеются, и мы довольны, а Лариса Васильевна хмурится. Нечаянно Лизуха задела локтем цветок на подоконнике. Растение с сердцевидными мясистыми листьями опрокинулось.
— Ах, бегония! — ахает Ольга Ипатова, которая носится с каждым цветочком, за что мальчишки с древних времен ее Тычинкой прозвали.
В классе снова хохот. Нет ничего смешного в том, что из цветочного горшка просыпалась земля, но всех почему-то так и тянет посмеяться.
— Конакова, — сказала Лариса Васильевна, строго поглядев на Лизуху. — Давно у тебя в школе родителей не было.
— А чего я? — та, как всегда, полезла в бутылку.
— Как чего? Как ты себя ведешь? Ты посмотри, все смеются над тобой, как над дурочкой.
Конакова притихла, наклонив голову и не поднимала ее до конца урока.
И я опустила голову. Стыдно за Лизуху, что оскорбили ее при всех. Стыдно, что мне не сделали замечания, хотя я вела себя ничуть не лучше, а может, наоборот. И ведь я совсем не надеюсь на безнаказанность. Ругали бы меня как всех.
Так нет же — мне ни слова!
Я рассердилась на классную, да еще как! Пришла домой и накатала ей протест. «Неужели непонятно, — писала я, — что для девушки оскорбительно услышать такие слова, да еще при всех. Мне очень горько, что так получилось. Ведь я вас любила. Я не говорю о себе — мне вы делали только хорошее. Спасибо! Если бы вы также относились к Лизе!»
Я не отдала классной этого письма. Завтра все-таки праздник.
Решила не разговаривать с ней. Пусть догадывается, почему.
27
Пришел май. Весна в городе полная хозяйка. Из всех углов вымела остатки черного слежавшегося снега и, засучив рукава, моет и моет город дождичком.
Я только что вернулась с улицы.
На часах пять утра. Значит, гуляли с Козликом ровно час.
Шли и жалели всех тех, кто спит.
Каждому дворнику говорили : «Доброе утро!»
Раскачивали деревья и плясали под брызгами, срывавшимися с веток. На них уже крупные кулачки почек.
Наблюдали за грачами. У них сейчас строительные страсти. Кричат, спорят. Чего делят? Наверно, этажи на деревьях. Чем выше этаж — тем лучше.
Но вот встает солнце, и где-то далеко-далеко грохочет поезд.
Теперь мы каждый день встаем в четыре утра. Сначала делаем зарядку, километра два бежим трусцой, а потом гуляем. Это прелесть — утренний город. Кругом тихо и спокойно. Почему-то мне кажется, что спокойствие не от тишины, а оттого, что за окнами безмятежно спят люди. И тишина от того же. Спят, забыв о бедах, у кого они есть, о болях, кто болеет. Всегда бы им так спалось.
А вечерами я брожу под дождем, который льет уже третий день. Струи воды стекают по лицу, за воротник куртки, а я иду и улыбаюсь. Холодно, я ежусь, но мне хорошо.
Дождь прыгает по асфальту как озорной мальчишка, рисует круги на лужах. Они исчезают, но упрямый мальчишка рисует все новые и новые. Дождь такой жизнерадостный, как я в последние дни. А почему я веселая, и сама не знаю. С классной по-прежнему не разговариваю. Дома — как обычно, радости мало.
Шуршит дождь, светятся окна. Три окна на пятом этаже в заветном доме светятся для меня ярче других. Свет в них теплый, счастливый. Там живет моя учительница. Я уже давно не сержусь на нее, а только делаю вид. При встречах с ней хмурю лоб, отвожу в сторону глаза, а вечером прихожу под ее окна. И никто этого не знает и не узнает никогда.
А утром мой старый будильник снова зазвонит в четыре утра.
После утренней прогулки Алька садится за книги. А я возвращаюсь домой и постыдно заваливаюсь в кровать. Я не могу читать по утрам, у меня слипаются глаза. Говорят, есть люди-жаворонки и есть — совы. Я — сова, всю ночь могу не спать, а Козлик — жаворонок.
В семь меня будит мама, которая даже не подозревает о наших предрассветных вылазках, и я собираюсь в школу.
Однажды мама разбудила меня и сразу же ушла с сестрой в поликлинику: у Оксанки зуб разболелся. Я собралась еще немножко полежать и нечаянно снова заснула.
В это утро и Алька легла спать. Мы явились с ней одновременно, пропустив первый урок. Встретились на школьном крыльце. Мне смешно стало, что, не сговариваясь, мы пришли на час позже, я засмеялась. И вдруг Алька набросилась на меня:
— Ты что? Из-за меня не была на английском?
И умчалась вперед — злая и лохматая.
Я опомниться не успела — что это с ней? Когда зашла в класс, Козлик уже сидела на своем месте неприступная как крепость. В знак протеста против ее поведения я не стала решать задачи по физике. Демонстративно смотрела в окно.
— Решай, Рита, — тихо подошел Валентин Сергеевич.
Я кивнула, но он отошел, а я снова уставилась в окно. И добилась того, что Алькина ручка ткнулась в спину: «Решай».
«Не твое дело», — дернулось в ответ мое плечо.
Прозвенел звонок, физик сказал:
— Вы свободны, — и тут же мимо нашего стала пронеслась с сумкой на плече Алька. Хватаю свою сумку и тоже бегу из класса.
Не глядя друг на друга, молча и зло, мы оделись и разбежались в разные стороны.
Целый день на душе у меня было то состояние, которое я называю «кислое молоко». Ну из-за чего, спрашивается, поссорились? Я даже читать не могла. Вечером я вышла и направилась в сторону Алькиного дома. В конце улицы кто-то бежал мне навстречу.
Это была Козлик. Торопилась ко мне с виноватой улыбкой. Рот у меня растянулся до ушей.
На весенней улице, не замечая прохожих, ударили ладонь о ладонь — встретились две дурочки.
— Не могу ничего делать, Рита! Все из рук валится!
— Я тоже, сама виновата!
— Да я знаю: вечно все из-за меня. Уеду после десятого и ни с кем знакомиться не буду. Чтобы из-за меня ничего не случалось!
— А ведь урок-то я не из-за тебя пропустила!
— Правда?
— Ну да! Я проспала! Ты же утром рта раскрыть не дала!
— Я на себя разозлилась. Хотела утром книгу почитать и заснула. Никакой силы воли, тряпка какая-то. Извини, да?
Алька засмеялась. А я увидела, как за ее спиной, прямо на моих глазах, тополь стал раскрывать листочки. Я подошла и потрогала: они были липкие и потные, как у ребенка после конфет.
Мы с Алькой расстались убежденные, что никогда больше не поссоримся.
28
Летом, на каникулах, я выработала программу действий в десятом классе: на уроках веду себя тихо, с учителями не спорю, по литературе отвечаю как все, к классной домой не таскаюсь. Словом, решила не выделяться.
Почему-то со стыдом вспоминала, как в девятом рассказывала Ларисе Васильевне все о себе. Теперь же мне не хотелось раскрывать перед ней свою душу, даже рассказы показывать не хотелось.
В самом начале сентября классная подошла ко мне и без всяких вступлений сказала, что мой новый рассказ ей понравился.
Я сразу поняла, как он к ней попал. Ясно-понятно, Козлик дала. Я подарила этот рассказ на память Альке, а она, здрасьте, вот что удумала.
— Можно я оставлю этот рассказ себе? — попросила Лариса Васильевна.
Как я ей откажу? Кивнула. А потом зашла в класс и набросилась на Козлика:
— Просили тебя рассказ отдавать? Просили?
Алька залилась краской.
— Я думала, Рита...
— Хоть бы посоветовалась, хоть бы... — Я слов не находила от возмущения — все планы мои рушились. — Вот сама рассказ напишешь — отдавай кому хочешь, а мои — не смей! Поняла?
Алька мрачно кивнула.
В классе две новеньких девочки — рыженькая Галка и черненькая Люда. А Витка Снегова и Нинка Селькова перешли в другую школу. Мы заметили их отсутствие только на третий день:
— «Боксерок» нет!
Новеньким очень понравилась Лариса Васильевна.
— Такая тетя — просто золотце!
Было приятно это слышать, и меня так потянуло к учительнице, ну сил не было! К тому же Маша сказала, что они с Лизухой на днях были у классной:
— Так просто заходили, поболтать.
А я-то думала, только Игнатова ненормальная: «так просто» заходит.
Я возвращалась из школы всегда мимо дома классной — обычной пятиэтажки. Однажды увидела Игорька: виляя рулем, он ехал на двухколесном велосипеде.
— Рита! — закричал он. — Смотри, я уже без маленьких колесиков катаюсь! Папа их снял!
— Молодец! Крепче держи руль, а то упадешь.
— Ага! А ты чего не заходишь? — Малыш затормозил около меня и поднял круглое личико с хитрыми глазами. — Мама дома.
— В другой раз, Игореша. А ты не знаешь, когда у твоей мамы день рождения? Мне давно хотелось об этом узнать, да ведь не спросишь же у нее самой.
— Знаю, — важно ответил мальчик. — Четырнадцатого ноября. Смотри, как я покачусь быстро! — Игорек оттолкнулся желтой сандалькой от бетонного портика тротуара и укатил.
Надо ее обязательно поздравить. А то что же получается? Она знает дни рождений буквально всех нас, каждого поздравляет, даже из отпуска присылает открытку.
А мы?
29
Недели не прошло, как мы с Алькой поссорились, а я уже скучаю.
Маша бегала к Козлику за конспектом по истории и спросила:
— Вы что, поссорились с Ритой?
— Я с ней не ссорилась, — гордо ответила Алька. — А что, она хочет помириться?
— По-моему, хочет, — сказала Маша.
— Вот и пусть мирится, а я не буду.
Хочу-то я хочу, а вот сделать это трудно. Трудно подойти к ней и сказать:
— Извини, Алька.
Иногда на уроках я смотрю в окно на облака, на деревья, отдающие листья на растерзание ветру. И что мне стоит обернуться и улыбнуться Альке — как и в прошлом году, она сидит за мной. Часто я так и хочу сделать. И — не могу. Почему-то стыдно мириться первой, хотя поссорилась с ней именно я.
Недавно мы столкнулись в библиотеке. От неожиданности я остановилась, уставилась на нее. И Алька остановилась, заулыбалась. Я тоже растерянно улыбнулась и... протопала мимо.
Лишь через месяц, на астрономии, я сделала первый шаг к примирению.
Астрономия была в восемь вечера. Мы собрались в сквере у школы. Валентин Сергеевич установил на штативе маленький ручной телескоп. Телескоп принадлежал лично ему. Еще мальчишкой физик смотрел в него на звезды.
— И сейчас часто смотрю с балкона, — сказал Валентин Сергеевич, смущенно улыбаясь.
Славный он, только тихий, нерешительный. По этой причине мы по-прежнему плохо сидим на его уроках, шумим, занимаемся кто чем. А он не сердится, странный.
У телескопа выстроилась длинная очередь. Ребята толкались, галдели и никому не разрешали разглядывать звезды подолгу — всем не терпелось посмотреть скорее.
Валентин Сергеевич нацелил телескоп на Сатурн. Привет, Сатурн!
Козлик опоздала на звездный урок, встала в очередь последней. Я повернулась и махнула ей рукой: иди сюда! Она молча подошла, встала впереди меня, но ни разу не обернулась.
Потом мы без телескопа любовались россыпями звезд, сидя в сквере на скамейках. Вадим Елин наигрывал на гитаре. На него, не отрываясь, смотрела Маша. Рядом с ней сидел ее преданный рыцарь Славик Сироткин. Лизуха с Иркой о чем-то шептались и посмеивались. На краю противоположной от меня скамейки сидел незаметный Леня Филатов. Слушая игру Вадима, он смотрел под ноги, но иногда я ловила на себе его несмелый взгляд.
Было хорошо сидеть вот так вместе с одноклассниками около родной школы в последний школьный год. Было радостно думать, что Алька подошла ко мне, когда я подозвала ее. Было удивительно ловить на себе редкие взгляды Лени, который так вытянулся за это лето, что перерос меня.
Вообще было хорошо.
Ни о чем мы не говорили, просто слушали бесхитростную игру Вадима. Потом гитару взял Славик.
Фонари в нашем районе почему-то не горели, и звезды словно приблизились к нам. Не обязательно было смотреть в небо, чтобы видеть их, звезды были как бы со всех сторон и, может быть, даже в нас.
И вдруг я сочинила стихотворение — о Ларисе Васильевне. Надо было сейчас же бежать домой — записать его, но разрушать наше молчаливое единение под тихими звездами не хотелось.
Когда все разом засобирались домой, Маша сказала:
— Пошли с нами.
Это с ней и со Славиком — нам по пути. Зачем мне мешать влюбленным? Побежала одна, повторяя вслух строчки, спотыкаясь обо что-то в темноте.
Утром я бросила заклеенное в конверт стихотворение в почтовый ящик классной.
Когда в понедельник Лариса Васильевна зашла перед физикой в класс, я спряталась за штору и стояла там, боясь шевельнуться, пока она разговаривала о чем-то с Фадей.
Встретиться с классной в этот день все-таки пришлось.
В химическом кабинете между рядами столов — краны. Вода нужна для опытов на лабораторных работах. Я пишу не шариковой ручкой, как все, а авторучкой. Она очень мягко пишет, но ее надо промывать. И вот когда я подставила ее под струйку воды, Костя Попов неожиданно изменил напор. Я отпранула от раковины, но брызги чернил и воды полетели на стенку.
Ребята захохотали.
Обычно Мария Георгиевна сразу кричит на того, кто провинился, а тут она стала кому-то жаловаться:
— Посмотрите, что Игнатова вытворяет!
Я оглянулась.
В класс заглядывала Лариса Васильевна. Она, наверно, услышала смех, проходя по коридору, поэтому и заглянула.
Как же она на меня посмотрела! Лучше бы сто замечаний, чем один такой взгляд!
Я отвернулась, съежилась.
Химичка поставила мне кол. Она вообще меня не любит. Говорит, что все мои хорошие оценки по ее предмету с огромными натяжками. Ладно еще, что не обзывает меня, как некоторых мальчишек. Она, например, запросто может крикнуть.
— Дурак ты! Дурак настоящий!
И еще десять раз повторит.
Вот и сегодня — за что кол? Я же хотела просто вымыть авторучку. Но Мария Георгиевна не разбирается, виноват ученик или нет. Зачем разбираться? Колы ставить легче.
30
В три часа начинался факультатив по русскому языку. В школе классная предупреждала:
— Всем прийти обязательно, начнем готовиться к экзамену.
Но мне было настолько перед ней стыдно, что я на факультатив не пошла.
Сидела дома и учила уроки. Тщательно, как никогда. Задачи по алгебре сделала сначала в черновике, потом переписала. Английский текст вызубрила. Разобралась и в задачках по физике.
Однако нет-нет, да и вставало перед глазами осуждающее лицо классной.
Когда вечером в дверь позвонили, я решила, что пришла Алька, и кинулась со всех ног открывать. Раньше Козлик часто приходила разбираться, почему я что-нибудь там пропустила.
Наконец-то помиримся!
Но в прихожую влетела Маша Булатова. Пальто нараспашку, шапочка — набок, светлые вьющиеся волосы выбивались из-под нее, глаза блестели от слез. В комнате Маша без слов бросилась на диван и закрыла лицо руками.
Такой взволнованной и взъерошенной Маша была, наверно, первый раз в жизни. Она же всегда спокойная, уравновешенная. Моя понятливая сестренка взяла тетрадь, в которой что-то писала, и вышла.
Мы остались вдвоем, но Маша продолжала молчать и только прикладывала к пылающим щекам ладони.
— Да что с тобой? — испугалась я.
Маша быстро взглянула на меня, как-то нервно рассмеялась, из глаз потекли слезы.
— Да что случилось-то, Машка?
— Рита! Я люблю его! — выпалила она и снова нервно рассмеялась.
Я с облегчением вздохнула.
— Господи! Да об этом вся школа знает! Люби на здоровье!
И вдруг:
— Не Славку я люблю! Не Славку!
Вот это да! Мои глаза полезли на лоб. Два года дружила со Славиком, а любит, выходит, другого?
— А кого же? — спросила я, немного придя в себя.
— Теперь уже можно не скрывать... — Маша терзала в руках свою голубую пушистую шапочку. — Елина!
Вот это да! Везет же этому красавчику!
— С каких это пор? А Славик?
— Славик, Славик... Что, Славик? Я как пришла к вам в восьмом, как Вадима увидела...
Толком от Маши ничего нельзя было добиться. Но она сидела у меня весь вечер, и я постепенно все-таки выяснила, что произошло.
После факультатива к Маше домой пришел Славик Сироткин. В этом не было ничего удивительного — он приходил каждый день, они вместе делали уроки, слушали музыку. Но сегодня он был без «дипломата» и раздеваться не стал. Стоял в прихожей. Какой-то растерянный, руки в карманах прятал, на Машу старался не смотреть. По всему было видно: что-то он задумал.
— Ну ты в комнату-то пройди, — настойчиво позвала Маша.
Он прошел. Сел на стул, на котором так часто сидел, готовя уроки, и вдруг произнес:
— Маша, я люблю тебя.
Маша как раз хотела включить магнитофон. Она замерла, некоторое время стояла на месте, закусив губу, потом обернулась, жалостно поглядела на Славика. И неожиданно кинулась к столу, вытащила толстую голубую тетрадь, сунула ее Славке и выбежала из комнаты.
Сироткин открыл тетрадь. Он читал и ничего не понимал. Тетрадь была исписана ровным Машиным почерком не про него, Славика, а про Вадима Елина. И написана без всяких недомолвок. Это был Машин дневник.
Когад Маша вернулась, Славик сидел в полутемной комнате. Дневник лежал перед ним. Маша заметила, что его глаза покраснели, но ничего не сказала. Села рядом на другой стул.
Так они молча посидели.
Маше было жаль Славика. И все-таки сейчас, когда он все узнал, ей стало гораздо легче — не надо теперь врать, притворяться. Уже давно дружба Сироткина была тяжела ей. Маша догадывалась, что Славик ее любит.
— Я пошел, — Славик наконец обрел дар речи.
Примерно через час он вернулся.
— Знаешь, я все Елину рассказал, — повернулся и стал спускаться по лестнице.
Случилось то, о чем Маша мечтала уже два года: Елин все узнал. Маша была благодарна Славику. Ведь он мог и не ходить к Елину, и никто, кроме них двоих, не знал бы ни о чем. Сама Маша ни за что бы не призналась Вадиму.
Наверное, Славик не сомневался: Елин будет счастлив от мысли, что его любит такая девчонка, что он тут же полюбит ее сам. Полюбит потому, что Машу не любить невозможно. Так, видимо, думал Славик.
А Маша представляла себе изумленного Елина. И вдруг вспомнила, что завтра в школе увидит его! Увидит тогда, когда он все узнал!
Вот тут Маша не выдержала — схватила пальто, шапку и побежала ко мне.
— Рита, что завтра будет? Как я покажусь ему на глаза? Рита!
Маша и плакала и смеялась, и снова плакала и смеялась.
Вернулась сестренка — пора было ложиться спать. Чтобы не мешать ей, мы вышли в коридор. У нас большой теплый коридор, где стоит сделанный отцом ящик для картошки. Мы сели на этот ящик. И Маша снова заговорила о своей любви.
Никакой загадочности в ней не осталось. А мы-то, глупые, трепались о ней да о Славке, о ней да о Славке. А она в это время только улыбалась таинственно.
Теперь мне стало понятно, почему Маша так странно на Елена смотрит. Уставится на него и смотрит, смотрит. Скажешь ей что-нибудь, она даже не услышит.
Интересно, разочаруется ли Маша в Елине, как Алька, или нет? Козлику для этого нескольких встреч хватило. Но ведь Алька не Маша. Маша гораздо проще. Проще? А какую тайну носила в душе?
На другой день Маша пришла в школу бледная. Села на место, достала учебник истории, уткнулась в него.
Я обернулась на Елина. Он тоже старательно читал учебник.
Славик копошился в портфеле. Достал историю и, подперев руками щеки, стал ее изучать.
Не думаю, что они читали.
Остальные вели себя как обычно и ведать не ведали, что у трех их одноклассников жизнь круто изменилась.
— Спала хоть? — спросила я Машу.
Она помотала головой. Я так и знала.
Славик в этот день к Маше не подходил. Лизуха это сразу приметила.
— Сироткин, ты что, с Булатовой поссорился? — спросила она.
Славик не ответил. Сделал вид, что не слышит. Лизуха тогда к Маше:
— Чего со Славкой не поделили?
То же молчание. Маша лишь покраснела, закусила губу и пожала плечами.
Лизуха стала задумчивая. На переменах стояла в рекреации одиноко и обиженно. Подходили девчонки, о чем-то спрашивали, она на все одинаково отвечала:
— Не знаю... Не знаю...
Я думала, что Елин обязательно подойдет к Маше, скажет что-нибудь. Не подошел. Даже не взглянул на нее ни разочка.
После уроков Таня Орлова объявила, что на осенних каникулах можно поехать в Москву, на пятидневную экскурсию. Таня узнала об этом в экскурсионном бюро.
— А сколько путевка стоит, Орлицина? — спросил Сережик Кольцов. Он всегда зовет Таню не Орловой, а Орлициной, объясняя, что Таня — не орел, а орлица.
— Сто пять рублей, Колечко.
— Ты что, Орлицина? Где мы их возьмем? Заработать не успеем — времени-то пшик!
— Половину расходов возьмет на себя школа, — пояснила Таня. — Я говорила с директором.
Это многих устраивало. Почти все записались на поездку. Пятьдесят рублей для родителей — не проблема. Только моей маме да Иркиной трудно их выделить. Но все-таки я тоже записалась — вдруг мама разрешит поехать. Этим летом я тоже работала, зарплату ей отдавала.
А Ирке сейчас никакая Москва не нужна. Народный театр, где она занимается, на осенних каникулах едет на гастроли по селам, Ирка этим дни и ночи бредит.
Маша назвала свою фамилию, и тут же, следом, записался Вадим. Маша радостно вспыхнула и благодарно взглянула на Елина. Похоже, для нее уже то счастье, что их фамилии стоят рядом. А Вадим так и не посмотрел на Машу.
31
Мои одноклассники уже все побывали в Москве. Кто специально ездил, кто проездом. Только мы с Иркой столицы не видели. У меня нет возможности ездить куда-нибудь. Остается завидовать тем, кто делает это каждый год. Ездят почти все из класса, большинство — на море. У всех же нормальные отца, не то, что мой.
Сейчас мама не возражала против поездки в Москву.
Но вот что обидно — с нами не может ехать Лариса Васильевна. Муж ее опять в командировке. Классная больше нас расстраивается:
— Так с вами хочу!
Сопровождать нас согласилась Светлана Светозаровна. Вообще-то она неплохая: добрая, веселая. Ябеда только.
Классная на меня уже не сердится: я веду себя исключительно хорошо.
Никуда мы не едем!
В самый последний момент, когда новая директорша Марфа Никитична уже должна была выдать Орловой путевки, возмутились учителя:
— Почему едет десятый «Б»? У них дисциплина хуже всех!
— Да ведь это их идея! И учатся они последний год! — защищала нас Лариса Васильевна.
— Вот после десятого и будут ездить — кто куда хочет, — решила за нас Змея Заминированная.
— Но ведь это у них последняя возможность поехать вместе! Они на всю жизнь эту поездку запомнят!
— Всем вместе — надо было в трудовой лагерь ездить, — упрекнула Мальвина Николаевна, классная руководительница седьмого «А» класса.
— Но ведь их туда не взяли! — возмутилась Лариса Васильевна. — Сами же на педсовете решили: в трудовой лагерь едут только восьмые классы.
Но учителя классную перекричали. Новая директриса спорить с ними не стала. И путевки, которые с трудом выбила Таня Орлова, передали седьмому «А», классу Мальвины Николаевны. Ей всегда уступают, у нее муж крупный начальник.
Что мы могли сделать? Деньги за путевки перечислила школа, а свою долю мы еще не внесли.
Ясно-понятно, было обидно. А Лариса Васильевна даже плакала. Это случилось перед самым партийным собранием, на котором нашу учительницу должны были принимать в партию.
32
О том, что классную будут принимать в партию, сказала нам на уроке обществоведения Светлана Светозаровна.
Партийное собрание было открытым. Мы явились на него всем классом. Все нарядные, девчонки в белых фартуках, мальчишки в белых рубашках, многие при галстуках. Никто не забыл комсомольский значок. Ведь это было первое партийное собрание в нашей жизни.
Цепочкой мы потянулись в актовый зал. На глазах удивленных, не понимающих, зачем мы здесь, учителей прошли в последние ряды.
Лариса Васильевна тоже не ожидала нашего появления. Она сидела в середине зала в полном одиночестве. Ей и так было не по себе, а тут еще мы. Увидев нас, классная заволновалась, на ее лице проступили красные пятна.
Секретарь партийной организации — завуч Татьяна Кузьминична прочла вслух заявление нашей классной. Потом выступили те, кто давал ей рекомендацию. Татьяна Кузьминична предложила учителям высказаться «по данной кандидатуре», но все молчали. Многие еще злились на Ларису Васильевну за то, что она не соглашалась отдать путевки, что нас защищала. Так и сидели молча, как воды в рот набрали. Нас ругают на комсомольских собраниях, что мы неактивны, а сами?
Мне почему-то кажется, что учителя завидуют нашей классной. Ведь все ребята, которых она учила, любили ее больше других. Если, правда, завидуют, значит, классная в учительском коллективе одинока.
Я немножко представляю, что такое — быть одинокой.
Я уже была одинока. В пятом и шестом классах девчонки здорово не любили меня. Я писала стихи, а они говорили — зазналась. Как будто писать стихи — зазнайство. Девчонки бойкотировали меня два года. Мальчишки плевали на мое стихоплетство, они девчонок не поддерживали, но с ними я из стеснительности не общалась.
Сейчас отношения в классе нормальные. Да, я сочиняю стихи и рассказы, но теперь это мое личное дело, никто в него не суется.
Поэтому я понимаю — тяжело Ларисе Васильевне, если ей завидуют.
— ...Лариса Васильевна Омельченко с честью выдержала кандидатский стаж, — прервал мои размышления голос завуча. — Я уверена, что она будет настоящим коммунистом!
Учителя без энтузиазма захлопали.
— Поздравляю вас, Лариса Васильевна, с принятием в наши ряды! — Татьяна Кузьминична пожала классной руку.
Все еще раз захлопали.
— Переходим ко второму вопросу повестки, — объявила председатель собрания Мальвина Николаевна. — Слово имеет...
Но договорить ей мы не дали. Зашумели, а Сережик Кольцов затопал было ногами, но Орлова шикнула на него.
— Подождите! — нерешительно крикнула Маша.
— Слово десятому классу! — завопил Сережик.
Татьяна Кузьминична смутилась, что-то шепнула Мальвине Николаевне, и та с унылым видом предоставила нам слово.
А ведь Таня Орлова предупреждала взрослых, что мы хотим выступить. Забыли или нарочно?
Лариса Васильевна уже успела сесть на свое одинокое место. Мы попросили ее снова выйти к сцене — за ней с букетом цветов Оля Парамонова и Гриша. Гриша произнес целую речь о том, как мы любим нашего классного руководителя и какой она замечательный учитель. Потом они вручили Ларисе Васильевне цветы.
А класс встал, и на весь зал раздалось:
— Поз-драв-ля-ем! Поз-драв-ля-ем!
Лариса Васильевна стояла с букетом у сцены и грустно улыбалась. Время от времени она повторяла:
— Спасибо... Спасибо...
Только сейчас я заметила, какая она у нас еще молодая!
Все мы любим классную. Даже Лизуха! Лариса Васильевна поняла это на партийном собрании, а на четвертый после осенних каникул день мы это подтвердили: в день ее рождения преподнесли букет чудно пахнущих белых цветов.
Вечером я была в подъезде классной. Как мне не хватало Козлика или Ирки! Ведь все операции здесь я проводила то с одной, то с другой.
Но с Алькой мы так и не помирились. С Иркой перекинемся парой фраз — и все. Друга со мной рядом нет. Я общаюсь со всеми в классе — с Машей, Лизухой, Юлей. Но разве можно назвать это дружбой?
На двери квартиры классной сверху донизу, на перила лестницы от пятого до четвертого этажа кнопками я пришпилила классные фотографии.
Вот подперев подбородок рукой, белозубо улыбается Козлик. Вот Фадя на плоту посреди озера — с недовольным лицом. Смеющийся у костра Костя.
У нас много фотографий, особенно походных. Паша Ворсин, Алька и я любим фотографировать. Мне вся аппаратура досталась от Вовки — дяди, который сейчас в армии.
Утром я снова проснулась с кашлем, и мама не пустила меня в школу. Уж как я ее упрашивала. Но мама сказала, что придет на работу и вызовет по телефону врача. Не оставлять же доктора один на один с закрытой дверью.
33
После уроков пожаловала Булатова. Соизволила! Она не была у меня со дня разрыва с Сироткиным — месяц примерно. Маша рассказала, что с английского ее вызвала Лариса Васильевна и прямо в коридоре расцеловала:
— Спасибо вам за все, Маша! И за цветы, и за фотографии! Спасибо! Это же надо зимой — цветы! Я вчера весь день на них любовалась. И ночью — проснусь, подойду и посмотрю на них. Спасибо!
— Фотографии — твоя работа? — с видом следователя спросила Мария.
Пришлось сознаться.
— Как у тебя-то дела? — спросила я.
— Как, как?.. Хорошо, — Маша улыбнулась и опустила блестящие глаза. — Мы сегодня вместе сидели.
Вниманием девочек красивый Вадим не был обделен, но ему по-настоящему никто не нравился, в прошлом году слегка — Алька Козлова. Не только симпатичная — Елин только симпатичных признавал, — но и умная. Но Алька разочаровала его своей дремучестью. В наше-то время не признавать моду, слушать только скрипку?
То, что его, оказывается, любила Булатова, первая красавица класса, потрясло Вадима даже не фактом любви, а тайной. Он всегда считал, что девчонки болтливы, и вдруг — такая тайна. Вадим знал, как много мальчишек — не один Сироткин — вздыхало по Маше. Поэтому Машина любовь льстила его самолюбию. Но в первое время после ошеломляющей новости Вадим не знал, как ему с Машей вести себя. Он боялся ее.
А когда я заболела и место рядом с Машей освободилось, Вадим набрался храбрости и, ни слова не говоря, сел с ней за одну парту.
На уроках учителя не могли успокоить шушукающихся девчонок, многим из которых нравился Елин. У девчонок была причина волноваться — куда им тягаться с такой соперницей, как Маша!
Смирившись, девчонки сочувственно оглядывались на Славика, вздыхали:
— Бедный Сироткин!
Лизуха Конакова была оскорблена в лучших чувствах. Она, первая Машина подруга, ничего не знала! Лизуха демонстративно не смотрела на Машу, не разговаривала с ней. Она даже тихонько поплакала в укромном, заставленном фикусами и пальмами в кадках уголке около биологического кабинета. Конаковой тоже нравился Вадим.
Не только девчонки были поражены. Мальчишки ошарашенно поглядывали на Булатову, а заодно и на других одноклассниц. Вдруг у кого-то еще есть подобная тайна?
34
Да, тайна была. Я узнала об этом позже. Хотя можно было давно догадаться, будь мы повнимательнее.
Однажды на алгебре раздались всхлипы. Я оглянулась. Плакала Юля — само спокойствие и улыбчивость.
Юля некрасивая. У нее длинный нос, пористая кожа, слишком бледные, неясных очертаний губы. Лишь глаза у Юли хороши — большие и серые, в длинных ресницах. Порой мне кажется, что они лучатся.
И вот эта тихая девочка плакала на уроке! Да еще на алгебре!
Сначала она негромко всхлипывала, а потом судорожно зарыдала. Я боялась, что математичка сейчас раскричится, но Зинаида Анимировна неожиданно ласково произнесла:
— Юля, выйди, пожалуйста, успокойся.
Юля, наверное, не слышала, продолжала плакать. Весь класс смотрел на нее.
Змея долго уговаривать не будет, заорала:
— Я сказала: выйди!
Юля вскочила и, закрыв некрасивое лицо ладонями, выбежала в коридор.
На перемене она уже улыбалась. Мы допытывались, в чем дело. Может, помочь надо? Юля лишь отмахивалась от нас.
В пятом и шестом классах я часто бывала у Юли Кох. Наши дома стоят рядом. Мы дружили. Юля не подчинялась девчонкам, которые меня бойкотировали за стихи, наоборот, просила, чтобы я их ей читала. Я не только читала ей стихи. Например, воображу себя девочкой, которую взяли сниматься в кино, и придумываю весь фильм. Пересказываю его потом Юле. Она слушает, раскрыв рот, а потом пристает:
— Где ты это кино видела? Почему меня с собой не взяла? Какой фильм интересный!
Я признавалась, что «кино» сочинила. Юля ахала и охала. Когда меня куда-нибудь посылали, а одной было лень, я тащила за собой Юлю. Правдами и неправдами она вырывалась из дому, так ей хотелось послушать мою очередную выдумку.
А дома ей жилось несладко. У нее нормальные родители, но ужасная бабушка. Она заставляла Юлю все время что-нибудь делать. Придешь, бывало, к Юле и слышишь каждую минуту:
— Ю-у-ля-а!
— Счас!
Послушная Юля мчится на зов. Бабушка велит ей цветы полить или половики вытряхнуть.
Сделав это, Юля снова пробует посидеть со мной. Не тут-то было. Вновь раздается тонкое и протяжное:
— Ю-уля-а!
Подружка моя снова бежит.
На кресле в ее комнате всегда лежала груда носков и колготок младших Юлиных братьев, которые надо было починить. А как Юлька штопала! По-моему, заштопанные они смотрелись лучше новых. Она и шила, и вязала прекрасно. Девчонкам многим шапки связала. Причем вязала в школе — на переменах и после уроков, дома бы ей бабушка не позволила.
Теперь-то я понимаю, почему Юля слушала меня, раскрыв рот. Попробуй она взять книжку! Уроки и то бабушка разрешала ей делать, скрепя сердце. А родители весь день на работе. Да, по-моему, они сами боялись эту зловещую бабку — худую, сгорбленную, с крючковатым носом, все время что-то бормочущую по-немецки. Из-за нее к Юле никто из класса не приходил. И я перестала.
Но к бабушкиным притязаниям Юля давно привыкла. Не поэтому же она плакала на уроке!
О Юлином горе проболтался Игорек. Увидел меня в субботу, когда я возвращалась из школы, бросил санки, подбежал и спросил нетерпеливо:
— Хочешь секрет скажу?
— Хочу.
— А ты никому больше не скажешь?
— Только маме твоей.
— А мама знает! — Игорек засмеялся и громко выпалил: — А Юля Кох Леню Филатова любит! Интересно, да?
Я думала секрет какой-нибудь детский. Ну, например, у него конфета есть. Игорек меня ошарашил.
— Знаешь, нисколько неинтересно, — сказала я, чтобы у малыша не возник соблазн поделиться тайной еще с кем-нибудь. — Учти, Игореша, когда я буду к твоей маме с секретами приходить, тебя, болтушку, прогоню в другую комнату.
— А я и был там! — обрадовался мальчик. — Только услышал! Прокати меня, а?
Я усадила Игорька в санки, положила на его коленки портфель и понеслась по двору под звонкий смех мальчугана.
Вот почему Юля плакала на алгебре: влюбилась в Леню, а он не обращал на нее никакого внимания.
Влюбиться в Леню — надо же умудриться! Мне даже думать о нем скучно!
Когда в очередной раз Леня обратился ко мне:
— У тебя есть запасная ручка? Я свою дома забыл.
Я ответила:
— Леня, у меня нет второй ручки. Но я точно знаю: у Юли есть.
Леня отыскал взглядом Юлю в кругу девчонок, но так к ней и не подошел.
Ко мне Леня обращается все чаще. Однажды, когда болела, я видела его под своим окном. Он заметил, что я смотрю на него, и сразу ушел. Наверно, это была случайность. Я выглядывала в окно в другие дни — Лени не было.
35
Мой любимый день — пятница. Тогда у нас две литературы и классный час. Лариса Васильевна почти весь день с нами. Для меня любая пятница — праздник.
И точно так же я ненавижу среду. У классной уроков нет, и она вообще может в школе не появляться.
И все-таки почему я прогуляла среду, толком не могу объяснить. Утром, перед школой, хотела немного почитать: время еще было, а очнулась, когда первый урок уже начался. Опаздывать на алгебру было опасно. И я решила один день пропустить и спокойно дочитать «Овода». Тем более, что Ларисы Васильевны в этот день тоже не будет. Мама в командировке. Отцу не до меня, возится в другой комнате, роняет что-то, то ли собирается на работу, то ли нет. Оксанка уже ушла.
Я удобно устроилась на диване и, касаясь рукой теплой батареи (в комнате было прохладно), погрузилась в чтение.
Я уже читала «Овода» — где-то в четвертом классе. Но по-прежнему не могла оторваться.
Дочитала книгу и еще долго сидела без движения.
Потом я посмотрела на часы. Уроки в школе давно кончились. В комнате полутемно. Я со страхом стала ждать, что ко мне кто-нибудь явится. Знала, что соврать не смогу, и было совестно за прогул.
Но девчонки словно знали, что я «сачкую», — не пришли. Скорее всего, никому не хотелось выходить лишний раз на улицу в сорокаградусный мороз. Уже десять дней в нашем городе такие морозы. Сегодня опять отменили учебу с первых по восьмые. Сестренка утром вернулась из школы, оставила портфель и ушла к бабушке. Даже не спросила, почему я дома. Подумала, что так надо. А может, побоялась. Ведь я и рявкнуть могу: «Не твое дело!»
Радоваться бы, что никто не пришел — врать не надо. Но мне почему-то стало тоскливо. Я решила, что никому не нужна и что за весь школьный день обо мне никто не вспомнил.
А раз обо мне никто не вспомнил, то и на следующий день в школу я не пошла. Решила точно проверить — придет кто-нибудь? Если нет, ясно-понятно, никому я не нужна.
В четверг у нас пять уроков, и уже с часу дня я сидела как на иголках. Окно сверху донизу было красиво заморожено, я то и дело открывала форточку и высовывалась в нее. Все-таки кто-то да должен ко мне зайти. Высмотрела Ирку и Салатову — около моего дома они переходили перекресток. Прошли. В мою сторону даже не взглянули.
Все! Никому я не нужна!
Потрясенная этим открытием, я опустилась на стул.
Алька вычеркнула меня из своей жизни. Так мне и надо. Ты правильно поступаешь, Алька.
Маше я нужна только в плохие для нее минуты. Сейчас с Вадимом ей распрекрасно. Что ей какая-то соседка по парте?
С Иркой у нас ненормальные отношения. То в упор друг друга не видим, а то нас водой не разлить. Я воображала, что наступает неразлучное время. Ошиблась.
Почему перестала бывать у меня Юля? Может, она обижена, что ко мне Леня подходит? Он у меня возьмет что-нибудь, потом возвращает. Но что здесь особенного?
Я вскочила на стул и снова выглянула в форточку.
И тут я увидела, что под моим окном опять стоит Леня.
Он съежился от холода и напоминал озябшего воробья, жалкий был какой-то. В шапке-ушанке, надвинутой на лоб, руки в карманах пальто... Серые зайчата глаз смотрят нерешительно, словно ждут, что я его сейчас прогоню.
Чего он тут?
— Леня, — крикнула я, закрыв ладонью горло и, как дракон выдыхая клубы пара. — Леня, ты чего здесь стоишь?
— Я не стою, — ответил Леня и подышал в перчатку. — Я так...
— Лень, беги домой, у тебя нос уже белый.
Леня закрыл нос рукой и послушно кивнул.
Когда я снова выглянула в форточку — Лени не было.
Я задумалась. Выходит, Леня приходит под мое окно только тогда, когда меня не бывает в школе? Может, он и вчера тут торчал, а я и не знала.
И до моего сознания вдруг дошло: Леня, бедный Леня, влюблен в меня.
Разве в меня можно влюбиться?
Я подошла к зеркалу.
Глаза, как серые плошки. Ресницы могли бы и подлиннее быть, так, какие-то щетки. Нос как нос, и губы как губы.
Я показала себя язык и отошла от зеркала. Мне было очень обидно. Никто из девчонок ко мне не пришел. Значит, им все равно, есть на свете Рита Игнатова или нет. Если бы я даже умерла, они бы этого не заметили.
Больше я не пойду в школу — раз я там никому не нужна!
36
На следующее утро я шла морозной улицей с паспортом в кармане: устроиться на работу — вот что мне надо сделать!
Розовел снег от лениво встающего в морозном тумане солнца, похрустывал под ногами снег.
Я глазела по сторонам: читала вывески. Всякие магазины, парикмахерские, кафе меня не интересовали. В библиотеке объяснили, что требуются работники со специальным образованием.
В строительном управлении начальником отдела кадров был несолидный парень с озорным, в веснушках, лицом. Он сидел за большим столом и радостно улыбался. На столе лежали местные газеты — русская и коми, две какие-то тонюсенькие папки.
— На работу хочешь устроиться? Ну молодец! — сказал он таким тоном, каким обычно поздравляют с днем рождения. — Сколько тебе годиков?
— Шестнадцать.
— Это замечательно, что шестнадцать. Могу взять. Давай паспорт! Оформлю тебя разнорабочим! — И он протянул руку за паспортом.
— Кем-кем? — Мне показалось, я ослышалась.
— Разнорабочим. А что? — Улыбка на его лице медленно исчезла, он выпрямился на стуле, и сразу стал соответствовать своей строгой должности.
— А маляром хотя бы нельзя? — Я представила себя, несущей бетонный раствор, согнутой от тяжести в три погибели, и поняла, что не выдержу этой работы.
— Штукатуром-маляром? Можно, милая девушка, можно. Только после училища. Лады? — Начальник опять засиял и превратился в мальчишку. — А у тебя, что, неприятности? — заговорщически спросил он, и мне почудилось, что он вот-вот подмигнет.
— Извините, я не смогу разнорабочим, — ответила я жизнерадостному начальнику и вышла.
Я чуть не разревелась в этом отделе кадров и уже никуда не хотела. Только в школу. Я представила наш уютный класс, урок литературы, Ларису Васильевну. Классная видит: мое место пустует, и ей, быть может, меня чуточку не хватает.
Что ж я делаю? Я прогуливаю третий день, прогуливаю пятницу, с тремя уроками классной!
Я повернула в сторону школы.
На улице по-прежнему стоял морозный туман. За несколько метров ничего нельзя было различить. Машины, очертания которых угадывались на дорогах, двигались с зажженными фарами, как черепахи. Прохожие с поднятыми воротниками выныривали прямо перед носом. Брови и ресницы у всех были в мохнатом инее. Я чувствовала, что и мои ресницы удлинились, стали приятно-тяжелыми, как у куклы. Вот бы у меня всегда были такие ресницы.
Вынырнувший из тумана человек с усами, похожими на стеклянную вату, оставновил меня и сказал, чтобы потерла щеку — она у меня белая. Я сняла рукавицу и приложила к щеке теплую ладонь. Отмороженное место уже не ощущало ее тепла. Теперь здесь несколько дней будет красное пятнышко. Вот так морозы напали на наш город! Сегодня снова минус сорок пять!
Я зашла в тихую школу. Раздевалка была закрыта, и технички с ключами нигде не было видно. Я сняла пальто и примостила его на подоконник.
Сегодня я не собиралась учиться и была не в форме, а в старой клетчатой рубашке и черной юбке. Ну и ладно.
Замирая, поднялась по пустынной лестнице на второй этаж. Почти все классы были пусты — из-за холодов учились только девятые и десятые. Из приоткрытой двери кабинет истории послышался голосок Динозавровны, хвалившей кото-то:
— Очень хорошо! Жалко, что отметки «шесть» не существует!
Волнуясь, я прошла светлый коридор, похожий на бесконечно-длинную красно-синюю шахматную доску. Как я могла решиться уйти из школы раньше времени? И так через несколько месяцев расставаться с ней, расставаться навсегда. Зачем же приближать эту минуту?
На пороге класса я появилась со звонком.
— О-о-о! — возглас удивления вырвался у Сережика.
— Те же и Игнатова, — прокомментировал Кузнецов.
Алька равнодушно посмотрела на меня. Маша приветливо улыбнулась. Взгляд Лени выразил восхищение.
В прошлом году я точно так же смотрела на Сережу Ковалева, когда он зашел ко мне в палату попрощаться не в привычной глазу больничной пижаме, а в толстом зеленом свитере, поверх которого был небрежно накинут белый халат. Раньше Леня видел меня только в форме, и поэтому так понравилась ему моя старенькая рубашка в черно-желтую клетку.
— Сядь, Рита. — Классная посмотрела на меня долгим испытывающим взглядом. — После уроков останься.
Я кивнула. Когда все разошлись по домам, я рассказала ей все.
Она не ругала меня. Она вообще никого не ругает и все понимает.
— Почему ты теперь не бываешь у меня? — спросила она в конце разговора. — Я тебя жду.
От этих слов я чуть не зарыдала. Нервы, что ли, у меня не в порядке? Из-за пустяков сразу плакать хочется.
Я поняла, что больше никогда не буду прогуливать.
37
Приближался Новый год.
Я люблю зиму. Снег в нашем городе почти всегда чистый. Снега много, особенно на окраинах. Снегоуборочные машины и дворники не успевают его убирать. Здесь, среди сугробов, протоптаны извилистые, узкие — на одного человека тропки. Деревянные домики стоят под толстыми снежными платками и, как задумавшиеся старушки, смотрят из-за заборов на улицу. Словно чего-то ждут.
Я люблю бродить по этим путанным тропинкам и думать о своем.
В первый день Новго года меня разбудила мама. Лицо у нее радостное и взволнованное, прямо-таки счастливое. Такое лицо у мамы — большая редкость, поэтому я тут же села в кровати. Сна как не бывало.
— Поздравляю тебя, Маргаритка!
— Тебя тоже с Новым годом, мама!
Мама протянула мне газету. Я с недоумением взяла.
— На последней странице, — подсказала она.
Я посмотрела. Тряхнула головой и опять посмотрела.
Не может быть!
Газета подвела итоги конкурса на лучший за год рассказ — мой, весенний, отмечен поощрительной премией. Я вскочила с кровати, чмокнула маму куда-то в нос и через полчаса была у классной.
Как и после первого стихотворения в «Пионере», Лариса Васильевна поцеловала меня и назвала «умницей». Это у нее высшая похвала.
В углу комнаты светилась огоньками, по-моему, красивейшая в гороед елка.
Сейчас около елки с хитрым видом, заложив руки за спину, прохаживался Игорек в костюме зайчишки, одно ушко беспомощно повисло.
— Рита, хочешь апельсин? — спросил он.
— Хочу.
— Иди съешь.
Апельсин, оказалось, висел на ветки и был стеклянный. Пришлось изобразить, что «съела». Почему-то, когда малыши делают что-то понарошку, у них это получается как будто так и надо. А когда дылды вроде меня, смешно и нелепо.
— Зайка, а что с твоим ушком? — спросила я. — Его волк оторвал?
Игорек испуганно потрогал ушко, висевшее на одной нитке, и оно осталось в его руке.
— Да, волк оторвал, — растерянно произнес он, — когда я, зайчишка, спал, — и он кинулся к выходившему из другой комнаты заспанному Ивану Алексеевичу: — Это ты, волчище, мое ушко оторвал?
— Р-р-р, я! — зарычал Иван Алексеевич и подкинул сынишку к потолку, тот довольнехонько завизжал. Иван Алексеевич опустил мальчишку на пол и взглянул на меня.
— Здравствуй, Рита-Маргарита! Почему в этот год у нас под дверью ничего не взорвалось?
Я покраснела, пожала плечами. Надо же — он прошлогодние хлопушки помнит!
Я вышла в прихожую, стала торопливо одеваться.
— Куда ты? — спросила Лариса Васильевна. — Ведь только пришла.
— Мне пора, до свиданья, — промямлила я и ушла.
Им троим так хорошо, когда они вместе, что страшно помешать своим присутствием.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





