ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


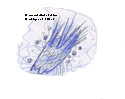
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Габова Елена 1989
38
Домой не тянуло — там было пусто. Мама с Оксанкой ушли к бабушке, отец неизвестно где, а одной в праздничный день как-то не по себе. Оставалось шататься по городу.
Козлик на каникулы уехала в Ленинград, а то я, пожалуй, махнула рукой на свою дурацкую гордость, побежала бы к ней. Авось бы не выгнала.
Я погуляла по заснеженным — и сейчас еще падал спокойный снег — пустым (люди отсыпались за ночь) улицам. Проходя мимо, посмотрела на Юлино окошко. В нем теплился свет торшера. Опять она, видно, сидела под ним в кресле и штопала братьям колготки.
Болтаться одной тоже было тоскливо, и я побрела домой. Хоть телевизор посмотрю, пока отца нет. Когда он возвращается, я сразу из большой комнаты ухожу.
Около нашей квартиры топталась Маша.
— Машка! — заорала я. — С Новым годом, Машуха!
Я хотела радостно ее затормошить, но осеклась: глаза у Маши была на мокром месте. Ну, ясно-понятно, раз Маша у меня, значит, ей плохо.
В комнате Маша разревелась.
— Ты пришла ко мне поплакать? — осторожно спросила я.
Маша не ответила, продолжала рыдать. В последнее время она стала часто грустить. По-моему, со Славиком ей было спокойнее, чем с Елиным. Надежнее, что ли.
— Машка, ну кончай, — я хлопнула ее по плечу. — Ну, Ма-аш. Новый год слезами начинаешь, ты что?
Маша вытерла ладонью слезы на щеках, попыталась улыбнуться. Потом произнесла прерывающимся голосом:
— Он предложил мне договор, Рита. Договор, представляешь?
— Ну и прекрасно. О взаимном ненападении, что ли? Так это ты, как девушка, должна ему предлагать.
Маша усмехнулась, уронив несколько блестящих слезинок, и помотала головой.
— Он сказал: давай не сердиться, если я увижу тебя с другим парнем, а ты меня — с другой девчонкой. Рита, я надоела ему!
— Ну и плюнь. Дружи со Славиком.
— Рита, как ты не понимаешь? Я ни с кем не хочу! Только с ним!
Я вздохнула. Чем я могла помочь ей? Да ничем! Я удивлялась, как она терпела Вадьку уже больше трех месяцев! Козлик, та быстро в этом воображале разобралась. Я слышала, как Елин говорил о Маше парням:
— Вытаращится, как кошка, и смотрит!
Радоваться надо, что на тебя так смотрят. А он за это Машу презирает. Меня от его слов передернуло. Подруге я ничего не сказала, но в Елине с тех пор еще больше разочаровалась. Он сам высказался Маше достаточно откровенно:
— Если бы не твоя красота, я бы с тобой дня не проходил. Мне с тобой ходить лестно — все ребята завидуют.
Когда я об этом узнала, то здорово возмутилась.
— Не удивляйся, Рита, — успокоила Маша. — Все мальчишки уважают девчонок за внешность. Все — так Вадим говорит, а он знает. На что им наша душа? Он говорит: за что уважать Конакову или Варлей? За то, что они толстые?
— И ты не дала ему по морде за эти слова?
Маша тихонько засмеялась.
— Зря. Я бы залепила.
Когда Маша спросила у Елина обо мне, он скривил полные губы и ответил:
— Маргарэт — слишком горда, не подступишься к ней.
Я не подала вида, что эта характеристика меня обрадовала. Думала, он скажется: «уродина» или что-то в этом роде. А «гордая» — это хорошо. Правда, гордость моя больше от стеснительности, но все равно хорошо.
Неужели все наши парни такие?
И смешливый Костя? И Сережик? И Леня? Что-то не верится.
Мне лично все равно, что там обо мне мальчишки воображают, нравлюсь я им или нет. А вот Лизуху Конакову жалко. Она добрая и очень расстраивается, когда парни не обращают на нее внимания.
— Знаешь, Машка, серьезно, выбрось ты Елина из головы, — снова предложила я.
— Что ты, — Маша снисходительно улыбнулась. — Я люблю его. Знаю, что он плохой, что он хуже Славки, но я без него жить не могу. У тебя есть две копейки?
Маша забрала у меня три двушки и убежала звонить своему мучителю. Мириться. Правда, и поссорилась-то она сама: убежала, когда Вадим предложил ей откровенный и честный, по его мнению, договор. Я бы сразу поняла: меня не любят, раз предлагают такое. Маша не понимает. А может, и понимает, да на что-то надеется.
Конечно, мне жалко Машу. Конечно, всей душой я за нее. Но ведь и Вадима нужно понять. Почему ему обязательно должна нравиться Булатова? Только потому, что она влюблена в него? А может, девушки вроде Булатовой не в его вкусе.
Мирились одноклассники около часу. Телефон-автомат на углу улицы напротив моего дома. Через верхнюю часть окна, с которой уже сошел ледок, я вижу в автомате Машу. Она молчит, улыбается. Что ей там Елин нашептывает?
Все-таки лучше бы Маша уделяла Вадиму поменьше внимания. А то занимается ерундой. Недавно Елин болел, так Булатова ему домашние задания носила. Просунет под дверь листок с решенными задачками и удерет.
Многим нашим девочкам по-прежнему нравится Вадим. Лизухе он через ночь снится. Да, он красивый. Да, неглупый. Но слишком уж тряпками интересуется. Да и любит только себя. Козлик ведь потому в нем и разочаровалась.
А Маше это не мешает.
39
Вера снова болеет, и сейчас с Алькой сидит Таня Орлова. Стоит месту рядом с Алькой освободиться, на него тут же находятся охотники. Я часто поворачиваюсь к Тане, спрашиваю о непонятном. Особенно по алгебре. Куда, например, девать минус перед логарифмом. Бывает, Таня сама не знает. Тогда я вижу, как Алькин карандаш осторожно подбирается к моей тетради, как Алька хочет объяснить вместо Тани, и я хочу, чтобы объяснила именно Козлик, но почему-то смотрю только на Орлову, слушаю только ее, и Алькин карандаш виновато убегает на свою половину
Но ведь я хочу, чтобы она объяснила! Хочу, чтобы мы заговорили! Хочу примирения, очень хочу! Поэтому так часто обращаюсь к Тане.
Однажды на физкультуре нам с Алькой выпало делать упражнения в одной паре. Мы выполняли их старательно, как никогда. Не перекинулись ни словом, ни взглядом.
Потом играли в баскетбол. Мы с Козликом — в одной команде. Я была в ударе — мои мячи летели точно в корзину противника. Девчонки чуть не обнимали меня. Передачи давали только мне:
— Рита! Риточка! Ну!
Я цепко брала передачи, стремительно подпрыгивала и, почти не целясь, посылала оранжевый мяч в щит. Мяч отскакивал в кольцо.
Девчонки радостно вопили. И главное Алька — тоже!
А после игры она снова отводила глаза в сторону.
Ведь ради Альки, ради примирения с ней я так выкладывалась в игре, и снова напрасно!
В тот же день, на перемене, она подошла ко мне и сказала:
— Рита, у тебя моя книга «Охотники на мамонтов». Принеси, Вера почитать просит.
Вот и все, что сказала. Мне хотелось зареветь.
А Маша спросила:
— Что это вы с Козликом красные такие?
Алька нужна мне! Нужен друг!
Перед Новым годом я пыталась с ней поговорить. Но Алька лишь односложно отвечала на мои вопросы. Я не стала навязываться.
Изредка я ловлю ее сочувствующий взгляд. Это когда я не понимаю чего-нибудь и спрашиваю у Тани.
Но жалости мне не надо!
Я так соскучилась по музыке, по скрипке!
У Альки мы часто слушали пластинки. Раньше я не понимала классической музыки. Благодаря Козлику полюбила. Одно время Алька училась в музыкальной школе по классу скрипки. Потом во дворе ее стали дразнить пиликалкой, и она бросила.
Теперь жалеет. Скрипки у нее уже нет. Но пластинок много. Да какие! Записки Леонида Когана, Давида и Игоря Ойстрахов, Валерия Климова и других, мне неизвестных.
У нас дома нет проигрывателя. Я хотела купить недорогой — на гонорар за рассказы, но денег не хватило. Мама добавлять не стала, сазала:
— Есть телевизор, есть радио.
Я с ней из-за этого поругалась, а потом подумала и решила, что она права. Ей и так трудно с деньгами, а тут мне еще добавлять. Я отдала маме весь свой капитал. Оставила себе, правда немного: вдруг попадутся хорошие книги? Да, еще купила пластинку — концертную симфонию Моцарта. Проигрывателя нет, зато есть пластинка. Подарю Альке, если помиримся.
В школе Лиза спросила, куда я истратила «свои собственные». Я ответила. Она хмыкнула и заметила, что лучше бы я купила себе платье или какой-нибудь свитерок.
— Я тебе удивляюся, Игнатова. В наше-то время у тебя одна форма. Курям на смех.
Наверно, и правда, смешно. Ясно-понятно, мама была бы не против, купи я себе что-нибудь из одежды. Но я не догадалась. Да ладно. Как не ходила на вечера, так и не буду. Я даже любимый «вечер именинников» в декабре пропустила.
Но на новогодний все-таки пошла.
Перед новогодним балом ко мне на улице подошел Леня. Я задержалась в библиотеке, а он караулил меня возле школы. Леня оглянулся по сторонам и спросил:
— Ты на вечер пойдешь?
— Не знаю, — ответила я. — Наверное, нет. А что?
— Ты не пойдешь, и я не пойду, — буркнул Леня, залился краской и убежал далеко вперед.
Я пожала плечами и улыбнулась. Стало приятно, что Леня так сказал, хотя он ничего интересного собой не представляет.
И тут меня осенило: вечер-то новогодний! Значит, что? Значит, бал-маскарад!
Я вспомнила, как на каникулах перед девятым классом разгуливала в Вовкиной одежде. Как раз он приехал в отпуск из армии. Заметано! Оденусь солдатом!
Поделилась с Машей. Она тут же решила стать мексиканцем — у нее дома без толку сомбреро валялось.
Вовкина форма, ясно-понятно, была великовата, и сапоги сваливались с ног, но вид у меня все равно был бравый. Динозавровна обомлела, встретив меня у входа в зал:
— Рита! Тебе бы мальчишкой родиться!
Шедшая рядом с ней разряженная Заминированная взмахнула крохотными ладошками:
— Игнатовой? Мальчишкой? Такой капризе? Что вы, что вы!
— Ну мальчишкой она бы не была такой капризной, — неуверенно заступилась историчка.
Я приложила руку к пилотке, щелкнула каблуками громадных сапог и окунулась в веселую кутерьму зала. Там уже танцевали. Стройный мексиканец в узеньких черных брючках, в таком же черном плаще и желтом сомбреро пригласил на танец Ларису Васильевну. Они танцевали вальс. То, что учительница танцует вальс, ясно-понятно, ничего удивительного. Но мексиканец? Какой молодец!
Я с завистью смотрела на кружащиеся пары. Мне бы так закружиться.
Не умею.
Лени на вечере не было. Я же сказала ему, что не пойду. Меня мучила совесть. Выходило, что я обманула его.
Но ведь я пошла на вечер неожиданно для себя!
Не заходить же мне за ним домой!
40
После зимних каникул ко мне подошла классная.
— Рита, я вчера была у Веры. Она просила, чтобы ты пришла.
— Ладно, — ответила я с чувством зависти к Варлей.
Я тоже часто болею, но почему-то ко мне Лариса Васильевна не приходит.
Ох, как не хотелось к Вере! Мне казалось, что она смеется над тем, что я люблю свою учительницу.
Почему я так решила?
В это лето ходили мы в поход. И Лариса Васильевна с нами. Ночью сидели у костра. Спорили: прилетали ли на Землю инопланетяне, существуют ли на самом деле летающие тарелки.
Паша Ворсин, Вера и я говорили, да, прилетали, да, существуют. Приводили разные доводы. В Индии есть железная колонна, установленная еще в то время, когда люди не знали железа. В Южной Америке в пустыне Наска — таинственные огромные знаки, видимые только с неба. Ориентиры для летательных аппаратов, не иначе. А наскальные рисунки людей в скафандрах — это доказательство того, что доисторические художники изобразили пришельцев из других миров!
Возражала Алька.
Козлик вообще скептик. Особенно она смеется над НЛО. Она пыталась объяснить нам, что это такое физическое явление, когда на границе двух воздушных слоев мельчайшие пылинки, скапливаясь в большие облака, могут принимать форму дисков и светятся в лучах солнца.
Лариса Васильевна молчала и только улыбалась чему-то. А мне так нравилось смотреть, как она улыбается своей грустной улыбкой, и как в ее грустных глазах играют два костерка.
— Вот бы села тарелочка на эту поляну, — фантазирует Паша. — Мы бы первыми встретили этих самых гуманоидов...
Лариса Васильевна отрывает глаза от костра и смотрит на белобрысого Пашу. И потому, что она улыбается, мне тоже хочется улыбаться.
Вокруг нас, в лугах, шевелится туман ростом с карликовую березку. Казалось, в него можно вплыть и взять в ладони кусочек этого тумана, и в них он будет шевелиться как мыльная пена.
Светлые палатки походили на усталых чаек, присевших на недолгий отдых. В них спали наши одноклассники, спал Игорек, а мы впятером сидели.
И тут Вере стало жарко. Она отодвинулась от костра со своим опрокинутым ведом, на котором сидела, и заслонила от меня учительницу.
— Эй, — окликнула я. — Ну чего ты сюда села?
Вера обернулась, увидела классную и, усмехнувшись, язвительно сказала:
— Что, тебе кого-то не видно, да? Пожалуйста, я могу пересесть.
И все сразу посмотрели на меня. Хорошо, что мы сидели у огня и никто не заметил, как краска залила мне лицо.
Уже не хотелось смотреть на классную. Было стыдно.
С тех пор в чуть раскосых Вериных глазах мне всегда чудилась насмешка.
Нет, к Вере идти не хотелось.
Но ведь я обещала классной. И потом Варлей больна.
Ладно уж, с меня не убудет.
Вера сидела на корточках и щеткой вычесывала шерсть у Латки. Белый, с черными заплатами спаниель недовольно посмотрел на меня коричневыми, похожими на Верины, глазами и предупреждающе рыкнул.
Его хозяйка от неожиданности вскочила, покраснела и бросилась в ванную мыть руки.
— Проходи, Рита, я сейчас!
Я прошла в комнату. Вслед за мной — Вера.
— Ну, как поживаешь? — спросила я.
— Нормально.
— Когда в школу? А то ведь отстанешь.
— Да нет. Алька каждый день объясняет, что вы там проходите. Если бы не Алька, я бы еще в пятом классе на второй год осталась. А друг бы там не нашлось такой Альки?
— А это точно — не нашлось бы.
— Вот и представь. Катилась бы я под горочку.
— Да, Алька — человек, — сказала я, но продолжать эту тему не хотела. Было обидно: с Верой Алька занимается, дружит, не дает пропасть, а со мной даже не разговаривает.
— А как ты? — спросила Вера и села на кровать. — Как твои стихи? Может, почитаешь?
Притопала Латка, громко стуча по полу когтями. Обнюхала меня и разлеглась у ног хозяйки.
А я стала читать:
Вы — сумерки.
Вас хочется погладить,
Как в детстве, с вами хочется поладить,
И псом лохматым в комнату пустить,
И до утра оставить в ней гостить...
Вера слушала, поглаживая собаку.
— Здорово! Послушай, Рита. Я давно хотела тебя спросить...
За окном зажегся фонарь, и на пол упали голубые прямоугольники света. В одном из них лежала жмурившая глаза собака с черными рукавичками ушей.
— Откуда в тебе тяга к поэзии? И вообще — к литературе? Я не верю, что ты в литературе разбираешься лучше всех, только потому что Ларису любишь. Тут что-то другое. Что, объясни? Родители у тебя — люди простые. По-моему, они даже книг не читают, ведь так?
— Некогда им читать, — ответила я. — Хотя отец, когда трезвый, читает.
— Ну откуда тогда, объясни.
Я пожала плечами. Разве я знала? Как родилось во мне первое стихотворение? Как я догадалась его записать?
Любовь к стихам пришла в шестом классе, когда я стала отсылать свои корявые опыты в «Кораблик» журнала «Пионер». Они попали к чудесному человеку — Андрею Семеновичу. На каждое свое письмо я получала его обстоятельный ответ. На каждое хиленькое стихотворение!
Андрей Семенович очень просто рассказывал о стихосложении, приводил в пример целые стихотворения Пушкина, Заболоцкого, Есенина. Вот она откуда, моя любовь к поэзии. Из писем неравнодушного человека!
Я стала покупать стихотворные сборники, носила их в кармане школьного фартука и читала даже на уроках. Это бывает у меня и сейчас. Читаю я не весь урок, а ту часть, когда проверяют домашнее задание — то, что я обычно знаю. Если спрашивают меня, Маша тихонько толкает меня локтем и шепчет вопрос. Только математичка знает, чем я занимаюсь. И как догадалась? Зинаида вызывает меня к доске, садится на мое место. Я записываю условие задачи, а Заминированная читает стихи. Лицо у нее светлее, разглаживается, пропадает вертикальная складочка меж бровей.
Я всегда удивлялась, что такая строгая женщина любит поэзию. Я очень уважаю ее за это. Когда стихи нравились ей, она не стеснялась попросить их у меня, ученицы, домой почитать.
Я рассказала Вере о переписке с журналом, о том, что беру книги у редактора газеты Петра Николаевича — он тоже меня развивает.
— Но со стихами, Вера, у меня чепухенция.
— Почему? — удивилась Вера. — Разве ты не свое прочитала?
— Ты обо мне такого мнения?! Это Костров. А у меня, Вера, стихи слабенькие.
— Нет, раз с тобой нянчатся, значит, в тебе что-то есть. Я тоже посылала свои стихи, но мне их просто вернули.
— И ты пишешь стихи? — я вытаращила глаза. — А куда ты их посылала?
— Да это неважно, Рита, не спрашивай. Я их уже не пишу.
Я ушла от Веры изумленная.
Что же получается? Вера писала стихи — никто не знал. Наверно, она и сейчас их пишет, просто не сознается.
Вера пишет стихи!
Я огляделась вокруг. Шли навстречу и обгоняли меня разные, незнакомые люди. А что если в каждом человеке заключен какой-то секрет? В каждом!
Я стала думать о ребятах из нашего класса. Вспомнила Машу, Юлю. Или вот Оля Парамонова. Красивая тихая девочка. Учится ровно. А что в ней есть особенного? Еще в восьмом классе Лариса Васильевна сказала, что Оля похожа на пушкинскую Татьяну Ларину. Мы согласились: да, она красива, и «задумчивость ее подруга». Но какой в Оле есть тайничок? Вот Валя Салидова — обычная девочка, с обычным лицом. Говорит она быстро-быстро, как швейная машинка строчит. Что таится в ней?
Какие же интересные вы, люди!
41
Отец пришел домой пьяный. Давненько с ним этого не случалось, прощай, спокойная жизнь. Вообще-то в затяжные периоды он стал вести себя тихо, стареет, наверно. Но в первый «пьяный» день он еще всегда скандалит.
В порыве злости на отца мама сказала слова, от которых мне захотелось умереть. Я как раз уходила из большой комнаты в маленькую, чтобы ничего не слышать. Не успела закрыть за собой дверь, как мама закричала:
— Забирай своего выродка и убирайся, куда хочешь!
И думать не надо, кто этот выродок. Не сестренка же, которую мама обожает.
Я выскочила в прихожую, кое-как натянула пальто, шапку, влезла в сапоги и, глотая слезы, вылетела на улицу. Выродок! Вот кто я!
Ладно, пусть так, пусть мама не любит меня, но почему она выгоняет меня с ним, которого я вовсе не люблю? Это она его любит, раз столько лет терпит рядом.
Да, я похожа на отца — и лицом, и такая же высокая. Мама говорит, что и характером я тоже в него. Но неужели только за это можно меня выгнать и выгнать с ним?
На улице стоял мороз, обычный для нашей зимы. Слезы катились из глаз и застывали на лице жесткими дорожками. Почему я никому не нужна?
Мама уже второй год не заглядывает в мой дневник. Однажды я спросила, почему, она ответила:
— Я знаю, у тебя все нормально.
— Ну хоть распишись, с нас же требуют подпись родителей.
— Распишись сама.
Я так и делаю — расписываюсь сама каждую неделю. Я не боюсь двоек и замечаний. О них никто не знает. Не желает знать. Да и вряд ли мама ругала бы меня за них. Оставила бы без внимания. Стоит мне объявить, что завтра у нас родительское собрание, у мамы сразу портится настроение. Она всегда находит предлог не ходить на него. На собрания к Оксанке так прямо бежит.
Когда мама с Оксанкой уходят к бабушке или другим родственникам, они даже не спрашивают, пойду ли я с ними. Часто мне тоже хочется в гости, но раз меня не спрашивают, я остаюсь дома одна или с отцом — трезвым, пьяным: мало радости с ним любым оставаться.
Какой он страшный, отец, когда долгое время пьет. Лицо красное, опухшее, заросшее щетиной. Но еще больше он жалкий, чем страшный. Все на нем замызганное, дурно пахнет, а ведь трезвый, он здорово следит за собой: каждый день бреется, одевается со вкусом, у него полный шкаф модной одежды, которую в пьяные периоды он спускает за бесценок.
Иногда я зайду в ту комнату, а он спит на незастеленной кровати в одежде. Обрывок газеты прилеплен на какую-то царапину. Весь скрючится от холода.
До того его становится жалко, ком подступает к горлу. Подойдешь, укроешь его, а он начинает лепетать жалкие слова благодарности. Поскорее выходишь, чтобы не разреветься.
Он пропивает свою зарплату, потом клянчит деньги у мамы. Потом начинает уносить из дому вещи, книги. Однажды унес мои, библиотечные.
Я его даже отцом не зову. Еще во втором классе ему сказала:
— Папа, если ты еще раз тронешь маму, я больше не буду звать тебя папой.
Он не поверил, засмеялся. И в тот же вечер побил маму.
С тех пор я сдерживаю свое обещание.
В день моего рождения он всегда дарит мне цветы. Очень красивые. И только тогда я с трудом выдавливаю:
— Спасибо, папа.
Приятно, что он дарит мне цветы, хотя я сорванных цветов не люблю. Но лучше бы он этого не делал — так трудно благодарить его.
Все это вспомнилось, когда я бродила по морозу вокруг нашего дома. Вечер был еще не поздний — около восьми, и можно побежать к Маше или Ирке, а не мерзнуть на улице. Или можно зайти к Ларисе Васильевне, но она будет жалеть, а я сейчас не хочу, чтобы меня жалели.
И вот еще почему я кружила вокруг дома. Я ждала, что выйдет мама и извинится передо мной. Но мама не выходила, и мне хотелось убежать далеко-далеко, навсегда, уехать на какую-нибудь комсомольскую стройку, лишь бы не видеть больше этих скандалов, и чтобы все забыть, и чтобы мама наконец меня пожалела.
Мама вышла, когда я, наверно, в сотый раз проходила мимо наших окон, где обманчиво мирно и уютно горел свет.
Мама схватила меня за руку, закричала:
— Тебя еще не хватает с твоими капризами! — и потащила домой.
Глаза у мамы были заплаканные, это даже под тусклым светом фонарей было видно. Мне стало ее жалко, и я послушно поплелась следом.
Дома уже было тихо. Отец и сестренка спали. Мама легла с Оксанкой на ее маленькую кровать. Когда отец пьяный, она всегда ложится с ней, хотя моя кровать больше.
Оксанка ночью ворочается. Ей тесно, но она никогда не жалуется. Она любит спать с мамой.
Сестра уже большая девчонка, учится в шестом классе, но ходит за мамой как хвостик. Посылали ее летом в пионерский лагерь, так она там так скучала, что пришлось забрать ее домой.
Она никогда не грубит маме. Скажут ей: вымой пол, вымоет; сходи в магазин, сходит. Я же всегда сначала поспорю, а уж потом сделаю.
Оксанка тихая, робкая, она и голоса никогда не повысит.
А как я на нее кричу!
И все-таки я свою сестренку очень люблю.
Вечерами, когда она засыпает, я подхожу к ее кровати. Я с тревогой смотрю, как она спит. Меня беспокоит то, что Оксанка часто спит с полуприкрытыми глазами. А мне кто-то говорил, что если человек спит, а глаза полузакрыты, он скоро умрет. Я поверила этой чепухе и осторожно, чтобы сестра не проснулась, прикладываю ладонь к ее векам и закрываю глаза до конца. Я даже среди ночи к ней из-за этого встаю.
Нет, правда, Оксанку надо больше любить. Меня можно вообще не любить.
Я проплакала всю ночь.
Назавтра я объявила голодовку. Утром ушла в школу, не позавтракав, без денег, днем выпила пустой чай и вечером тоже чай.
Оксанка звала меня ужинать, я не пошла. Ведь звала не мама.
Я не ела три дня. Это был единственный путь, который мог разжалобить маму.
И мама не выдержала. На третий день, вечером, она посылала сестренку несколько раз, но Оксанка напрасно меня уговаривала.
На другой день, в маленькую комнату, где я отсиживаюсь во время обедов и ужинов, пришла мама. Сердитым голосом она сказала, что хватит мне показывать свой дурацкий характер, это ее совсем не трогает.
Я смотрю в окно и молчу.
— Иди поешь, — голос мамы смягчается. — Ну хватит упрямиться! — Мама трогает меня за плечо и уходит.
Теперь я реву оттого, что меня пожалели. Успокаиваюсь и с красными глазами, но гордая, как индюк, выхожу к столу.
Мир восстановлен. Но я никогда не забуду тех слов. Я всю жизнь буду о них помнить.
После этого случая меня еще больше потянуло к Ларисе Васильевне.
Мне не хватало того тепла, которым до краев был наполнен ее дом. Снова я искала малейший повод, чтобы очутиться в ее чисто прибранной комнате с большим книжным шкафом, с цветным телевизором в углу, на котором в глиняном кувшине стояло несколько карандашиков рогоза. Сидела там часами, пока Иван Алексеевич был на работе. Иногда видела, что мешаю учительнице — ей нужно было проверить наши сочинения, сходить в магазин, приготовить ужин. Мало ли дел у семейной женщины! Но все-таки я упорно сидела на диване, покрытом пледом, и говорила о классной о чем угодно, лишь бы не расставаться.
42
Опять не пошла в школу, опять валяюсь в постели. Когда мое горло осматривала врач, заявилась Лизуха. Она скромно посидела на диване, пока молоденькая врачиха с кокетливыми завитками около висков выписывала рецепты, а потом объяснила:
— На физике голова разболелася, домой отпросилася.
Поболтали о том о сем, и тут в одиннадцать пришла Маша — ушла с химии. Маша никак не ожидала увидеть здесь Лизу, зашла в комнату и удивленно отпрянула. Обе расхохотались. Лизуха смеялась громко, раскатисто, Маша же как-то неохотно. Я подумала, что опять Вадим ее чем-то расстроил.
После уроков заглянули Ирка, Юля и Оля Ипатова. Увидели, как мы втроем жизнерадостно «болеем», и комната наполнилась таким мощным смехом, что чуть потолок не рухнул.
— Сегодня в школе был журнальный день, — сказала Ирка. — Мальчишки с «Юным техником» носились.
— Там чей-то рассказ? — ревниво спросила я.
— Там авторское свидетельство опубликовано. Что-то Генка Ульныров изобрел, ему патент выдали.
— Шутишь или смеешься? — не поверила Лизуха.
— Правда!
— А что именно изобрел? — Я тоже здорово удивилась.
— Да я точно не знаю, — ответила Ирка. — Мальчишки журнал из рук не выпускали.
— Погляди-ка, Ульныров, — протянула я.
Генка Ульныров, высокий тощий мальчишка, отличался тем, что часто прогуливал школу. Учителя махнули на него рукой, почти не спрашивали, ставили троечки. А он, оказывается, изобретает!
— У нас вообще мальчишки умные, — подвела итог Лизуха.
— А девчонки разве нет? — возразила Ирка.
И мы завели разговор о том, кто кем из класса будет.
Ульныров, ясно-понятно, изобретатель. Если ему учителя аттестат выдадут. Да и без него не пропадет.
Костя Попов — будущий авиаконструктор. Он троечник по гуманитарным предметам, на них он не может двух слов связать, а по математике и физике — отличник. Стол Кости рядом со мной, только в другом ряду. И я вижу, как почти на всех уроках Костя рисует модели самолетов или разбирается в замысловатых чертежах на папиросной бумаге. Увидит за окном в небе лыжню реактивного самолета — про все на свете забудет, не оторвет глаз, пока след не растворится.
Ирка будет актрисой. Во Дворце пионеров есть народный театр, где она звезда. Отрывок из спектакля с ее участием недавно по телеку показывали. А уж как похоже изображает она учителей!
Сорта северных фруктов пускай выводит Тычинка — сколько можно зависеть от юга?
Исчезнувшие города будут искать археологи Витя Лыюров и Вера Варлей — оба хотят поступать на исторический факультет университета.
Из Альки, умной Альки, вырастет ученый. Может быть, такой же, как Мария Кюри или Софья Ковалевская. А что? Она и сейчас университетские задачки как орешки щелкает.
Нет, будет здорово, если хоть несколько человек из нашего класса прославятся на гордость Ларисе Васильевне!
После четырех девчонки ушли. Я чувствовала себя ужасно, но как приятно знать, что ты нужна!
Козлика я уже не жду — сколько можно надеяться?
А классная не поверила, что я болею.
— Почему нет Риты? — спросила она у Ирки Пунеговой. — Ты передай, чтобы она без причины школу не пропускала.
А ведь я обещала, что не буду прогуливать.
Что ж, когда человеку не верят, он сам виноват.
Вечером, часов в восемь Маша снова была у меня. Ну да, я правильно догадалась: еще днем она хотела посекретничать, да девчонки помешали.
Маша — наша староста. Выбрали ее как самую дисциплинированную и как человека, которого уважают одинаково и девчонки и мальчишки. И если наша дисциплинированная староста ушла с урока, соврав, что ей нездоровится, — это неспроста.
Перед химией Елин отозвал Машу к подоконнику рекреации и, убрав с ее кружевного воротничка какую-то соринку, официально сказал:
— Булатова, мы с тобой только друзья, не больше.
И Маша пыталась рассказывать это спокойно.
— Зачем он обманывал меня, Рита? Зачем? Ведь он говорил, что любит меня. Ты знаешь, Рита, ты знаешь, он говорит: «Вот если бы у тебя, Мари, была машина!»
— Что, он нашел себе подругу с машиной?
Маша пожала плечами, потерла ладонями виски, глаза — как бы желая проснуться.
— Ничего не могу понять. На вечере новогоднем он все о какой-то Стульниковой говорил. Стульникова — гимнастка. Стульникова — красавица, правда, он ее не Стульниковой, Элен называл. Ты ее, случайно, не знаешь? В английской школе учится.
— Не знаю я никаких Табуреткиных, — проворчала я. И разозлил же меня этот Елин. — Он не на девушке женится, а на престиже.
Я с удовольствием смотрю на Машу. Она стала еще красивей. Светлые волосы вьются сильнее. Глаза, зеленущие, как у русалки, заманчиво светятся. Губы у нее яркие, как малина.
И характер у нее счастливый. Всем с ней хорошо.
А как Маша держится! Ей плохо, а этого никто не видит.
Сегодняшний разговор Маша предчувствовала. Вчера она сидела у него дома, и Елин, не церемонясь, звонил своей Элен — приглашал в кино.
— Машка, как ты терпишь?
— Я не терплю, я сразу ушла.
Что же. Раньше все в Машиной жизни было гладко. Безоблачная жизнь дома — семья у нее до чертиков благополучная. Легко ей было и в школе, учителя души не чаяли в примерной школьнице. Елин — первое Машино испытание. Она мне как-то призналась:
— Знаешь, Рита, я иногда жалею, что все раскрылось. Надо было и дальше любить Вадима тайком.
— И дружить со Славиком, — добавила я.
— А вот со Славиком я дружить бы не смогла, — решительно ответила Маша.
43
Я заметила в нашем классе одну закономерность. Стоит солнцу выжать из сосулек первые слезы (это еще февраль, и все морозы впереди), с ребятами начинает что-то происходить.
В последнее время мальчишки зачастили в школьную библиотеку. Здесь появилась новая библиотекарша Зоя (прежняя ушла в декретный отпуск). Немногим старше нас, она, тоненькая, идет по коридору и, кажется, вот-вот сломается в поясе. Волосы у девушки рыжие, лицо белое-белое, глаза золотистые и на щеке одна-единственная коричневая, нет, тоже золотистая, родинка. Золотистая Зоя.
Какими прилежными читателями стали наши мальчики! Приходят на переменах в библиотеку и читают газеты. Новые, старые, прошлогодние — кому какие достанутся. Даже Сережик Кольцов стал неравнодушен к газетам! Генка Ульныров занимает место у стола выдачи, пытается с Зоей острить. Остальные как бы читают, а сами краем уха прислушиваются. Елин тоже заходит сюда. Газет не берет. Покрутится, покрутится и уходит. Только Леня в библиотеку носа не кажет. Те книги, которые изредка почитывает, он у меня просит.
Девчонки недовольны тем, что Зоя приворожила одноклассников. Они фыркают, когда та проходит мимо. А чего злиться? Чем портить себе настроение, лучше бы тоже любовались Зоей. Я, например, любуюсь. До чего же эта библиотекарша хороша!
Сегодня я меняла книги и наблюдала за такой вот картиной. Мальчики упрятаны за газетными полосами, только ноги торчат. А бедный Генка у стола выдачи маячит, смотрит на Зою преданными собачьими глазами, теребит пальцами кисточку в карандашнице хохломской росписи и вздыхает. Зоя на него — внимания ноль целых, ноль десятых. Заполняет формуляры на новую литературу, улыбается уголком губ. Волосы у нее яркие, как солнце, которое впервые в этом году наведалось на Север.
— Весна скоро, — глубокомысленно роняет Генка. — Вы любите весну, Зоя?
— Люблю, Гена.
— Я тоже... — И снова вздохи, и молчание.
«Весна, весна, пора любви!» — хочется прошептать Генке на ухо, но я бросаю взгляд на пришибленного, не похожего на себя Ульнырова, который, кажется, еще больше отощал от библиотечных страданий, и, еле сдерживаясь от смеха, выскакиваю в коридор.
Перед химией, пока мальчишки наслаждались обществом Зои, девчонки, разозлившись, перепутали у них портфели. Сумку Паши Ворсина положили в стол Диме Игушеву, сумку Елина сунули Фаде Романову. В портфель Кости положили тарелочки из-под цветов.
На уроке минут пять ребята выясняли, у кого чей портфель, и еще столько же кабинет химии сотрясался от раскатистых взрывов хохота сначала одного Кости, потом всего класса. Все-таки потрясающе Костя смеется: широко раскрыв рот, сузив глаза в щелочки, и так искренне, что даже Мария Георгиевна, которую, ясно-понятно, рассердила путаница с портфелями, и та не выдержала, рассмеялась.
На алгебре я получила кол. Давно не получала!
Но за окном так яростно светило солнце! Оно перекрасило унылый от долгой зимы город в веселый и разноцветный, и я не могла заставить себя оторваться от окна. Не выдерживая насмешливого взгляда солнца, падали и звякали о карниз тощие желтые сосульки. Небо демонстрировало пронзительный голубой цвет, какого не написать ни одному художнику в мире.
Зинаида Анимировна задала мне вопрос, а я, разумеется, не ответила.
Заминированная закричала на меня и влепила единицу.
44
В школе весело — а дома! И никакое солнце не помогает. Мы уже забыли, когда отец был трезвым. Да и сам он этого не помнит!
Уже больше месяца мы втроем живем в тесной маленькой комнате, и мама спит с сестренкой на ее кровати. Когда я была маленькая, уговаривала маму уехать от папы. Меня постоянно мучил вопрос: зачем он нужен? Деньги пропивает, маму бьет, от него только зло.
Один раз мы все-таки ушли.
Мне было шесть лет, сестре — два года. Мы бросили свой дом с большой резной верандой — отец сам строил этот дом. Летом мы с Оксанкой перебирались на веранду, а с нами многочисленные дочки-куклы. Перед домом была лужайка с лютиками, которую не превратили в грядку, чтобы мы могли валяться в траве. Это отец придумал. Он ведь хороший, наверно, был когда-то, любил нас. Но водка все это перечеркнула.
От драк и скандалов мы сбежали из просторного удобного дома на частную квартиру в захудалую избушку с покосившимися углами.
Избушка была уж очень невеселая. На улицу выходила глухая бревенчатая стена, сизая от старости. Крыша крылечка пряталась под бархатом зеленого мха. И хозяйка дома была старая, костлявая, сгорбленная, с тонкими прядками белых волос, спадающих на лицо. Все звали ее Немэй Сима — на коми лад.
Эта Немэй Сима была злой. Она боялась за свое древнее жилище, и ходить в доме надо было на цыпочках. Когда бабка видела, что мы бегаем или прыгаем, она грозила нам острым потрескавшимся пальцем и делала страшное лицо. Однажды я не послушалась и продолжала скакать по белому некрашеному полу на одной ножке. Тогда бабка, дождавшись, что мама куда-то вышла, больно отодрала меня за ухо.
Но все равно у Немэй Симы жилось лучше, чем дома. Месяц мы наслаждались спокойной жизнью без пьяного папочки, а потом тот объявился. Он стал приходить за нами в детский сад. Приходил специально раньше мамы. Я не хотела идти с ним, а воспитательница сердилась:
— За вами папа пришел, быстро одевайтесь!
Мы одевались: я — хмуро, Оксанка что-то весело чирикая. На улице она давала ладошку отцу, крохотуля была, не понимала ничего, продолжала щебетать о своих важных детсадовских делах. Мрачная, я шла следом.
Наша квартира была на краю города. Я прекрасно знала дорогу к дому, но отцу говорила, что не помню. Он брал Оксанку на руки и таскал нас по окраинам. Показывал на развалюшки и спрашивал у сестренки:
— Этот домик? Может, этот? А, Оксанка?
Сестренка радостно кивала на все дома подряд.
От меня он не добился ни слова.
В то время он уже продал наш теремок, пропил деньги и вспомнил о семье. Он все пел нам, что очень по нас скучает.
Позже нас находила перепуганная мама. Наш город и сейчас небольшой, а тогда был просто малюсенький. Мама отталкивала пристававшего с поцелуями отца, брала Оксанку на руки, и мы бежали к бабушке — спать.
Мама уводила нас к бабушке, чтобы не выдать засекреченного убежища. Она надеялась, что отцу надоест приходить за нами. Но он таскался каждый день. Иногда мы даже поужинать в детском саду не успевали.
Ночи у бабушки были тревожными — папочка буянил. Бабушкин дом — деревянный, одноэтажный. Отец подолгу стучал в двери, окна. Бабушка или дедушка выходили на переговоры, но возникала перебранка. Однажды отец ударил деда. И мама сдалась, в ту же ночь ушла с отцом к Немэй Симе. Самое интересное — ее дом был почти напротив.
Мамины родители не хотели нашего возвращения к отцу, но мама не послушалась. Произошел разрыв.
Сейчас я понимаю, что мама ушла с отцом потому, что хотела вернуть старикам спокойствие — еще им в скандалах участвовать. Но тогда я была на стороне бабушки и дедушки, а меня после замирения с папочкой даже в гости к ним не пускали.
Отчетливо помню одну картину.
Весна, люди кругом копают огороды. Мы с сестренкой чинно держимся за руки и идем впереди родителей. Все мы разодеты — это отец купил нам наряды. Люди с одобрением оглядывались на нас.
Мы идем гулять в городской парк воскресным днем.
Проходить надо было мимо дома бабушки и дедушки. И вот мы идем вдоль серого забора, и я вижу, как и бабушка, и дедушка, и тетя Света смотрят на нас. Они в рабочей одежде, сажают картошку. Дедушка одной ногой уперся в лопату, его глаза сощурены от солнца. Тетя Света делает вид, что рассматривает крышу соседнего дома. Бабушкино лицо в ожидании застыло. Вовки нет, наверно, гоняет на велосипеде.
За забором ждут, что мы хотя бы поздороваемся, но и я, и Оксанка молча шествуем мимо. Нам еще дома дали указание — в бабушкин двор даже не смотреть.
Потом в парке ни качели-карусели, ни два мороженых не радовали меня. Я не могла забыть недоуменных лиц родных, и мне хотелось плакать.
Все думают, что я ничего не помню, а я все помню, и эту встречу, и еще много-много скандалов, которые устраивал отец. Он и у Немэй Симы скандалил, и на мороз нас выгонял, швыряя вслед пальтишки.
Глухонемая хозяйка ничего не слышала, спала в своей угловой комнатке. Мы же ночью шли на мамину работу, где я с сестрой спала на стульях, а мама — на полу, подстелив газеты.
На стульях я постепенно расслаблялась, отмякала, успокоенно уходила в сон под гудение электрического чайника, который с жалостливыми причитаниями ставила для мамы ночная вахтерша.
Я до сих пор люблю слышать, как гудит чайник, это напоминает мне до давнишнее состояние, когда опасность миновала, можно спокойно спать, и впереди целый громадный день, и до следующей ночи так далеко. Но приходил новый день, и наступал вечер, и вот он, новый скандал, и снова мы бредем по заснувшему городу — сонная хнычущая Оксанка, я, довольная, что убежали, и печальная, заплаканная мама.
Однажды на пути к маминой работе нас перехватил дед, откуда-то поздно возвращавшийся домой, и увел нас к себе. Так мы помирились.
Что бы отца пить отучило? Нет никакого просвета, маме всю жизнь придется мучиться с ним. Мы-то с сестрой вырастем, уедем, а каково ей? По ночам я слышу, как мама плачет, лежа рядом со спящей Оксанкой. Мне жалко маму, но не могу заставить себя утешить ее. Я не люблю, когда меня жалеют, и мне кажется: мама этого тоже не любит. Просто жду, когда мама успокоится, и только тогда засыпаю.
Как-то в веселый солнечный день по дороге в магазин я встретила отца. Он шел, ничего перед собой не видя. Руки болтались. И сам он качался влево, вправо. Пробежит несколько шагов, остановится на секунду, словно раздумывая, в какую сторону пошатнуться, и снова — влево, вправо.
Показалось, что небо и солнце пропали в тучах.
Я поскорее перешла на другую сторону улицы, чтобы он не увидел меня. Но потащилась я уже не в магазин, а следом за ним, только по другой стороне. Брела за ним до самого дома и мысленно умоляла его не упасть, потому что тогда мне бы пришлось к нему подойти.
45
Ирка прибежала, когда мы смотрели телевизор в большой комнате.
Отец, пьяный, спал. Звук телека был еле включен, чтобы папочка не проснулся. Мама и Оксанка сидели на диване, плотно прижавшись друг к другу: форточка была открыта настежь, чтобы выветрился запах вина.
Мы с Иркой вышли в маленькую комнату.
Ирка только что от Ларисы Васильевны. Хотела бы я сейчас быть у нее!
Вот интересно: когда мы с Иркой не разговариваем, я здорово ревную ее к классной. А когда дружим, просто радуюсь, если Лариса Васильевна уделяет Пунеговой много внимания. Радуюсь, как всегда радуешься за друга. Надо ведь понимать: Ира тоже любит классную.
Мне нравится разговаривать с Иркой о Ларисе Васильевне. Но только разговаривать нам мало. Мы стали лихорадочно соображать, как бы нам выразить любовь к классной на деле?
Решили признаться в любви — до смешного просто. На альбомном листе фломастером вывели: «Мы вас любим».
В девять вечере подъезд пустой и тихий — все программу «Время» смотрят. Прикрепили лист к двери, позвонили и убежали.
46
Каждый год в День Советской Армии мы дарим мальчишкам подарки. Пустяковые, но, как говорится, дорого внимание. А в этот раз Орлова предложила отказаться от этой привычки.
— Лучше устроим парням вечер отдыха. Купим пирожные, лимонад...
— Удивляюся я тебе, Орлова, — выступила Лизуха. — Что мы, маленькие? Лучше сами испечем чего-нибудь. Делов-то!
Двадцать второго февраля после уроков комсорг пригласила ребят на вечер.
— А девочек можно приводить? — спросил Елин с очаровательной улыбкой. Нарочно, при Маше спросил.
— Вечер классный, Елин, — резко ответила Таня. — Посторонних не пустим, учти.
— Учту, учту, — закивал Вадим. — Я как раз хотел привести одну девочку из нашего класса, — и он подмигнул вспыхнувшей Маше.
Врет. Все знали, что Елин увлекся гимнасткой Стульниковой, которая к тому же учится в английской школе. Он сам болтал об этом парням, а Неля Костромина видела их вдвоем в кафе «Мороженое».
Виновники торжества пришли при полном параде.
О девочках я вообще молчу. Лизуха завила свои мягкие светлые волосы. Толстенькая, с черными подкрашенными ресничками, она выглядела прямо куколкой. Правда, ей приходилось то и дело щуриться, потому что Лизуха была без очков (иначе ресницы не видны), но этот близорукий прищур ничуть не портил ее щекастого личика.
Я надела на вечер мамино платье, которое было мне почти впору. Когда я проходила по коридору в класс, то услышала, как Славик шепнул Диме Игушеву:
— Какое платье сегодня у Риты!
Не «у Игнатовой» сказал, а у «Риты».
У меня сразу поднялось настроение. Я даже почувствовала себя немножко красивой.
Маша, как староста, поздравила ребят от нашего имени. И классная поздравила. Когда она сказала, что мы видим перед собой почти что солдат, все засмеялись. А ведь это так — Генку Ульнырова, может, сразу после экзаменов заберут, ему уже восемнадцать. Как ни крути, это факт, наши мальчишки — призывники.
Мы подготовили небольшой концерт. Лизуха спела частушки. Голос у нее звонкий, высокий. В конце каждого куплета она взвизгивала, взмахивала платочком и притоптывала толстенькой ножкой. Никто не ожидал от Лизухи таких способностей. Мальчишки долго хлопали ей, а Сережик воскликнул:
— Ну, Конакова! Тебе в певицы идти надо! Новой Руслановой будешь!
Я была сегодня совершенно раскованная. Обычно я плечи сжимаю, не знаю, куда руки девать, а тут обо всем забыла. Может, это было от того, что платье на мне красивое. Может, от того, что Леня на меня смотрит.
И танцевала я много. Не такая уж я неуклюжая, оказывается.
Алька поглядывала на меня. Она вела за мной негласный надзор. Сегодня я нравилась ей. Да, да, Козлик, я не хмурюсь, как обычно на вечерах. Видишь, как весело, как здорово я дергаюсь. Будь спок, Козлик, я не пропаду без тебя, по математике идут пятерки, и Ирку я не оставляю в беде, помогаю ей — мама ее сейчас в больнице.
Классная же на меня не смотрела. Я вспоминала записку, и мне становилось стыдно. Это же нелепо — так любить свою учительницу!
Я видела, как Ирка разговаривала с классной и хохотала. Было обидно до слез: почему Ирка запросто смеется с классной, а я не могу?
Потом мы вспомнили детство — играли в жмурки, в ручеек. Один Леня стоял у подоконника, он словно прирос к нему. В ручейке меня выбирали девчонки, и один раз выбрал Гриша Кузнецов. Лучше всех из мальчишек я отношусь к нему. Он умница. Больше всех читает, учеба ему легко дается и литературу знает не хуже меня. Только Гришин ум научный, говорит Лариса Васильевна. Из Гриши, наверное, получится ученый, исследователь.
Вечер проходил в нашем кабинете, откуда мы вынесли половину столов, а другую сдвинули к краю для чаепития. Елин, прислонившись к стене под портретом Толстого, играл на гитаре. Маша не сводила с него глаз.
Отношения между ними были мне непонятны. Вадим хотел — разговаривал с Машей, хотел — даже не подходил. Маша страдала, но прощала ему все.
Домой мы возвращались с Юлей.
Машу провожал Вадим. Ирка осталась ждать Ларису Васильевну, сегодня она ночует у нее, чтобы не оставаться с отчимом.
Вышли на крыльцо, а там Леня стоит. Мелькнула мысль, что он меня ждет. Так и было. Леня пропустил нас и пошел с моей стороны, чуть-чуть позади.
Разумеется, он молчал. И мы молчали. Юля брела, опустив голову. Мне было страшно жалко ее: идет рядом дорогой ей мальчишка, но не с ней идет, а с подругой.
Так захотелось помочь ей. Может быть, уйти, оставить их вдвоем?
— Ой, сейчас же по телеку передача интересная! — прервала я тягостное молчание. — Я побегу. Ладо, ребята? Пока!
Я побежала. В конце улицы оглянулась. Юля шла одна.
47
Двум праздникам, стоящим рядышком, был посвящен смотр мальчишеских и девчоночьих талантов. «Смотр талантов», конечно, сильно сказано. Это был обычный концерт самодеятельности. Я в концерте не участвовала. Сидела в зрительном зале с Игорьком. Наши девчонки выплыли на сцену в белых выпускных платьях и запели:
Корабль «Детство»
Уходит в детство...
Слушая эту песню, я опять неожиданно остро почувствовала, что школьные годы кончились, остался крохотный их кусочек. И хотя я устала от школы, от учителей, от назойливо повторяющихся уроков, вдруг стало жалко расставаться со всем этим.
Что нас ждет впереди?
Игорек сидел на моих коленях. Его стриженый ершистый затылок касался моей щеки. Когда кончилась песня и в зале зааплодировали, Игорек повернулся ко мне и спросил, слабо хлопая ладошками с растопыренными пальцами:
— А у тебя, Рита, никаких талантов нет?
— Нет, — ответила я, горько усмехнувшись.
Ясно-понятно, мое место было тоже на сцене, среди девчонок. Просто я ни с того ни с сего раскапризничалась, захотелось особых уговоров, а девчонки, ясно-понятно, упрашивать не стали.
— А у нас Ира живет, — сказал малыш в следующую минуту. — А почему ты у нас никогда не живешь?
Потому что у меня есть дом. Там мама, отец, какой-никакой, а родной. А у Ирки мама в больнице, а дома — чужой дядька. И она ему чужая. Отчим обедает и ужинает один, а что ест Ирка и ест ли она вообще — это его не касается.
Ирка — гордая. Я видела сегодня, как Лариса Васильевна хотела дать ей бесплатные талоны в школьную столовую, а Ирка резко что-то ответила и убежала. Классная так и осталась стоять с талонами в протянутой руке. Ирка обиделась, ночевать к ней наверняка не пойдет. Попробую утащить ее к нам. Моя мама — молодец, всегда сама уговаривает Иру и поужинать с нами, и переночевать, хотя по-прежнему мы втроем живем в крохотной комнате.
Когда Пунегова ночевала у Ларисы Васильевны после школьного вечера, Игорек подвел ее к книжному шкафу и таинственно прошептал:
— Сюда мама записку спрятала, которую нам Рита написала.
Ирка в соучастии не призналась.
Эта злосчастная записка не давала мне покоя. Пусть она не думает, что я ее люблю. Вовсе даже нет... После концерта я подождала, пока Лариса Васильевна с Игорьком уйдет вперед, и отправилась следом.
Позвонила. Классная открыла — она еще пальто не успела снять.
— Лариса Васильевна, я пошутила.
— Что, Рита?
— Я пошутила.
— Я что-то не пойму, Рита. Ты о чем?
— О записке. Там написано: мы. Так вот, я — пошутила. Я вообще всегда и все вам врала.
Повернулась. Стала спускаться. За мной хлопнула, как будто выстрелила дверь. Что же я наделала?
Через час я встретила классную возле магазина, жалко как-то ей улыбнулась, а она взглянула на меня безразлично, как на незнакомую, и вошла в магазин.
Я остановилась и стала с отчаянием смотреть на дверь, за которой она исчезла. Потом сорвалась с места и, расплескивая молоко из бидона, с продуктовой сумкой, бьющей по ногам, помчалась к Пунеговой.
Днем Ирка, когда нет занятий в театре, дома. Днем отчим на работе. Я, стараясь быть покойной, не проходя в комнату, рассказала, что произошло.
Ирка стоит, опершись о косяк двери, смотрит на меня вприщур, с недоверчивой улыбкой.
— Ты об этом еще пожалеешь! — изрекает она.
Но я продолжаю врать:
— Ну что ты, сейчас я успокоилась, а то раньше места себе не находила.
— Только мне-то не ври. — Ирка сдувает челку.
Но я, улыбаюсь, говорю Ирке, что жду ее ночевать к нам, и ухожу.
Вечером мы с Пунеговой у меня. Перед нами — тетради, учебник алгебры.
— Ритка, а ведь я заступилась за тебя, — медленно говорит Ирка, сосредоточенно разглядывая кончик своей шариковой ручки. — Я пошла к Ларисе, сказала ей, что ты в записке не шутила. И я ей это объяснила. Я сказала, что тебе было стыдно — и всякое такое. А ее ты больше всех любишь. Не злись. Знаешь, какая ты примчалась ко мне дерганная и молоком залитая?
— Я не злюсь. — Руки у меня стали потными. — А что она?
— Она сказала, что уже привыкла к нашим шалостям.
— Ничего себе шалости, — бормочу я.
Мне стало вовсе не до алгебры. Одна бы я плюнула на уроки. Но я с Иркой. Пришлось решать, объяснять ей задачи. Сама думала: «Скорей бы выпускной вечер». После него я пошлю классной еще одну записку. В ней будет единственное, очень трудное слово: «извините».
В пятницу по расписанию было две литературы.
Лариса Васильевна частенько взглядывала на Ирку. Я думаю, она вообще считает Пунегову своей дочкой. И как дочку любит. Ведь Ирка часто живет у нее.
На Ирку приятно смотреть. У нее, как у Маши, зеленые глаза, только у Маши продолговатые, а у Ирки — круглые. Верхние веки такого цвета, словно она накладывает на них сиреневые тени. Вообще-то она никогда не красится, ей незачем это делать. Ресницы у нее черные, длиннющие. Брови тоже черные, только Ирка прячет их под челкой. И вообще я заметила, если у девчонки зеленые глаза, она обязательно красавица. Говорят, что Иркино лицо портит чуть вздернутый нос. Но, по-моему, этот носишка придает Ирке задорный вид, только и всего. Еще у нее красивые волосы. Светло-русые, они рассыпаны по плечам или собраны в пышный хвост.
Меня же Лариса Васильевна не замечала. И чтобы привлечь ее внимание, я учила теорему, глядя в учебник геометрии и нарочно шевеля губами. Согласна, этого Лариса Васильевна могла и не увидеть. Тогда я стала читать «Литературную газету», приподнимая ее над столом. Не увидеть такую простыню, ясно-понятно, невозможно. Но учительница и бровью не повела.
Зато мое странное поведение не укрылось от шустрых глаз Лизухи. Она частенько оборачивается к нам.
— Ты что, разочаровалась в Ларисе? — шепотом спросила она, когда классная отошла к последним столам.
— Иди к черту, — так же шепотом посоветовала я.
Она обиженно пожала плечами и отвернулась.
Я перевернула газету на шестнадцатую страницу и стала во весь рот улыбаться, как будто меня ужасно смешил ее юмор. На самом деле буквы бегали перед глазами.
После звонка ребята окружили классную, что-то спрашивали, а я, как дура последняя, сидела с этой своей газетой.
На большой перемене в класс заявились все учителя с завучем и директором во главе. Каждая учительница пришла со своим стулом.
Мы удивленно смотрели, как они, расставив стулья, со значительным видом расселись напротив нас. Заминированная окинула класс суровым взглядом узких пронзительных глаз и по-хозяйски закинула нога за ногу. Весь ее вид говорил, что сейчас нам не поздоровится.
И точно!
Учителя выступали один за другим, и все-то нас ругали. И лодыри мы, и прогульщики, и капризничаем часто.
Англичанка пожаловалась, что у меня бывают заскоки, что я не хочу заниматься и вытворяю на уроках бог знает что.
А что я особенного вытворяла?
Змея Заминированная налетела на Ирку:
— Кто знает, допустят ли Пунегову до экзаменов? С такой-то учебой по математике! Пусть уходит и торгует в магазине!
Как будто в магазине торгуют второстепенные люди!
Ирке трудно дается математика. Поэтому она запаниковала:
— Брошу школу! Я тупица, дура! Правильно Змея говорит!
И назавтра не пришла на уроки.
После школы я побежала к ней. Стала уговаривать не делать глупостей. Ведь учиться осталось всего ничего!
Но Ирка была непреклонной.
— Ты только пока не говори никому, что я школу хочу бросать, — предупредила она, когда я уходила.
Я пообещала, но, похоже, обещания не сдержу. Я не хочу, чтобы Ирка уходила из школы. Наверное, побегу к классной советоваться. Она что-нибудь придумает.
Не пришла Ирка и на следующий день.
После занятий в классе появилась Лариса Васильевна.
— Девочки, задержитесь, пожалуйста, все.
Ага. Раз классная оставляет только девчонок, речь пойдет о Пунеговой.
— А зачем? — вылезла Конакова.
— Поговорим о вас.
— Это интересно, — Лизуха любит разговоры о жизни. Она первая вернулась на место.
На меня классная опять не взглянула. Поэтому я спросила:
— А уйти можно?
— А что, тебя судьба подруги нисколько не волнует?
— Не-а, — ответила я безразличным тоном и прищурила один глаз.
— Не волнует? — переспросила классная, тоже прищурившись.
— Ни-сколь-ко.
И я своего добилась. Она обратила на меня внимание. Правда, внимание негодующее, ну и что? Сейчас я и такому была рада.
— Тогда можешь уйти, — неожиданно согласилась Лариса Васильевна. И я из принципа вышла.
Ирка была злая-презлая. Открыла мне, что-то буркнула и прошла в комнату.
— Привет! — сказала я так, словно не заметила ее настроения. — Ты чего в школу не ходишь? Мне без тебя скучно.
— Я же говорила, что брошу школу, — мрачно ответила Ирка. — Все равно я там никому не нужна.
Ясно-понятно. Никто из девчонок вчера к ней не пришел. Я вспомнила, как этой зимой прогуляла два дня и ко мне никто не явился. Я ведь тоже хотела бросать школу. Как я понимала Ирку!
Оказывается, мы с ней похожи.
Но ведь я-то к ней прихожу! А вот Салатова — нет. А они с Иркой все-таки дружат давно. И она так нуждается в Надькиной поддержке.
— Вот выдумала! Не нужна! — возмутилась я. — Да сейчас в школе целое совещание по твоему вопросу. Думают-гадают, что с тобой делать!
— Да ты что? — вспыхнула Ирка.
— Вот тебе и что. Я думаю, классная тебя ждет. Если ты к ней не пойдешь, она сама к тебе прискачет, вот увидишь!
— О, еще этого не хватало!..
Ирка окинула взглядом тесную комнату, забитую самыми разнообразными вещами, и стала одеваться.
— Лучше сама к ней пойду.
Вышли вместе. Ирка побежала к Ларисе Васильевне, а я, довольная, что так легко уговорила подругу, в то же время завидуя ей, отправилась домой.
Только успела поставить чайник, в квартиру одна за другой стали вваливаться девчонки. Оттого, что в прихожую все не вмещались, начался смех.
— Вообще-то всем заходить необязательно, — сказала Маша задним рядам. Она как раз поместилась в прихожей одна из первых. — Рита, мы за тобой. Одевайся, к Пунеговой пойдем.
— Перед коллективом не устоит, — добавила Лизуха.
— Девчонки! А Пунеговой дома нету! — радостно сообщила я.
— А где она? — с беспокойством спросила Маша.
— Слушайте, входите все, все! — кричала я, размахивая руками. — Кто там последний? Юля? Давай сюда!
Девчонок была чертова дюжина — все, кроме Альки и Ирки. Мы еле уместились в маленькой комнате.
Так приятно было видеть всех их у себя.
— Так где Ирка-то? — спросила Маша.
— У Ларисы.
— Тогда все в порядке, — староста, вздохнув, улыбнулась.
— Вообще-то слишком мы с ней нянчимся, — Салатова состроила презрительную мину. Да, вот что выдала Надечка Салатова, которую Ирка так ждала.
Салатова недавно болела, так Ирка навещала ее каждый день. А случилась неприятность с Пунеговой, Салатова сразу же от нее отвернулась.
А вообще она перестала дружить с Иркой вот из-за чего. В прошлом году они вместе пришли в театр «Юность», и ей, Наде, почти отличнице, стали давать второстепенные роли, а троечнице Ирке — главные. Надя расценивала это, как жуткую несправедливость.
— Надя, — стараясь не показывать, как она меня разозлила, сказала я. — Тебе, Надечка, первой надо было сходить к Ирке. Именно тебе, Надечка. Она ждала тебя, понимаешь?
Салатова агрессивно спросила:
— Значит, я во всем виновата?
— Этого никто не утверждает. Но — как друг — ты должна была помочь ей в беде.
— Да она в последнее время, наоборот, только с тобой и ходит! — заверещала Салатова.
— Я ходила к ней, — продолжала я. — Но ждала она тебя. Это, знаешь, как? — Я вдруг решилась на откровенность. — Ирка тоже бывала у меня каждый день. Но я... я ждала Альку, — сказав это, я покраснела. — Ты запомни, Надечка: старый друг лучше новых двух. Знаешь такую пословицу?
— Да хватит вам! — вмешалась Лизуха и негодующе посмотрела через очки на меня и Салатову. — Один раз собрались не в школе и то базарите.
— У тебя что-то кипит! — хозяйственная Юля вскочила и убежала на кухню.
Заварку насыпали прямо в чайник, я с трудом отыскала для всех чашки, стаканы, кружки, мы пили чай с хлебом и разговаривали.
Салатова от чая отказалась и молча, исподлобья смотрела в одну точку. Обиделась она на меня. А за что? Почему никто не любит, когда говорят неприятную правду? И я этого не люблю. Но все-таки почему человек так устроен?
Я вытащила альбомы и пакеты с фотографиями. Девчонки на них так и накинулись. Пересматривать снимки — наше любимое занятие. Столько тогда смеха и воспоминаний разных, как у древних старушек. Ограбили меня, забрав половину снимков. Я возмущалась, а Лизуха успокаивала:
— Ниче, ниче, еще напечатаешь!
Девчонки ушли, довольные. Салатова держала в руке пакет с фотографиями и уже почти не злилась.
Я осталась одна. Снова стало грустно.
Ирка у классной, а я — нет.
Вечером в комнату прямо-таки ворвалась взбудораженная Ирка. Румянец горел во все щеки. Ясно-понятно, буря миновала.
— Ну рассказывай, — попросила я, хотя и так все было ясно.
Она говорила, а я думала о своем. Почему я делаю людям только плохое, а если делаю хорошее — стихи учительнице посвящу, в любви признаюсь запиской дурацкой — тут же становится стыдно за этот порыв и начинаю грубить. И почему так — не знаю.
И вдруг меня пронзила простая такая мысль: надо стоять до конца за свою правду. Сказала, что любишь, не прячься за ложь, за грубость — люби смело. Только тогда твоя любовь будет приносить радость человеку, которого любишь.
Уроки литературы стали для меня сплошным мучением. Теперь я всеми силами стараюсь быть хорошей: готовлю ответы, но меня не спрашивают. Меня не замечают. И нет возможности показать, что я не такая уж плохая.
Три дня я страдала, но не поднимать же мне на уроке руку. Мы не шестиклассники. У нас только Салатова ее где надо и где не надо тянет.
Отчаявшись, я решила написать классной письмо.
«Я знаю, вы возьмете в руки конверт и невольно поморщитесь: опять от Игнатовой? Когда она от меня отстанет?
Да, это снова я. Не буду признаваться вам в любви — это просто смешно. Вы на меня очень обижены? Конечно. Очень. Я вижу.
Я хотела послать Вам письмо после выпускного вечера. Письмо с одним словом: «Извините». Но я не могу больше не разговаривать с Вами, поэтому говорю сейчас: «Извините меня».
Писала письмо, и до того было жалко себя, слезы сами катились из глаз.
Пошла вручать ей это послание.
Дома у классной сидела Ирка.
— Заходи, Рита, заходи, — обрадованно сказала Лариса Васильевна, а мне показалось, она притворяется. — Тетради у пятиклассников поможешь проверить.
Что-то я не помню, чтобы раньше она просила меня тетради проверять. Ирку, наверно, всегда просит.
— Мне некогда, я пойду, — буркнула я и сунула письмо.
— Вот ты какая помощница, да?
Опять нарочно сказано, чтобы я осталась.
Я бы и осталась. Но Ирка... Я проигрываю в сравнении с ней.
Я попрощалась и ушла. А мне так хотелось остаться.
48
Лизуха предложила собраться вечером в школе и послушать новые записи. Таня обещала принести магнитофон, у нее дом рядом.
Мы думали, придут одни девчонки, послушаем музыку, поболтаем, да и разойдемся.
Но неожиданно к шести вечера пришел весь класс.
Мы с Машей издалека увидели на школьном крыльце наших длинных мальчишек, среди которых, как чей-то младший брат, терялся Сережик. Елин стоял с гитарой. Не было только Лени.
— Смотри-ка, парни пришли, — удивилась я.
Маша зарделась — Вадим смотрел на нее с крыльца и снисходительно, как мне показалось, улыбался.
Здорово, что все пришли — стало быть, нас тянуло друг к другу. Но нам не повезло — открылась школьная дверь, и на крыльцо вышла директриса Марфа Никитична.
Она увидела нас и строго спросила:
— Это что еще за сборище?
«Сборище»! Вот как!
— Мы пришли музыку послушать, Марфа Никитична, — ответила за всех Таня Орлова.
— А кто разрешил?
Мы молчали.
— А что, разве без разрешения нельзя послушать музыку? — ершисто спросила Лизуха. — Ведь это наша школа.
— Во-первых, сегодня — предвыборный день, — язвительно заметила Марфа Никитична, — как вы знаете, наша школа — избирательный участок, и всякие сборища запрещены...
Опять эти «сборища»! Нашла же словечко!
— Во-вторых, — продолжала директриса скрипучим голосом, — вам одним, без классного руководителя, никто не разрешит по вечерам собираться.
— Да что мы, маленькие? — хорохорилась Лизуха.
— Неизвестно, чем вы будете здесь заниматься! Так что расходитесь!
Эта женщина была у нас директором первый год. Мы не любили ее — она какая-то безразличная, старая уже, ничем не интересовалась. Ходила по школе молча, быстро, словно за ней кто-то гнался. Наверно, вышла на пенсию, посидела дома, а как стало скучно, снова напросилась на работу, и ее поставили к нам.
Опять открылась дверь, и на крыльцо стали выходить учителя. Оказывается, все они были здесь — готовились к завтрашним выборам.
И Лариса Васильевна вышла.
— Что же вы, голубушка, плохо своих учеников воспитываете? — как школьнице, сделала замечание нашей классной директриса.
— А что случилось? — Лариса Васильевна с тревогой посмотрела на нас. — Ребята, вы зачем здесь?
— Да мы музыку послушать. А что, нельзя?
Лариса Васильевна поняла.
— А мне вы не могли об этом сказать?
— Да мы думали — можно так...
— Вот-вот, разбирайтесь, — Марфа Никитична сползла с крыльца и семенящей старушечьей походкой побрела домой.
Учителя тоже разошлись.
— Если я лишняя, если я вам мешаю, — тихо сказала Лариса Васильевна с непривычным напряжением на лице, — я могу и в учительской посидеть. Но без меня вам никто и никогда не разрешит оставаться в школе.
Конакова понеслась:
— Да, да, мешаете! Неужели один вечер мы не можем без учителя провести?
Лучше сказала бы правду — мы не знали, что нельзя. К тому же случайно собрались все. Хотели же только девчонки.
— В школе — нет, не можете, к сожалению, — резко ответила классная. — Идите по домам.
Огорченные, мы поплелись по улице. Домой не хотелось.
Но идти было некуда.
— Слушайте! Пошли в наш ЖЭК, в красный уголок! — воскликнула Вера Варлей. Вот уж от кого меньше всего ожидаешь! — Там вечером никого нет.
Выход был найден, и все приободрились. Только мне было невесело, а обидно за Ларису Васильевну. Ясно-понятно, классная огорчилась. Я шла вместе с одноклассниками рядом с Костей и Иркой, а самой хотелось повернуться на сто восемьдесят градусов и побежать успокаивать классную. Рассказать, как получилось. И еще я злилась на Лизуху.
В красном уголке сидела большеротоя девушка со смешными хвостиками-рожками. Она обрадовалась нам так, что чуть в ладоши не захлопала. Каждый вечер ей нужно было записывать количество посещений. А тут — сразу тридцать человек, и врать не надо.
Танькин магнитофон, который всю дорогу нес Костя, не понадобился. Мальчишки играли на гитарах. Девчонки подпевали. Костя с Сережиком занялись бильярдом, я смотрела журналы. Дежурная Аллочка влюбилась в наш класс, через каждую минуту восклицала, покачивая головой: «Ну надо же! Какие вы дружные! Ну надо же!» Она приглашала приходить нас хоть каждый день.
Но несмотря на то, что было хорошо, я торопилась уйти. Я точно решила, зайду к Ларисе Васильевне, успокою ее.
Вадим сел рядом с Машей, обняв ее за плечи. Мы не видели в этом ничего особенного. Это взрослые ахают: ах, дети, ах, как это можно — сидеть обнявшись? А какие мы дети?
Только Славику неприятно смотреть на Елина и Булатову, так это понятно, Славику больно.
Я раньше думала, наш класс недружный. Девчонки и мальчишки всегда порознь. Но вот сегодня ребята почему-то пришли к нам. Мы их не звали. А раз пришли, значит, им надо, чтобы мы собирались вместе? Как жаль, что скоро расставаться!
Когда мы, человек восемь, шли в одну сторону по домам, я сказала:
— Ребята, давайте к классной зайдем. Ей плохо сейчас.
— Вот еще! — взвилась Лизуха. — Что мы, один вечер без классной...
— Давайте, правда, зайдем, — перебила Орлова.
Зашли, и правильно сделали.
— Я думала, что совсем из вашего доверия вышла, — сказала Лариса Васильевна. — Пришла домой и говорю мужу: все, десятый выпускаю и ухожу из школы. Спасибо, что пришли.
49
Закрутилась наша с Иркой карусель. Мы каждый час вместе. Да и то верно — невозможно без друга. И хотя мы обе вроде бы заместительницы: она — заместитель моей Альки, я — заместитель ее Салатовой, нам интересно вдвоем. Ирка поддерживает любые затеи, которые приходят в мою шальную голову, а я поддерживаю ее.
Теперь уже не разобрать, кому первой пришла мысль в марте, на весенних каникулах, съездить в Ярославль.
Это самый близкий от нас большой город — всего часов двадцать на поезде. Ближе только Вологда, но туда поезд приходит ночью — неудобно. Мы прямо загорелись: даешь Ярославль! И ведь денег у нас еще не было, а уверенность была: поедем!
Берегли каждую копейку, не ходили в кино, не завтракали в столовой. Все вкладывали в общую копилку. Капитал медленно, но рос.
Одно задерживало: Иркина мама все еще лежала в больнице.
Каждый день она навещала маму, а мне говорила:
— Если к каникулам ее не выпишут, никуда не поеду.
Каникулы приближались. Иркину маму все не выписывали. Ирка жила то у Ларисы Васильевны, то у нас, то у бабушки в деревне, куда надо было ехать на автобусе примерно полчаса. Дома она почти не ночевала.
В самом конце третьей четверти Иркина мама, наконец, вышла из больницы. Она пришла в школу за ключом от квартиры. Подняться в класс не решалась, а может, не нашла нас, мы же каждый урок в другом кабинете. Стояла у входа и чего-то ждала. Маленькая полная женщина в рабочей фуфайке и валенках с калошами. Как будто она не из больницы выписалась, а пришла сюда прямо со стройки, где работала штукатуром. Лицо у нее круглое, все в мелких веснушках, очень застенчивое. Иркина мама стояла в одиночестве, и никто не обращал на нее внимания. Кто знает, сколько бы она простояла здесь, если бы мы с Олей Парамоновой не спустились вниз посмотреть изменившееся недавно расписание.
Как приятно сообщать людям радостную весть!
Мы наперегонки помчались на третий этаж к кабинету математики и еще издалека закричали Ирке:
— Мама твоя пришла!
Ирка взвизгнула и бросилась вниз.
План с Ярославлем мы держали в секрете. Особенно скрывали его от Ларисы Васильевны. Мы мечтали, как удивим ее. Зайдем к ней в последнюю минуту с дорожными сумками:
— Здравствуйте и до свидания — мы в Ярославль!
Как будто эта поездка для нас — в другой конец города.
Но тайны не получилось.
Зашли мы к директрисе за справками. По этим справкам можно купить льготные билеты. Тогда же в кабинет директора зашла зачем-то Лариса Васильевна.
Увидела нас, прямо-таки подскочила к столу и взволнованно выпалила:
— Марфа Никитична, ничего им не давайте! — У нее даже губы немножко задрожали: испугалась, что мы пришли за документами. Мы с Иркой разочарованно переглянулись, вздохнули и объяснили, в чем дело. Классная сразу успокоилась, а Марфа Никитична спросила:
— А зачем вы туда едете?
— Просто так.
— Без взрослых?
— Марфа Никитична, нам по шестнадцать лет!
— Самый опасный возраст.
— Марфа Никитична, мы все равно поедем, просто нам придется больше денег потратить.
— А к кому вы едете?
Ирка, потеряв терпение, закатила глаза к потолку, сдунула челку и соврала:
— У меня в Ярославле тетя.
Только после этого осторожная старушка выдала нам справки.
50
Итак, мы с Иркой едем в Ярославль. Денег было немного. Да и то сказать — что нам могли дать наши мамы? Я от своей даже напутствия не получила. Мама не разрешала мне ехать. Я показала ей железнодорожный билет, успокоила, что «деньги есть», и утопала на вокзал. В поезде начался режим экономии. Нас соблазняли разносчики с корзинами, полными всякой всячины (даже бананы были), но мы держались стойко и ничего не купили.
Красивый город — Ярославль. Около церквей и соборов мы стояли разинув рты. Даже названий не спрашивали — просто любовались. В нашем городе нет церквей, хотя до революции их было много. У нас не было никаких войн, а церквей и соборов все равно не осталось. Особенно красив, говорят, был пятиглавый Стефановский собор. До сих пор живы тополя, которые росли около него. Эти столетние деревья для меня — посланцы из прошлого. Убери их, и, кажется, что-то оборвется в моей жизни. Маленькими деревцами они не раз видели коми поэта Ивана Куратова, учителя церковноприходской школы. К этому человеку у меня трепетное чувство. Застенчивый, молчаливый, одинокий, не понятый никем и никому тогда не нужный, он писал стихи, от которых и сейчас бередит душу.
А в Ярославле памятников старины столько, что мы и мечтать перестали все посмотреть. Очень уж город большой — нельзя сказать, что мы его хорошо узнали.
Не обошлось и без приключений. В первый день стали переходить площадь, а наперерез — троллейбус. Я отскочила в одну сторону, Ирка — в другую. Троллейбус звякнул, Ирка — деру, а он почему-то поехал за ней. Я подумала, что с водителем не все в порядке. Но тут какой-то мужчина, смеясь, закричал Ирке с тротуара:
— Девушка! С линии сверни! С линии!
В нашем городе только автобусы. О троллейбусных проводах-то мы с перепугу забыли!
Люди сразу поняли, что девочки из деревни.
В центральных гостиницах мест не было, и мы устроились в окраинной. Да и тут нелегально. На одну ночь нас пустили, а утречком — попросили: мест и для командированных не хватало. Но свет не без добрых людей. Две девушки из номера, в котором мы ночевали, работали в ночную смену. Они предложили нам спать на их кроватях.
Как-то зашли пообедать в столовую, обычную забегаловку в полуподвальном помещении. И здесь меня потряс один старик. Седой, с ветками морщин на лице, в грязном мохнатом шарфе на худой шее, он играл на скрипке. Когда он исполнял старинный романс, в зал вошла девушка в белом коротком халате, из-под которого виднелась красная юбка, и поставила на стол рядом со стариком тарелку горячего супа, над ним вился пар. Скрипач на секунду остановился, галантно поклонился поварихе и заиграл снова.
Я бы еще долго не ушла из столовой, да Ирка торопила. Потом я все думала о старике. Кто он? С кем живет? Почему приходит в столовую?
Из литературы мы знали, что недалеко от Ярославля есть село Грешнево, в котором в детстве жил Некрасов. Решили съездить туда. Да автобусный маршрут выбрали неправильный. Доехали до села Некрасовского, думали, это новое название Грешнева. Пришлось идти пешком. Да через Волгу, да через поле — добрых десять километров.
Пришли.
— Усадьба Некрасова? — удивилась женщина с ведрами на коромысле. Ее румяное лицо было в круглой рамке серого пухового платка. — Так эт, девчата, не здесь! Эт в Карабихе усадьба.
— Но ведь здесь он жил, — убеждала я женщину.
— Ну и что? — белозубо улыбнулась она. — В Карабихе он долгие годы работал. А здесь только в раннем детстве жил, когда не поэтом, а просто мальчонкой был. Что же вы не узнали как следует, девчата? Эт не здесь, не здесь!
Повернули и зашагали назад. Голодные, но не злые. Да и чего злиться, когда все кругом хорошо? Белый, отливающий розовым на заходящем солнце снег. Пушистые сосны — не такие, как у нас на Севере, а толстые и широкие, как купчихи. Через Волгу нас повез дед на санях с сеном. Я впервые ехала на лошади и немного боялась: лед на реке зыбко колыхался под ее копытами. Из трещин, которых в конце марта было уже достаточно, показывалась зеленоватая вода Волги.
Вечером я почувствовала озноб и поняла, что прогулка в Грешнево для меня даром не пройдет.
Я закуталась одеялом, сверху накрылась пальто и все равно тряслась.
Но, несмотря на мою простуду, мы поехали в Карабиху. Больно уж хотелось похвастаться Ларисе Васильевне, что в музее Некрасова побывали. Нам опять не повезло: на воротах музея висел увесистый замок — был выходной. Мне этот замок показался зловредным кукишем.
В родной город я вернулась совершенно простуженная. Дома никого не было, и я тут же села писать про старого скрипача.
51
Весенние — у нас они, можно сказать, зимние, даже снег не тает — каникулы кончились. Для нас это были последние школьные каникулы в жизни.
Мы пришли на уроки и узнали печальную новость: Лариса Васильевна заболела. Что-то с сердцем.
Минимум на месяц класс наш осиротел.
Меня эта новость потрясла. Я не могла представить, что на литературу придет другая учительница. Я заранее настраиваю себя против той, которая будет ее замещать. Классным к нам временно назначили свободного Валентина Сергеевича, этого добряка, которого мы по-прежнему не слушаемся.
Мне не хочется в школу — там нет Ларисы Васильевны.
Я навещаю классную каждый день. Вчера захожу в подъезд и сталкиваюсь с ее соседкой по этажу.
— Вот и девочки идут, — подняв голову, говорит кому-то соседка.
Смотрю: по лестнице спускается Лариса Васильевна, плачет. Врач объявил ей, что надо лечь в больницу. Кому ж туда хочется? Да и Игорек маленький, как он без нее?
Лариса Васильевна шла в школу — сообщить, чтобы на работу ее скоро не ждали. Я предложила сходить вместо нее, и классная вернулась домой. Я выскочила на улицу, а навстречу — Ирка с Салатовой. Видно, лицо у меня было какое-то перекошенное, потому что девчонки в один голос спросили:
— Что случилось, Ритка?
— В больницу кладут, — выпалила я и пронеслась мимо.
Прошло несколько дней, а классная все никак не могла попасть в больницу — не было мест.
Однажды навещали учительницу наши мальчики. И тогда же к ней явилась молоденькая преподавательница, которая еле-еле согласилась Ларису Васильевну подменять. Толстенькая, навроде Лизухи. Как увидела она акселератов Гришу, Вадима, Фадю, так на урок мы ее не дождались — струсила.
Тот день был для Ларисы Васильевны днем визитов.
Приходили девчонки, учителя. Потом наш временный Валентин Сергеевич заглянул.
— Риты не было в школе, — брякнул он с порога.
— Как не было? — удивилась Лариса Васильевна. — Она только что забегала — с портфелем.
— Не было, я заглядывал в класс.
Разве скажешь, что он хорошо соображает? Нельзя сейчас классную расстраивать, даже если я в самом деле прогуляла. К тому же этим я давно не занимаюсь. Просто на последнем уроке быстрее всех написала контрольную по геометрии, и Заминированная отпустила меня до звонка. Чего зря-то сидеть?
Поздно вечером я снова заявилась к Ларисе Васильевне. Проходить не стала, просто спросила:
— Вы сегодня устали?
— Устала, — вздохнула классная и коротко улыбнулась.
Еще бы! От такого количества визитеров здоровый устанет, не то что больной.
— И все-таки хорошие вы у меня, гаврики!
Радостная, я вылетела из подъезда.
На другой день на пустующих уроках литературы Костя Попов предложил снова сходить к классной.
Веселой толпой в тридцать душ двинулись на пятый этаж. Вид у Ларисы Васильевны был неважный: лицо осунулось, пожелтело. Обычно она нас долго не отпускает, а тут сама предложила:
— Ну, бегите, мои гаврики!
Грустной цепочкой мы поплелись вниз. На крыльце я рассказала о вчерашних нашествиях.
— Вот что, — Орлова строго оглядела нас. — С этого дня будем навещать Ларису раз в неделю, человек по пятнадцать. И сидеть у нее не больше пятнадцати минут.
— Да. Каждому — по минуте, — строго добавил Елин.
Маша треснула его по спине, чтобы не ехидничал.
— А ходить по одному и сидеть у нее часами строго запрещается, — продолжала Таня, и ее небольшие серые глаза остановились на мне.
Наконец-то нашли для нас учительницу литературы!
Галина Дмитриевна молодая, симпатичная женщина, может быть, даже душевная. Но я отношусь к ней с предубеждением.
Всякий практикант по литературе, а они бывали у нас каждый год, почему-то в первую очередь вызывал отвечать меня. И когда Галина Дмитриевна первой спросила Игнатову, все в классе захохотали. Я была настроена против новой учительницы, но ответила нормально. Подводить Ларису Васильевну не хотелось.
Но на геометрии сегодня произошла катастрофа.
Мы сразу видим, когда Заминированная не в духе. Тогда она в первую же минуту окатывает класс таким холодным суровым взглядом, словно перед ней сидят не советские школьники, а ее заклятые враги. И высокие каблуки на ее красивых туфельках стучат особенно громко и ритмично.
Именно такой возникла Зинаида на геометрии. Обшарила глазами пустую крышку учительского стола и гаркнула:
— Познакомьте меня с дежурным!
Ясно-понятно: дежурный забыл о своей обязанности — не принес из учительской классный журнал. Неужели поэтому можно так кричать?
Как назло, дежурной была Ирка.
Змея просто ненавидит ее. У Ирки нет математических способностей, ну нет, что сделаешь? А Зинаиду это здорово злит, словно Пунегова сама виновата в этом.
— Я, — произнесла Ирка обреченно и встала.
— А, Пунегова... Ну, если бы человек был... Не с человека и спроса нет.
Я бы после таких слов пулей вылетела из класса, а Ирка тихонечко села, и только краска хлынула к щекам.
Змея как ни в чем не бывало, сцепив вместе кисти рук, словно они у нее мерзли, пошла по рядам проверять домашнее задание. Никто на нее не смотрел, все лишь слушали громкий, ритмичный стук каблуков.
Она подошла к столу Пунеговой. Ирка, как все, раскрыла тетрадь. Мы решали задачу вместе, и я-то знала, что у нее все нормально. Но оказывается (это потом выяснилось), что мы одни из целого класса решили ее другим способом, и Змея сразу подумала, что Ира у меня скатала. Да, я помогла ей, но ведь это не противопоказано?
Заминированная задержалась около Иры и зло спросила:
— Сама решила или списала?
— Сама, — шевельнула губами Ира.
— Решила или списала? — закричала эта истеричка. — Ну поплачь еще, поплачь...
И пошла дальше.
В классе стояла мертвая тишина. Все уткнулись в тетради и боялись, как бы гнев алгеброзы не перекинулся еще на кого-нибудь.
Что же она делает? Раз классной нет, раз некому нас защитить, значит, можно издеваться?
Только прозвенел звонок, и Заминированная удалилась, Ирка стрелой вылетела в раздевалку. Разве можно было ее удержать? Я и пытаться не стала, сама бы так поступила.
И ведь только уговорили ее не бросать школу!
— Что это сегодня с Зинаидой? — спросила на перемене Салатова, отличница по математике, Змеиная любимица.
— Змея она и есть змея, — сквозь зубы сказала я. — Ее бы так унизить.
Надя как-то странно на меня посмотрела: глянула раз и быстро отвела глаза в сторону. При случае наверняка передаст мои слова по адресу. Ну и нисколько не страшно.
— Вот что, девчонки. — Комсорг уже была готова действовать. — Сейчас мы идем в учительскую. Вызываем Зинаиду. Пусть она перед Ирой извинится. Только без эмоций. Спокойно. Ритуль, ясно?
Змея вышла, обвела нашу делегацию удивленным взглядом узких коричневых глаз. Оказывается, она даже не поняла, что час назад в грязь человек втоптала.
— Зинаида Анимировна, — торжественно начла Таня. — Вы были не правы на уроке. Вы должны извиниться перед Пунеговой.
Неожиданно Зинаида покраснела до корней волос и буркнула:
— Я подумаю, — и скрылась за дверь.
— Я что-то не очень поняла, девоньки! — Лизуха прищурилась за очками.
Мы переглянулись.
— Вот что, девчонки, — Орлова медленно пошла по коридору, и за ней двинулись все. — Если завтра она перед Пунеговой не извинится, мы не идем к ней на урок.
— А парни? Вдруг они не захотят? — засомневалась Неля.
— Захотят. Они и сами все видели.
Ясно-понятно, назавтра Ирка в школу не пришла.
Девчоночья делегация в прежнем составе (только Салатова куда-то исчезла) направилась на второй этаж, в учительскую.
— Зинаида Анимировна, Пунеговой нет в школе, — сообщила Таня, вызвав алгеброзу.
— Может, заболела? — заботливо спросила Зинаида, и на ее круглом лице появилось невиданное прежде участие.
— Нет, Зинаида Анимировна, — возразила Таня. — Скорей всего, она не пришла из-за вас.
— Что же вы предлагаете? — Алгеброза нервно дернула полным плечом. — Мне самой идти к ней?
— Да, Зинаида Анимировна.
— Но у меня урок. — Заминированная взглянула на часы, выразительно вытянув перед собой руку. — Кстати сказать, в вашем классе.
— Урока не будет, Зинаида Анимировна. Мы не придем на урок, пока в классе не будет Пунеговой.
— Это что, бунт?
Змея обвела девчонок тяжелым взглядом, которого мы все так боялись, и посмотрела на меня. Я презрительно скривилась. Пусть не думает, что испугаюсь.
— Если это бунт, то он справедливый, — сказала Таня, и я с уважением посмотрела на нее.
Раньше я думала, что Таня ординарный человек, умеющий правильно излагать свои мысли — и только. Я не видела в этой маленькой светловолосой худышке ничего индивидуального — ни смешливости Нели, ни артистичности Ирки, ни особенного, как у Альки, ума, ни открытой сердечности Маши. Было, оказывается, другое: смелость и умение бороться за справедливость. Вряд ли еще кто решился бы так разговаривать с суровой Зинаидой, которая запросто могла бы отомстить на уроках или — еще хуже — экзаменах.
Прозвенел звонок. Но никто не пошел в класс.
Математический кабинет — последний на третьем этаже, поэтому мы не привлекали особого внимания. К тому же в школе привыкли, что у нас долгое время не было литературы, и какие-то уроки мы болтались без дела. Учителя, заходившие в другие классы, ничего не заподозрили.
А мы чувствовали себя как на иголках. Девчонки стояли у одного подоконника, мальчишки у другого. Почти не разговаривали.
Ну вдруг Заминированная явится сейчас не одна, а с директором? И нас будут чихвостить на все лады?
А я еще боялась, как бы не отправили посла к Ларисе Васильевне. Ни к чему ей этот удар. Ведь объяснят-то все по-своему.
Но Змея, видно, поняла, что вчера перегнула палку. Или побоялась, что ей самой попадет. Ведь мы бы все Марфе Никитичне рассказали, заявись Зинаида с ней.
Заминированная подошла к нам одетая — в модном пальто, с широкими рукавами и маленькой, приплюснутой сверху шляпке. Походка у нее гордая, она не шла, а несла себя.
— Надеюсь, меня проводят? — высокомерно спросила она, вприщур глядя на Таню.
Мы переглянулись. Идти с разъяренной Змеей никому не хотелось. Салатова с готовностью отклеилась от подоконника:
— Я провожу.
Через полчаса они так вместе и вернулись.
Зинаида сбросила пальто и шляпку прямо на стол в кабинете и гаркнула:
— Орлова! К доске!
Орлова встала, но к доске не пошла.
— Где Пунегова, Зинаида Анимировна? — Голос у нее дрожал, все-таки боялась.
— Я сказала: к доске! — заорала Зинаида.
Открылась дверь, и в класс как-то боком вошла Ирка.
Таня пошла к доске.
Мы занимались остаток урока, перемену, следующий урок и еще одну — большую перемену. Змея держалась с нами холодно, неприступно. Всех называла по фамилиям, даже Салатову. Орловой поставила «три», хотя Таня ни разу не ошиблась.
Алгеброза отпустила нас только со звонком на следующий урок. Когда мы толпой ввалились в кабинет истории, удивленная Динозавровна сидела там одна.
— А я думала, ваш класс в кино убежал, — сказала она своим тонким голосочком. — Хотела уже к директору жаловаться идти.
Динозавровна неисправима: только бы нажаловаться.
52
Одноклассники воображают, что я послушно выполняю распоряжение Орловой: бываю у Ларисы Васильевны только в указанные дни.
Это не так. Я у классной каждый день.
Один день не приходила, боясь в конец надоесть, и первый вопрос Ларисы Васильевны был:
— Ты почему вчера не приходила?
И я поняла, что она ждет меня. Ждет!
Я ничего не ответила, но если бы знала классная, сколько радости принес мне ее вопрос. Даже не радости. Радость — чувство кратковременное, а я каждое утро просыпалась с этим чувством в душе. У меня даже дома настроение улучшилось, хотя разгульная жизнь папочки продолжалась. Я смирилась с ней. Не дерется, не шумит — и то хорошо.
Приближался мамин день рождения.
Моя мама молодая. Ей исполняется тридцать шесть. Когда мы идем рядом, никто не верит, что мы — мать и дочь, все думают — сестры.
Мы с Оксанкой копили деньги на подарок, собирали мелочь от завтраков в пакет от фотобумаги.
И вот, когда я хотела положить очередной «взнос», обнаружила, что пакета на месте нет.
Загадки, куда он делся, не было. Пакет мог взять только он, отец.
Я дождалась его. Он, конечно, притащился пьяный.
— Ты зачем наши деньги взял?
— Как-кие денннь-ги, доч-чка...
Трезвый, он меня никогда дочкой не называет.
— Сам знаешь, какие!
Но он, кажется, уже ничего не соображал. Рухнул на диван.
Так хотелось сделать подарок маме!
Вечером я не утерпела, все рассказала классной.
— Я бы тебе свои деньги предложила, Рита, — Лариса Васильевна сказала это нерешительно, покраснев, — да ведь ты не возьмешь...
Я так отчаянно замотала головой, что учительница поняла: эта тема закрыта.
— А лечиться отец пробовал? — спросила она.
— Сто раз лечился. Без толку! Он не долечивается, из больницы убегает.
Классная вздохнула.
— Ну что ж, Рита. Вырастешь, начнешь работать, получишь квартиру, возьмешь сестру и маму к себе.
— А он пусть подыхает?
Учительница снова вздохнула, ничего на этот раз не ответила.
И все же она успокоила меня. Даже не словами, а молчаливым пониманием.
53
Наш класс совсем не похож на десятый. Когда все нормально, мы серьезны, собраны, на уроках у нас образцово-показательная тишина. Но порой мы срываемся, шумим, хохочем, поем — весна виновата!
На улице тепло, хорошо. В классе мы пораскрывали окна и на переменах сидим на подоконниках, горланим песни, удивляем прохожих. Возвращаются из библиотеки мальчики, мы приветствуем их аплодисментами, они закрывают уши, морщатся. По сравнению с Зоей мы для них суматошная малышня.
Елин входит в класс с Машей. Расставаясь на сорок пять минут, он посылает ей со своего места нежный воздушный поцелуй. Стульникову он, похоже, забыл. Маша краснеет, опускает глаза, улыбается — скромница.
Мы еле-еле досиживаем до конца уроков и бежим на улицу, под солнце, под бездонное небо. Неужели там, высоко-высоко, — черный космос? Кажется, нет конца этой глубокой голубизне.
И когда однажды я предложила пойти к классной, меня не поддержали:
— Хватит надоедать!
Я соскучилась по Ларисе Васильевне, а одна пойти не решалась.
Она была уже не дома, в больнице, и передала через Динозавровну, чтобы не приходили.
Я узнала это и расстроилась: значит, мы ей надоели, особенно я.
Почти год мы с Иркой дружили. И вот — разлад. По опыту знаю: надолго. Ясно-понятно, ссориться не хотелось. Да я и не ссорилась, просто не поддержала очередной ее авантюры.
Ирка с Нелей задумали сорвать урок литературы. Видите ли, лень им было сидеть шестой урок, когда за окном бушевала весна. А шестым уроком была именно литература. И хотя урок без Ларисы Васильевны мне совсем не по душе, я и мысли не допускала, чтобы сбежать. Ведь это дошло бы до классной.
И когда Ирка с Нелей стали уговаривать девчонок смыться с урока, я восстала.
— С каких пор ты такая дисциплинированная? — ехидно ухмыльнулась Пунегова.
— С тех пор, как заболела классная, — призналась я.
— Сказать, почему ты стала паинькой? — вдруг прошипела Ирка и приблизила ко мне румяное курносое лицо с прищуренными глазами. Оно показалось мне не милым и добрым, как всегда, а некрасивым, вздорным. — Потому что знаешь: Лариса из-за тебя заболела!
— Ты хотела сказать: из-за нас? — поправила я. Отвернулась от Ирки и уставилась в окно, ничего не видя за ним.
Пунегова мне Америки не открыла. Я сама думала так же. Да, классная заболела из-за нас и из-за меня. Всякие истории, капризы, конфликты. За все это Лариса Васильевна ведь не на словах переживала — сердцем. Да и не одни мы у нее. В скольких еще классах она вела уроки? И вела тоже сердцем. Поэтому и любили ее школьники, поэтому и открывали ей свои души.
И сердце классной не выдержало всех тайн, всех болей. Заболело само.
Да, я стала паинькой. Я боялась расстроить Ларису Васильевну, огорчить. Сердце ведь могло и остановиться.
Первого мая я вышла из дому рано, еще шести не было. Город спал, странно тихий в ярких плакатах и трепетавших на ветру флагах. Солнце только-только подтягивалось к небу верхними лучами, и я вслед за ним лезла по пожарной лестнице на больничном корпусе. Рядом с окном палаты Ларисы Васильевны я привязала связку воздушных шаров. Здесь не было ни флагов, ни плакатов, а ведь праздник есть праздник, хоть и в больнице. Классная проснется и увидит мои шары.
Каждый день я сочиняю классной веселые письма и отношу их в больницу, передаю через медсестру, а сама тут же убегаю. Ведь сказала же Динозавровна, что Лариса Васильевна не хочет, чтобы мы ее навещали. А о школьных делах любой учительнице знать интересно. Пишу только о веселом, только о положительном.
Об этих моих докладных знает только Маша, она иногда пишет их вместе со мной.
Через неделю я заявила в классе:
— Сегодня иду к Ларисе Васильевне.
Девчонки отреагировали по-разному.
— Она же просила не приходить, — напомнила Таня Орлова.
Ирка стрельнула в меня глазами.
— Да пусть идет, это ее дело, — решила справедливая Оля Парамонова.
— Здравствуйте.
Я виновато глянула на Ларису Васильевну и сразу же отвела взгляд.
— Здравствуй, коза. Что ты от меня убегаешь?
В больничном халате, как всегда, аккуратно причесанная, она улыбалась мне своей милой улыбкой.
— Вы же передали, чтобы мы не приходили.
— Да я сказала, чтобы вы занимались больше! Ведь скоро экзамены.
— Правда?
— Правда!
Я повернулась кругом себя на каблуках и засмеялась. Мне стало так радостно, что захотелось прыгать и тормошить кого-нибудь. Чтобы хоть что-то сделать, я нажала на кнопку стоявшего рядом с нами автомата, продающего конверты. И автомат, словно почувствовав, что я ошалела, выдал мне бесплатно конверт с маркой.
Тут и классная не выдержала, рассмеялась:
— Ну и фокусница ты, Рита!
54
На следующий день Зинаида Анимировна прицокала в класс на алгебру и торжественно провозгласила:
— В вашем классе, оказывается, обитает еще один заядлый прогульщик, кроме Ульнырова. Игнатова, тебя вызывают к завучу, можешь идти.
Я с недоумением вышла и по коридору в кабинет к Татьяне Кузьминичне торопливо высчитывала, сколько же у меня прогулов. За два года я насчитала пять прогулов, ну и еще пять накинула на всякий случай. Однажды болела и справку не брала, тоже, считай, прогуляла.
Завуч была в кабинете одна. Она с сочувствием посмотрела на меня и сообщила, что вчера на педсовете было решено снизить мне отметку по поведению. В аттестате.
— Тридцать неявок за год! — объяснила Татьяна Кузьминична. — Неужели можно столько прогулять, Рита? У тебя нет ни одной справки.
Я пожала плечами. Куда девались справки, непонятно. Я их отдавала Ларисе Васильевне.
Оправдываться не стала. Были же дни, когда я действительно прогуливала. Я стояла перед Татьяной Кузьминичной и глупо улыбалась. А она не ругала меня. Показалось, что эта красивая, с прической башенкой, женщина, которую школьники побаивались за строгость, искренне сочувствует мне.
— Ах, Рита, Рита. По литературе — отлично, а по истории — три, это же несовместимо!
— Я исправлю историю. У меня там случайная двойка.
— Ах, Рита, Рита. У тебя что, правда так бывает, как Зинаида Анимировна говорит: «По одной контрольной получит пятерку, по другой — двойку». Как же это, Рита? Ну иди, я посмотрю, как ты экзамены будешь сдавать.
Я вышла расстроенная. Сниженная отметка по поведению — не в дневнике, а в аттестате, это не шутка, ясно-понятно. Она же дороги во все институты закроет! Что ты, спросят, вытворяла в школе, если у тебя аттестат испорчен? Ах, прогуливала! Ну, дорогая, ты и у нас прогуливать будешь, до свиданьица.
На перемене я разнюнилась. Девчонки узнали, в чем дело, и стали утешать:
— Не бойся, не снизят! Если что, мы пойдем за тебя драться!
А потом меня решила успокоить Козлик.
— Не переживай, Рита, — тихо и несмело сказала она, когда мы случайно оказались рядом на лестничной площадке возле школьной стенгазеты.
Я так обрадовалась Алькиным словам, первым после сентябрьской ссоры, что снова захлюпала.
Алька поняла это по-своему.
— Ну я просто не знаю, что делать, что говорить, если ты от моих слова ревешь!
И убежала, огорченная и лохматая.
После уроков девчонки тащили меня в кафе «Мороженое», но я и без него мерзла. Попрощалась с девчонками и побежала к Альке. Позвонила и, как только она выглянула пробубнила:
— Ты зря, Козлик, думаешь, что я расстроилась из-за тебя. При чем здесь ты?
Повернулась — и назад. Снова слезы.
— А из-за чего, Рит? — Козлик догнала меня на улице. В новом синем пальто, в туфельках на каблуках Как ей все это идет. Совсем уже взрослая, красивая.
— Да так. В школе плохо, дома плохо.
Я не собиралась поначалу выкладывать, что происходит со мной. Но я хотела, чтобы она шла рядом. Ужасно надоело не разговаривать с ней и делать вид, будто она для меня никто. Поэтому я все рассказала. И о бесконечной пьянке отца, и о том, что мы с мамой не понимаем друг друга, и о том, как я скучаю без классной.
— Ты куда идешь? — спросила Алька.
— Никуда. Просто так. А ты?
— Я к Вере.
Мы прошли Верин дом и школу, вышли к парку. Мы молча брели рядом, задевая друг друга плечами. Шелестел ветер, вспахивал разлившуюся речку. Над ней летали чайки.
— Ты приходи ко мне, Рита.
— Зачем? Заниматься? Уроки учить?
— Мы с тобой так долго не разговаривали, что я просто не знаю, о чем надо говорить, — Алька уловила иронию в моем вопросе.
— Можешь ни о чем не говорить. Мне с тобой и так хорошо.
Мы расстались с Козликом около ее дома — к Вере сегодня она так и не пошла. Расстались, вконец помирившись. И тогда я поняла, как с сердца сваливается камень. Даже как будто стало легче дышать.
Дома я долго стояла под душем, потом подошла к зеркалу. Вроде следов наводнения на лице не заметно. Можно топать. И я отправилась по ставшему за последнее время привычным маршруту: в больничный городок. Шла малолюдными улочками под старыми березами и гадала: сказать Ларисе Васильевне о решении подсовета или нет? Надо было выяснить, куда делись справки, но я боялась ее расстроить.
Говорить ничего не пришлось: у классной побывали девчонки. Вместо кафе «Мороженое» пришли сюда.
— Они что, там с ума посходили? — у Ларисы Васильевны было такое сердитое лицо, какого я никогда не видела. — Твои справки все у меня, они должны знать об этом.
Похоже, кое-кто из учителей хочет доставить нам как можно больше неприятностей, пока нет классной.
Почему-то кажется, одна из них — Зинаида Анимировна. Уж больно злорадствует.
55
До конца мая Лариса Васильевна пролежала в больнице.
Мы с Юлей возвращались из школы мимо дома классной — я всегда смотрю на знакомые окна пятого этажа. Такая у меня выработалась привычка. Не изменила я ей и в тот день.
На балконе рядом с Иваном Алексеевичем стояла — классная!
Я замерла на миг, а потом, перепрыгивая через три ступеньки, помчалась на пятый. Юля за мной еле поспевала. Зашли на минутку, поздравили учительницу с возвращением.
Проходя мимо дома Тани Орловой, стали кричать ей, что классная дома.
Таня высунулась в форточку:
— Юля, следи за Ритой, а то она от радости чего-нибудь натворит.
Ясно-понятно, на работу классной еще нельзя. Но на последний звонок и на экзамены она, конечно же, придет.
Десять лет прошло, как для нас, малолеток, прозвучал первый звонок. Звонок ожидания прекрасной школьной жизни. Он не обманул нас, первый звонок. И вот последний звонок, звонок-граница, за которым — взрослый мир.
От нашего класса до актового зала стоят пионеры в парадной форме, они отдают нам салют. Мы проходим между ними, как посланники другого, уже не школьного, государства.
Перед входом в зал нас ждали все-все учителя, нарядные и торжественные. Они пропустили десятиклассников, а уж потом вошли сами. Мне даже стало неловко.
Один за другим выступали учителя.
Когда к сцене направилась Лариса Васильевна, я вся напряглась. Лучше бы классная не выходила. Вдруг расстроится? А больное сердце?
Но классная была спокойна. Она потом объяснила мне, что ей дали выпить какую-то таблетку, которая на время делает человека чуть ли не равнодушным.
— Дорогие мои! — начала классная, и от волнения я закусила губу. — Недолог день, когда мы расстанемся с вами. За три года я успела полюбить вас, мои родные. Иногда вы причиняли мне боль своими поступками, словами. Но чаще — радость. Спасибо вам за все!
По залу побежала девчушка, первоклассница, розовощекое существо с белыми бантами в тонких косичках. Пока она обегала зал, позванивая в колокольчик, бант с одной косицы упал и остался лежать на полу огромной замершей бабочкой.
Печальный по сравнению с шалым электрическим звонком медный колокольчик звякнул в последний раз.
К нам подбежали первоклассники, они были почти не видны за букетами. Мальчик со смущенной улыбкой протянул мне белые каллы.
В этом робком мальчугане я с трудом узнала вредину, который всегда задирался ко мне. Он жил в доме Ларисы Васильевны и всякий раз грозил при встречах:
— Эй, длинная! Сейчас я тебя стукну.
Мне захотелось обнять этого белобрысого малыша.
56
Экзамены по литературе — сочинение и устный — я сдала на пятерки. Но это меня нисколько не радует, потому что дома очень плохо. Так плохо не было еще никогда. И ладно бы, если причиной этому был отец. Нет же! Мама!
Она даже не спрашивает, как я сдаю. У других ребят родители приходят в школу и «болеют» за своих под дверьми, а мои даже не спрашивают ни о чем. Ясно-понятно, мама уверена, что я не провалюсь, но все равно мне хочется, чтобы она поинтересовалась, какие темы были на сочинении, какие вопросы в билете. Вообще хочу, чтобы она поговорила со мной.
Но мы уже несколько дней не разговариваем. Я сама виновата. Наорала на нее за то, что вечером она задержалась на работе, не предупредив нас.
И мама совершенно справедливо объявила мне бойкот.
В день рождения меня никто не поздравил. Отец всегда поздравлял. Но сейчас ему не до этого, пьет.
Так было обидно, что я ускользнула из дому. Было воскресенье. Я сидела в пустой школе — она открыта для нас каждый день, учила насколько могла билеты. Явились одноклассники на консультацию по алгебре. Девчонки бурно поздравили меня, по детской привычке отодрав за уши.
Кончилась консультация, и я в одиночестве пошла бродить по городу.
Куда себя деть? Зайти к Козлику? Куда с таким настроением? Хандрой заражать? Да и отвлеку — пусть учит билеты.
Был уже поздний вечер, одиннадцатый час, и, как назло, полил холодный дождь. Вот уж совсем не июньский. Все равно домой не пойду. Вернусь после двенадцати, когда этот день кончится.
Дождь лил и лил, я промокла насквозь. Отогревалась в каком-то подъезде. Вышла женщина с кастрюлькой, доверху набитой пищевыми отходами, понесла в бачок, подозрительно оглядывая меня с ног до головы.
— А нечего тут стоять, — зло сказала она, возвращаясь назад уже с пустой кастрюлькой. — Стоят тут, курят, окурки бросают.
Я снова вышла на улицу. Ноги сами понесли меня к дому классной. Свет горел только в кухне. Значит, Игореша спит, ему не помешаю. Иван Алексеевич в отъезде.
Зайду. Все расскажу. Больше не могу так.
Там я просто разревелась. Лариса Васильевна обо всем догадалась сама. Она задавала вопросы, а я кивала, соглашаясь, или мотала головой. Говорить не могла. Давно я так не ревела, слезы прямо душили меня.
Расспросив меня, классная долго молчала, и мне показалось, что вот-вот она расплачется тоже.
— Ты голодная? — спросила вдруг Лариса Васильевна.
Да, я была голодная, очень голодная. Несколько дней дома я почти ничего не ела, пытаясь разжалобить маму своей голодовкой. Только сейчас это почему-то не помогало. А сегодня, как я ушла из дому, выпив утром чаю с куском хлеба, так больше ничего в рот не брала.
Но признаться, что я так бессовестно хочу есть, было стыдно, и когда классная разогрела борщ, я сказала:
— Не буду.
Лариса Васильевна молча налила в тарелку, а потом уж сказала:
— Садись и ешь!
И я села за стол.
Я сидела за столом с красными глазами, с распухшим от слез лицом и ела самый вкусный борщ в мире.
Назавтра еле-еле, на троечку, я написала экзаменационную работу по алгебре. Лариса Васильевна меня не ругала. Мама — тем более. Вечером мы с ней помирились. Когда я сказала ей, что она меня совсем не любит, мама заплакала и обняла меня. И в этот раз я не отстранилась, а обняла ее тоже. Неуклюже это получилось, потому что в первый раз.
Вернулся из командировки Иван Алексеевич, и классная снова легла в больницу. Оказывается, она выходила только на время.
Я навещаю ее каждый день.
Приближался выпускной вечер. Мне ничуть не хотелось на него. Что там делать без Ларисы Васильевны и Альки?
С Алькой случилась беда. Она завалила историю. Это был единственный в классе провал. Козлик не ответила на два билета подряд, и Динозавровна поставила ей двойку.
Но этот провал понимали все: и мы, и учителя. В один из этих дней у Козлика умерла тетя, которая жила вместе с Алькиной семьей всю жизнь.
Алька совсем замкнулась в себе. Никого к себе не подпускала. Я пыталась с ней заговорить, она меня оборвала.
57
Без всякого настроения собиралась я на выпускной. Может, в последнюю минуту и вовсе бы раздумала идти, но за мной зашел Леня.
В новом костюме, в галстуке в полосочку, на голову выше меня. Леня выглядел, ясно-понятно, взрослее, чем в школе. Но лицо его было по-прежнему детское: круглое, наивное, со школярской челкой на лбу. Только глаза изменились. Они уже не бегали зайчатами. Теперь Леня выдерживал мой взгляд, лишь краснел здорово.
— Ты что, Лень? — Я удивилась, увидев его на пороге. Мелькнула мысль, что сейчас Леня попросит какую-нибудь книгу, как не раз бывало.
Леня замялся, потер щеку.
— Мы с парнями договорились. Каждый заходит за кем-нибудь из девчонок.
— Ты выбрал меня?
— Я давно тебя выбрал.
Леня покраснел и снова смущенно потер щеку.
Вот так Леня! В самом деле растет! Еще бы годик учебы, глядишь, он и на уроках стал бы смелее. А то выйдет к доске, бубнит что-то под нос и глаз не поднимет от пола.
— Ладно, Лень. Пойдем с тобой. Тебе нравится мое платье?
Я не умею кокетничать. И новых платьев у меня раз, и обчелся. Но с выпускным мама уж расстаралась. Может быть, она чувствовала себя виноватой за день рождения, за экзамены. Ведь, правда, будь дома все нормально, я сдавала бы лучше. Уж тройку бы наверняка не схватила.
— Да, — лаконично ответил Леня, а взгляд его говорил восторженно и длинно.
На выпускном вечере многие ребята приглашали меня танцевать. Но я всем отказывала — танцую-то неизвестно как. Только с одним Леней танцевать не стеснялась и весь вечер провела с ним. Удивительно — Леня хорошо танцевал. Случалось, я наступала ему на ногу, и тогда он краснел. Танцевали мы молча, и все казалось, что Леня мне что-то скажет. Но он не сказал.
Веселые, легкомысленные, мы ринулись в парк, на речку.
Ночи стояли самые белые.
Мы шли шумной толпой, чувствуя себя необыкновенно родными. Наверное, потому, что расставание было совсем рядом. Мы пели, не допев одну, начинали другую, перебивали друг друга, смеялись. И вдруг остановились как вкопанные.
Настречу нам шли, держась за руки, парень и девушка.
Мы узнали Таню Орлову!
Тут я вспомнила, что Таня была только в начале выпускного. Потом куда-то исчезла.
— С кем это она? — ошалело спросила я.
— Это сержант Алешин, — ответила Лизуха, усмехнувшись. — Недавно демобилизовался.
Таня, обычно невзрачная, сейчас была очень красивая. Я вспомнила, как в девятом классе получила от сержанта Алешина письмо и отдала его Тане.
После этой встречи мы замолчали.
Уже не хотелось кричать и смеяться. Торопливо, словно по обязанности, мы подошли к реке, постояли у высокого берега, глядя на солнце, и расстались почти без слов.
| Игорь | 16:33 09.11.2021 |
| Первый раз прочитал рассказ в начале 90-х, в совершенно юном возрасте, рассказ запомнился и очень понравился. И вот в сейчас, через 30 лет, перечитал. Эмоции после прочитанного те же. | |
| Avtorsha | 14:19 17.11.2021 |
| Игорь, спасибо большое за внимание! Это очень хорошо, что рассказ вызывает такие положительные эмоции. Это была одна из книг, благодаря которой появился сайт Авторша. Думаю, что писательница - гений. 😊 | |
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





