ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
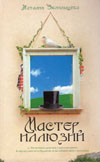
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шаховская Зинаида 1975
На своей книге «Воспоминания», изданной «Возрождением», Иван Алексеевич Бунин сделал мне в 1950 г. такую надпись: «Дорогая Зинаида Алексеевна, когда Ваше Сиятельство будете писать свои Воспоминания, не браните меня так, как я тут бранюсь». Но, конечно, и без такой надписи мне бы в голову не пришло бранить Ивана Алексеевича — не только потому, что я многому научилась читая его книги, не только потому, что нечастые встречи мои с ним были мне дороги, но и просто из благодарности. Ко мне и мужу моему Иван Алексеевич высказывал неизменно сердечное расположение, особенно ценное именно потому, что не так уж легко он сближался с людьми. Человек Бунин был сложный и в какой-то мере трудный, но, конечно, по калибру своему он совсем не нуждается в слащавых «агиографических» воспоминаниях о нем. Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным,талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим несомненно безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь.
Первая встреча наша произошла не то в 1934, не то в 1935 году. Жили мы тогда в Брюсселе. Русская колония, памятуя нашу, и особенно моего мужа, евразийскую молодость, и не считаясь с тем, что в 1932 году мой муж ушел из совета Евразийства (он предупредил П. Н. Савицкого, что, по его сведениям, Н. Клепинина-Сеземан, Н. Клепинин, члены совета Е. А., так же как А. Перфильев и В. Яновский находятся на агентурной службе СССР) — относилась к нам враждебно. Был в Брюсселе «Русский Клуб», выражавший настроения большинства русской колонии, и члены его предавались вполне безобидным развлечениям толщи эмиграции — играли в карты, устраивали балы, попивали водочку под отечественные закуски и патриотические тосты. Членами Клуба мы, конечно, не были, работы у нас было много, да и захоти мы, нас бы наверное забаллотировали. Я начинала писать на французском языке в бельгийских газетах и журналах, и когда Бунин получил Нобелевскую премию, дала о нем статью в « Indépendance Belge».
И вот, совершенно неожиданно, приходит нам письмо от правления Клуба — не угодно ли нам присутствовать на банкете в честь русского нобелевского лауреата. Удивлению нашему не было границ. Но мне так хотелось видеть Бунина, что я уговорила мужа не отказываться.
На банкете новое удивление: посадили меня, несмотря на мою молодость, рядом с Иваном Алексеевичем. Позднее узнала от одного из участников банкета о причине нашего приглашения. Устроители никогда Бунина не читали, не знали его книг (хотя по возрасту своему могли бы прочесть кое-что еще в России) и боясь, что вдруг писатель заговорит о своих произведениях, озаботились приглашением лиц, могущих дать ему реплику.
Опасения были напрасны, Бунин, который все прекрасно понимал, о литературе в Русском Клубе говорить не собирался.
Не могу сказать, чтобы мой знаменитый сосед мне очень понравился. В таких случаях Бунин особой ласковостью не отличался. Хотя, как я сказала, чествования любил, но считал, что всюду надо соблюдать свое достоинство, и выражал он это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности». Все же какие-то отношения установились и Иван Алексеевич начал присылать мне свои книги с надписями и для отзыва, а иногда и письма, всегда по поводу его дел. Одно из них, третье приводимое, без даты (но знаю, что это было в 1936 году), относится к такому инциденту: Бунин возвращался из Праги, и вот гитлеровские таможенники подвергли лауреата самому унизительному осмотру, раздели его догола. Иван Алексеевич был в самом неистовом негодовании, на которое был способен. А заметку о злодеянии я поместила сразу же в «Soir».
Случайно найденное письмо мне от Михайлова напомнило, что зимой 1935 года, по просьбе Михаила Туровца, который устраивал приезд в Брюссель Бунина, я смогла познакомить И. А. с бельгийскими писателями. От лекции на французском языке И. А., по моему совету, отказался, сказал несколько слов (не без сильного русского акцента) о встрече своей с Толстым. Михайлов настаивал на «трапезе», он и сам любил поесть и попить — но ни бельгийский Пен-Клуб, ни «Мэзон д'Ар» на это уговорить не удалось. Знакомые Бунина на прием, конечно, были приглашены. Состоялось собрание в помещении Пен'а, обильном зеркалами и позолотой, в стиле 90-х годов. Слово И. А. я тоже перевела; к несчастью, оно у меня не сохранилось.
Я и посейчас удивлена тем, что в 1925-26 годах, живя в Париже, я с Буниным не встречалась: вероятно, его там не было. Но после той первой встречи в Брюсселе каждый раз, что я приезжала в Париж, я Бунина частенько видала. Иногда он приходил ко мне в Пен-Клуб, где я останавливалась (на рю Пьер Шаррон 66. Там было несколько комнат для приезжих членов), потом мы выходили — в кафе, бары, рестораны. Не обладая поразительной памятью многих мемуаристов, я не могу восстановить в точности все наши встречи, ни все, что Бунин мне говорил; все же кое-что было записано, кое-что и запомнено.
Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал И. А. то, что он видел, то, что он слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк — и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль — с крепким черноземным словом.
Все в тех же 30-х годах как-то приехала я из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. Комната мне была задержана в гостинице Руаяль (уже не существующей), на бульваре Распай. Мы сели в такси и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих собратьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!» и отказался взять на чай.
В те же годы он пригласил меня обедать к Прюнье на ав. Виктор Гюго. Как всегда в непривычной для него обстановке, да и вообще на людях, входя, принял несколько подчеркнуто барский вид. Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много.
Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции, все же разночинной, Скитальца и Горького, И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадлежал по своему роду, и от которого был оторван. Б. К. Зайцев, в одной из своих статей, удивлялся, что дворянство уживалось в Бунине с простонародьем, но это не удивительно — помещикам «мужицкое» ближе «интеллигентского». Барство и род уважал он и в себе и в других, как что-то имеющее некую и нравственную ценность. Стоит прочесть его воспоминания, где, например, на стр. 159 пишет он о Семеновых и Буниных, или о встрече его с принцем Ольденбургским, да и страницы из «Жизни Арсеньева», чтобы убедиться в этой ностальгии. В. П. Семенов-Тянь-Шанский рассказал Бунину о Достоевском: «Лучше многих из них (из литераторов того времени) он знал русский народ, деревню... что, кстати сказать, не мешало ему чувствовать себя дворянином, каковым он и был в самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки». То же самое относится к Бунину, и вот эти излишние «барские замашки» он зачастую себе позволял, предполагая почему-то, что надменность или капризность — одна из них.
В ресторане, не успели подать ему первое блюдо, И. А., брезгливо поморщившись, потребовал, чтобы его заменили. Я не впервые присутствовала на такой комедии и сразу ему сказала: «Будете капризничать, я уйду, придется вам обедать в одиночестве, вы ведь это просто так!». И тут, совсем не рассердившись, Бунин заметил: «Ишь, какая строгая, нобелевского лауреата ругаете» и сразу, развеселившись, принялся за еду.
Дальше было хуже, я позволила себе напасть на обожаемого им «самого Толстого».
— Гениальный писатель, когда он не думает, гениальный, конечно, но, боюсь, не очень умный человек, — сказала я. Отодвинув тарелку, Бунин сурово взглянул на меня:
— На кого лапу изволите поднимать, на самого великого писателя. Н-да! Ну, а что дальше скажете по его поводу?
— «Как только перестает он писать то, что видит и чувствует, и начинает философствовать, куда-то девается его художественное чутье. Вот вы гораздо умнее его.
Бунин махнул рукой: «Тоже скажете», а потом, с любопытством:
— В чем это вы изволили заметить?
— Да вот хотя бы в том, что вы за учителя жизни себя не выставляете.
— Да, это правда, учить я никого не хочу. А еще что?
— А еще вот, что вы всякую свою мысль подчиняете всегда художественному чутью. Вот, скажем, если бы вы были против церковных обрядов, не верили бы в церковные таинства, то вы все же никогда бы не написали тех кощунственных слов, которые написал ваш Толстой, и которые более присущи какому-нибудь Демьяну Бедному, чем великому писателю.
— Не написал бы, — твердо сказал Бунин.
Если перед Толстым, как писателем, Бунин преклонялся, то просто как личность, а не только как писателя, Бунин любил, пожалуй, одного Чехова. Чехов, по его рассказам, принимал, вероятно, настоящий свой облик — совсем не тоскующего интеллигента, а деловитого, веселого и, главное, очень доброго человека.
Смолоду бранили меня все поклонники Чехова за то, что я не любила его театра, но вот, неожиданно, нашла я поддержку у Ивана Алексеевича.
— А почему не нравится? — спросил Бунин.
— Да просто потому, что по ранним детским воспоминаниям о помещичьей жизни, не верю я в существование Раневской, с пафосом декламирующей свою любовь к старому шкапу.
— Так, так! И еще: какой же купец будет рубить с такой поспешностью вишневый сад, да еще в цвету? Небось сперва соберет урожай и продаст его, — заметил Бунин. — А какой рассказ вы больше всего любите?»
— «Степь».
— Умница! И «Архиерей», и «Палата № 6», и «Черный монах». Все это замечательно.
Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыванье», типично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез принимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, доверчивые и не очень искушенные русские молодые женщины, к тому же польщенные вниманием знаменитости (иностранных увлечений у него как будто не было). У нас установились самые простые, очень добрые отношения. Бунин со мною по-видимому не скучал, а я не могла скучать, слушая его. И поэтому, когда однажды мы сидели в баре Мариньян, неподалеку от Елисейских Полей, и Бунин, только что говоривший о чем-то совсем постороннем, вдруг ошарашил меня: «А вы были когда-нибудь в Венеции? Нет? Ну вот поехали бы со мною туда, увидали бы как там прелестно — лагуны, гондолы...» я от неожиданности рассмеялась: «Ну что вы, что вы! Может, там и прелестно, я пока там еще не была, но уж если ехать в романтическое путешествие, то надо быть влюбленным — а для этого годится скорее не так нобелевский лауреат, как молодой человек». Это, конечно, было очень неучтиво с моей стороны, и любой мужчина средних лет на меня бы навсегда обиделся, но Бунин, лишь притворно нахмурившись и так же притворно вздохнув, веско заметил: «Зато я знаменитый писатель — а вы вот как изволите со мной обращаться» и сразу перешел на другую тему. Предполагаю, что про себя почувствовал облегчение: и репутация была поддержана, и никаких осложнений не последовало.
Эпизод этот нисколько не повлиял на наши отношения, разве что еще улучшил их.
Говорили мы в тот вечер, как часто случалось, о русских парижских писателях. Как и другим писателям его поколения, Бунину не нравился ни один из «молодых». И правда, племя молодое не собиралось стать учениками, продолжателями или подражателями никого из писателей старшего поколения, что им казалось обидным.
— А Сирин? — спросила я.
— Этот-то? Чудовище! Но настоящий писатель, — сразу отозвался Бунин. Я написала об этом отзыве Сирину, и когда на юге он встретился с Буниным, Сирин сообщил мне, что он «Лексеевичу нобелевскому» припомнил это «чудовище».
Помню прогулку по Елисейским Полям. Шли какие-то очередные выборы. Над зданием «Фигаро» мелькали световые результаты голосования, били фонтаны по светящимся голубкам Лалика. На тротуарах густая толпа. Перед нами парочка. Чужая молодость угнетала И. А. С ненавистью глядя на молодого, атлетического типа человека, обнимавшего свою девушку, Бунин проворчал:
— Вот ведь сукин сын, бедрами так и вертит, что с девушкой-то выделывать будет ночью.
— Право, Иван Алексеевич, что вам ему завидовать, у вас перед ним такое преимущество — талант. Ну, согласились бы вы вернуть себе молодость, перестав быть писателем?»
— Это уже глупо — сказал И. А. с возмущением. — Я не могу отказаться от себя самого.
Мы пошли дальше, в Елисейские Сады, где играл мальчиком Пруст. Над деревьями всходила луна и, не смешиваясь с отблесками фонарей, белила небо. Бунин остановился.
— Да, вот и луна. Молодые писатели все говорят — о чем писать? Обо всем, мол, уже давно написано. Не знают, дурачье, что вот о луне ничего еще никогда не было написано, — и задумчивое, чуть грустное лицо моего спутника отразило самое детское восхищение луной, о которой он сам писал немало. — И о любви, и о смерти никогда ничего еще не было написано, — прибавил он с твердой уверенностью.
Меня как-то трогало и поражало, что такой умный человек, как Бунин, был чрезвычайно уязвим и страдал от давних, и все еще не изжитых, комплексов. Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Небелевскую премию, гордость эмиграции — до признанья внутри СССР он не дожил — даже дальнее прошлое Бунин тяжело переживал. И. А. не принадлежал к людям, у которых душа нараспашку, и вряд ли был человек, которому он до конца раскрылся. По его собственному, данному и мне, завету «надо всегда перед собою свечу держать», конечно, он и мне не исповедывался. Но говорил со мною прямо и откровенно. А так как я была к нему внимательна, то кое-что, вероятно, все же поняла и из недосказанного.
Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования... Самое же главное, и неизлечимое, была рана, нанесенная ему судьбою, историей, революцией: изгнанье. Типично русский человек в своем неистовстве, вне России — несмотря на все свои скитанья, вольные и невольные — себя не мыслящий, писавший для русского народа, Бунин был оторван и от России, и от читателей, для которых писал. Он ненавидел коммунизм за его хамскую тупоголовость, за разрушение прошлого, без которого нет и будущего, за погашенье духа и творчества, за убийство России, потому что без преемственности нет и культуры — а цепь культуры была прервана насилием и, может быть, навсегда...
Беспокойный был человек Иван Алексеевич и о смерти думал много и тяжело. В 1941 году записывал в дневнике: «Лежал в страхе, что могу умереть» [Вес выписки из дневника взяты из «Нового Журнала», Нью-Йорк — где отрывки дневника печатались Милицей Грин.]. Он хотел бы жить в сиянии пантеистической вселенной, в ярких видениях дня, в преизбытке чувств, но вот эта пресловутая «русская душа» — заграницей довольно нам надоевшая из-за бездарного ее использования бездарными иностранными, да и русскими писателями и журналистами — не давала ему покоя. Слишком он был одаренным человеком, чтобы быть «веселым безбожником» (Сирин). Было у него и проникновение, и озарение другого мира, как свидетельствуют многие его страницы, но, вероятно, Бунин боялся покинуть земное для духовного, отказаться от чувственной радости, питавшей его искусство.
Много раз говорилось и писалось, что Достоевского Бунин не любил. Но я никогда не слыхала его ругающим Достоевского. Морщился, но не бранился. Сама я, хоть и сознавая, что персонажи Достоевского — больше души человеческие, чем люди, перебарывала в себе их русские одеянья, их исступленность, истеричность поступков и речи, оголение нутра перед другими почти садистское, стараясь завоевать для себя некую трезвенность ума, дисциплину эмоций, короче говоря, признавая, что следует иметь горячее сердце, но холодный ум.
— Вы заметили, Иван Алексеевич, что все герои Достоевского — праздные люди? — спросила как-то я. Ни праздность, ни неистовство их Бунина не волновали. Он ведь и сам впадал в неистовство — пример тому «Окаянные дни». Но Достоевский ставил вопросы, которые не то что были чужды Бунину, но как-то его пугали. Да и писательский «почерк» Достоевского, в понятии Бунина — небрежный, не мог нравиться мастеру художественной прозы. И еще: Бунин, как и Толстой, был человеком деревни, природы — талого снега, антоновских яблок, запахов вспаханной земли. А Достоевский — человек города, камня, тусклых фонарей, трущоб. Все же Вера Николаевна мне говорила, что за два года до смерти И. А. снова читал Достоевского.
Война 1939 года оторвала меня от литературы. Я никогда не чувствовала права писателей на «башню из слоновой кости» или на плот искусства, спасающий их во время всеобщего потопа. Мне казалось, и кажется, что в событиях следует быть не только свидетелем, но и участником. А события были тогда немалые. Подготавливая мою «переброску» в Англию, где муж находился после Данкерка, и работал с одной из групп Резистанса, я из Парижа перебралась в феврале 41-го года в Экс-ан-Прованс. До Грасс было рукой подать, но я не поехала — были другие занятия.
О разных периодах жизни Буниных на юге Франции я смогла составить себе представление уже позже — по рассказам людей, там бывавших, по некоторым замечаниям Веры Николаевны и Зурова, по благородному по своей скромности грасскому дневнику Галины Кузнецовой, с которой я к сожалению ни разу не встретилась; да еще по отрывкам из дневника И. А., печатавшимся в Новом Журнале Милицей Грин, душеприказчицей Зурова (хотя писательские дневники чаще всего о многом умалчивают).
По всем этим свидетельствам видно, что не рай был в Грассе, а некий замкнутый и драматический мирок. Роль грасских событий не была изжита Буниным, Верой Николаевной и Зуровым еще и тогда, когда муж и я, в 1948 году, встретились с ними снова в Париже. Об этом грасском периоде не принято сейчас писать. Но время идет и настанет день, когда из тех, кто знал Бунина, в живых никого не останется — а этот период все же сильно отразился на всех трех обитателях ул. Оффенбах.
Так, издали кажется чем-то противоестественным — это вне личных взаимоотношений тех, кто жил на вилле Жанет — существование некоего писательского общежития. Профессиональные союзы и организации для защиты писательских прав — дело одно: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские коммуны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три писателя, под взглядами мемуаристов — среди которых первая Вера Николаевна — были связаны не только личной жизнью, но и профессиональной. Если принять во внимание, что все писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная — то их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность, неизвестные, скажем, в летних лагерях отпускников, думающих только о солнце и о купании.
А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически отразились на Леониде Зурове. После первого удовлетворения, — обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его стопам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во-первых, опять-таки, по виду здоровая молодость Зурова его раздражала. А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему невероятного напряжения), мучился не только творческим бессилием, но и своим положением — уже не любимого ученика и приемного сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны, в некоторых случаях проявлявшей исключительное упорство. Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причины душевного неравновесия, не выдержал — и последствия травмы были и для него и для Веры Николаевны драматичны до конца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди хорошие, и поэтому-то все и мучились, каждый по-своему.
- - -
Как будто с 1939 года по 1948 прошло не так уж много времени — нам оно показалось молниеносным из-за множества событий — но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем. Он рассказал нам о своем посещении советского посла — кто тогда не надеялся, что победа принесет и перемену в России? — но категорически заявил, что в СССР он не вернется, «там мне делать нечего». А для него выбор между бедностью и смертью на чужбине — и обеспеченностью и славой на родине должен был быть тяжел. Все та же оставалась в ослабевшем теле непоколебимость совести.
Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста.
Вера Николаевна тоже, конечно, постарела, но оставалась все такой же «ясной». Хорошей домоправительницей она никогда не была, да и авторитетным характером не отличалась, хотя было в ней упорство. Изменился и Зуров. Несмотря на обычное для него видимое спокойствие и медлительность, глаза его были странно встревожены. И, как будто чувствуя теперь ответственность, данную ей Богом, за две близкие ей, и теперь всецело зависящие от нее, души, Вера Николаевна особенно приободрилась.
Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой доли практичности, денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам видимо позаботились больше о себе, чем о них. Все письма Бунина в эту эпоху вопиют о бедности и нужде, об обмане издателей, о нерадивых адвокатах. Впрочем, уже в 1936 году запись в дневнике Бунина от 10/5 такова:
«Да, что я наделал за эти два года... Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость. Выход в тираж».
В те годы, когда не уплыли еще необъяснимым способом деньги Нобелевской премии, Бунин имел репутацию скуповатого человека — я сказала бы скорее, что у него были попытки к бережливости, все из того же страха оказаться снова нищим. Все же немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча новых почитателей, появились и опекуны. В денежных делах Бунины были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны. Как-то, вопреки своей воле, И. А. в ту пору, в 30-х годах, деньги все-таки тратил: одной из молодых писательниц вставил зубы, другой купил платье, еще кого-то чем-то одарил за то, что поплясали перед ним — и дом Буниных остался пустодомом. Так внезапно после эмигрантской нищеты разбогатевший, Бунин из круга эмиграции не вышел, новых связей не завязал и на Западе читателей не обрел.
Что книги Бунина на иностранных языках продавались плохо — это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям, проза в чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами.
В 1949 году вышел мой первый роман по-французски «Европа и Валериус», который получил премию Парижа и благоприятные отзывы критиков. По этому случаю я возобновила заброшенные связи с французскими литераторами и, кажется, это вечная попечительница русских зарубежных писателей, Софья Прегель, надоумила меня обратиться во французский Пен-Клуб и через его посредство собрать немного денег для Буниных.
Председателем в то время был, после Жюля Ромэна, насколько мне помнится, Жан Шлюмберже, уже старый человек, а генеральным секретарем все тот же милейший и отзывчивый Анри Мембре. Если я к русским судьбам и их превратностям привыкла (мы сами с мужем уже хорошо знали русские горки «то на коне, то под конем»), то Анри Мембре русское чудо — бедность писателя, получившего Нобелевскую премию — так изумило, что он мне с трудом поверил. Поверя, принялся за сбор. Надо сказать, что многие писатели откликнулись на призыв, в том числе и Мориак. Собрано, кажется, было около 30 000 старых франков, сумма тогда немалая. Сам Мембре понес ее Буниным.
Потом мне рассказывал: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал — ведь на такое количество людей денег этих хватит не надолго, а второй раз собирать нельзя». И правда — это была капля в океане нужды.
Но и в старости, в болезни и нужде, Иван Алексеевич писал все с той же строгостью к себе, и с такой же тщательностью. Совсем несправедливо было принято — не говорить о Бунине как о поэте. У него есть прекрасные стихи, нисколько не уступающие по своей художественности и талантливости его прозе. Явно к Парижской «школе» он не принадлежал, и все же был, хоть и старшим, но ее современником — так, между новым поколением поэтов и Буниным не было того промежутка времени, который делал им близким, скажем, Тютчева или Фета. Бунин свое неприятие как поэта переживал болезненно. Знаю это хотя бы по тому, с какой радостью и благодарностью он на меня смотрел, когда я что-либо цитировала из одного или другого его стихотворения «И тихо как вода в сосуде стояла жизнь ее во сне» или «Но миг один — и в темноту, в забвенье / Уже текут алмазы крупных слез / И медленно их тихое паденье». Торжественность и простота, не только настроение — которое главным образом и отмечали в своих стихах молодые поэты — но и мысль, и природа, уже почти забытая многими пленниками каменных городов.
Из уцелевших моих записей этих лет нашла две.
— Бунин о Жиде: «Вот переписываются два Нобелевских лауреата. Весь мир ждет-не дождется, когда все это будет опубликовано. А письма вот о чем. Жид мне: «От астмы дали мне очень хорошее средство, удушье по ночам почти исчезло», а Бунин ему: «От кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же касается гемороев, то их надо лечить так... «Вот тебе и слава!»
Другая запись от 27 апреля 1950 года.
— Бунина стрижет парикмахерша. Он сидит перед зеркалом: «Как же это так, мне неудобно, что перед вами. Вот и говорить не могу, такая астма». Вера Николаевна совсем измученная и с глушинкой. И. А. ее теребит: «Где моя пипка? Где мой платок?» Сердится: «Ах, ты всегда глупость скажешь, не говори глупостей». Приходит Зуров. И. А. сразу как-то угасает, сдерживается, чтобы не раздражаться. Зуров что-то бубнит спокойным тоном. Вера Николаевна говорит: «Ян мне такое диктует, такие вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того света мстить будут». И. А.: «Не могу переносить всех этих, которые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов... А потом в другую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта была — ухаживая, приглашал «посмотреть» как пытают в Чека».
Я: «Да ведь не выдержал же. Сам себя наказал».
— А что вы обо мне пишете?
Я писала статью к его 80-летию. Я что-то говорю о классиках и романтиках, о художественном реализме.
Бунин: «Так, так. Только чтобы не спутали с академичностью, классику-то!».
Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».
Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч».
— Да, правда, у вас что-то общее с Суворовым, а глаза острые, злые.
Бунин: «Ну вот, злые. Чем же я виноват, что кругом себя свиней вижу».
Я: «Это как у Гоголя, свиные рыла, только это же искушенье и наважденье».
Было за что Бунину на меня сердиться — а почему-то не сердился. Ведь, случалось, и за меньшее выходил из себя. Вероятно, прекрасно понимал, что откровенность моя была основана на большом уважении к нему и на сердечной привязанности, в которой, согласно моему характеру, отсутствовал «культ личности». И к мужу моему относился он также дружественно.
Впрочем, Иван Алексеевич был порядком недоволен мною за то, что я не восхищалась «Темными аллеями», появившимися в 1946 г., когда муж был в бельгийском посольстве, а я журналисткой летала по «темным аллеям» послевоенных лет; поэтому он сделал мне на этой книге объяснительную надпись (см. письма).
Трудно точно сказать, что мне не понравилось в «Темных аллеях». Порнографии нет в ней и помина, у Бунина эротика всегда трагическая. Смерть и в «Легком дыхании», одном из лучших бунинских рассказов, и «Солнечном Ударе», и в «Деле корнета Елагина». Любовь страшна, импульс страсти — импульс самоуничтожения. Как и все большие русские писатели, Бунин был целомудрен, о половых извращениях как-то даже как будто и не подозревал. Не было в нем ни сладострастного сюсюканья плохих писателей, ни незадумчивой веселости французских галантных авторов, ни полнокровной жизнерадостности Рабле, ни извращенности современников.
Но вот в «Аллеях» все же привкус натурализма, какой-то, что ли, провинциальности. Да к тому же, русский язык таков, что в делах любви больше ему подходят намеки, многоточия, умолчания. Что-то выговаривала я ему и по поводу «воспоминаний».
«Повезло вам, И. А., что они ответить не могут». И на то тоже ответил он надписью, приведенной в начале этих воспоминаний.
Перед нашим отъездом в Марокко, в конце 50-го года, мы несколько месяцев жили в Пасси, совсем уже в близком соседстве с Буниными, и видались часто. Бунин полеживал у себя в спальне, к нам выходил шаркающими, плохо отрывающимися от пола ногами, с тюбетейкой на голове, и старательно молодцеватым голосом спрашивал: «Небось противно на меня смотреть?» и тонкое, породистое его лицо оживлялось и молодело.
Народу у Буниных бывало много. Напротив жили его друзья, Нилусы, вдова и дочь художника. Приходили бывшие молодые писатели, любимица его Олечка. Приходили и люди, стоящие далеко от литературы. Вера Николаевна хлопотала, ей помогали, откупоривались бутылки с вином, появлялись печенья, иногда и бутерброды, собирались какие-то остатки пищи и все разговаривали о том и о сем. И. А., устав, удалялся в спальню, но гости не уходили. Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной лист — на помощь кому-нибудь, на издание книги, на продолжение учения, а то и просто на оплату кому-то квартиры. Явное неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положение всегда катастрофично, но ни личные, ни денежные трудности не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны. Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходимости удвояло ее силы.
Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван Николаевич, и Зуров чувствовали больше всего раздражения. Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце 40-х годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоящего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу, разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все переносящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.
Как-то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого выпада И. А. — я с ними была одна — и встав сказала: «Не могу я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе». Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси. Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаевна сказала: «Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все не может забыть, как его семья какую-то зиму пробавлялась только яблоками — и болезни боится, и смерти, а я ничего не боюсь». И правда, в слабости своей Вера Николаевна обладала духовной силой, помогающей ей даже и не замечать того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жалуясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Николаевна говорила то и проблемах Зурова, то объясняла Ивана Алексеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них умалчивая) кое-кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А. «уведут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попросят дать им на прочтенье письма Жида или Мориака и забудут эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала, нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать-то будет нечего.
О грасских днях говорила мало, все больше намеками, и опять-таки злобы ни на кого не затаила. Вообще, удивительная была она женщина — и если вдуматься, то она была права, Иван Алексеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на то, что казалась бесцветной и затушеванной. «Напрасно, Зиночка, вы за меня волнуетесь».
Вера Николаевна была права. В неверном опасном мире, единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены. Вероятно, после смерти его Вера Николаевна смогла прочесть скупые, редкие, но такие всеобъясняющие записи, как те, которые привела Милица Грин, публикуя выдержки из дневника И. А. в «Новом Журнале».
От 15. 7. 35
«Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире».
От 25. 5. 42
«Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез».
Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она была все же необычайным человеком, и замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыбалась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ивана Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу скользило совершенно чудесное и неубедительное кокетливое выражение.
Жалости к себе она никогда не чувствовала. И из одного служенья Бунину сразу приняла на себя и больного Зурова, несмотря на опасность, с этим связанную. Для Зурова посмела ослушаться Бунина — продала после его смерти часть его архивов в СССР, чтобы после ее смерти хоть какая-то ничтожная пенсия обеспечивала бы жизнь «Лени».
Последний выход Ивана Алексеевича был в Пен-Клуб. Кажется, по почину Водова, тогда одного из редакторов «Р. М.», меня попросили устроить в Пен-Клубе, иностранным членом которого Бунин состоял, торжественное собрание по случаю его 80-летия. Оно состоялось 30 июня 1950 года.
Приглашений разослали много. Председателем Пен'а был тогда уже Андре Шамсон, бывший в Резистансе «полковником Берже». Присутствовали французские писатели и русские друзья Буниных. И. А. сидел в первом ряду, торжественный и подтянутый. К сожалению, после переезда Пен-Клуба в новое помещение, а также из-за разных событий, в нем произошедших (смена правления и секретарш), мне не смогли отыскать бюллетень, в котором подробно описывалось это последнее (при его жизни) Бунинское торжество. Я, помнится, прочла несколько слов о Бунине, а затем мой перевод о его первой встрече с Толстым. Андре Шамсон мне потом сказал, что он навсегда запомнил то, что Толстой сказал молодому Бунину о счастье. Самолюбивый же Бунин, хотя много читал по-французски и изъяснялся довольно свободно, от благодарственной речи отказался, и только, встав, с непередаваемым достоинством три раза сказал: «Мерси! Мерси! Мерси!».
Незадолго до нашего отъезда из Парижа я зашла к В. Н. попрощаться. Она была одна. Иван Алексеевич лежал тогда в католической клинике на ул. Удино (на той самой, на которой советские агенты похитили Кутепова). Вера Николаевна настойчиво просила меня поехать с ней его навестить. Я отнекивалась, догадываясь, что И. А. будет скорее неприятен мой приход. В. Н. настаивала. Может быть, не отдавая себе в этом отчета, она хотела мне показать Бунина в его слабости. И. А. лежал один в комнате, после операции простата. Как я и ожидала, увидев меня, он пришел прямо в панику: «Ах зачем, ах зачем, что на меня смотреть? Ведь противно на старика смотреть! Хорошо еще, что меня только что брат побрил» (клиника обслуживалась монахами). Стыдливо прикрывая худую шею, затем окутывая ее шарфиком, он, несколько приосанясь на подушках, скоро забыл о своем «унижении» и бодро заговорил о постороннем.
Мы были в Северной Африке в год смерти Бунина и не присутствовали на его похоронах. Когда мы вернулись, В. Н. очень просто и безо всякой жалости к себе, нам рассказала о его последних минутах — все же умер он на ее руках.
После смерти Бунина, в мое отсутствие из Парижа, в Пен-Клубе состоялось собрание, посвященное его памяти (февраль 1954 года). На нем прочли и присланный мною текст. Перед этим, в театре Вье Коломбье состоялся артистический Вечер, устроенный небезызвестным в те времена антрепренером Рогнедовым, возглавлявшим Комитет чествования памяти Бунина. В «Нувелль Литтерер» появилась моя статья «Иван Бунин, Нобель и свобода».
И в прочтенном моем тексте, и в моей статье в «Н. Л.» я упомянула о том, что и в русской дореволюционной, и в нашей эмигрантской литературе, Бунин стоял особняком. Современник и Толстого и Набокова, он всю жизнь оставался вне всяких течений и создал свою, особую, бунинскую «рапсодию». Массового читателя у него здесь не могло быть. После премии все его хвалили и им гордились, но читали его не так уж много. Иностранцам же остался, после первых недель нобелевской славы, неизвестным. В Россию-СССР он пробился только посмертно — вначале под строгой цензурой, за которую я упрекала Паустовского, когда он был в Париже — но ведь он был не виноват... Зато, как только открылся к нему доступ, Бунина полюбили на его родине. В 60-х годах я вела в русской секции ОРТФ культурные передачи. И на ту, в которой я говорила о Бунине, было множество откликов советских слушателей. Называли они меня, знавшую писателей старшего поколения, «живой связью времен». Один из них, рабочий, прислал нам в ОРТФ семена русских цветов, прося их вырастить, и когда расцветут — отнести на могилу Бунина (что и было сделано).
Выше всего ценил в себе Бунин свое призвание писателя. Как-то с усмешкой и гордостью он обратил мое внимание на то, что несет на себе «стигматы» писательства: правое плечо несколько выше левого, второй и средний палец правой руки деформированы пером... Таланта своего в землю Бунин не зарыл и со словом обращался честно.
- - -
3-го апреля 1961 года, узнав о кончине Веры Николаевны, я пришла на первую панихиду. На этой панихиде царствовала не скорбь, а какое-то особое, светлое чувство, как будто мы провожали очень хорошего человека, который наконец возвращался к себе — домой.
Если перечтем мы бунинский рассказ «Бернар», написанный им в 1930 г. на юге Франции и посвященный только что скончавшемуся французскому матросу, с которым Мопассан выходил в море на «Бель Ами», то увидим мы то, что так восхищенно ценил И. А. во всех людях и что уважал в самом себе. Умирая, Бернар сказал: «Думаю, что я был неплохой моряк».
«А что хотел он выразить этими словами», — пишет Бунин. «Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет, но то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю... Бернар это знал и чувствовал, он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же было ему не сказать того, что он сказал в последнюю минуту своей службы? «Ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был неплохой моряк»... Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право в некий час сказать так, как сказал, умирая, Бернар».
Вот что написал Бунин о Бернаре. И сам он всю жизнь, по завету Гоголя, обращавшийся со словом честно, не написавший ни одной строчки в угоду людям или из-за соображений выгоды, мог сказать, умирая: «Мне кажется, я был неплохой писатель».
Напечатано, без писем,
в «Континенте» № 3, 1975 г.
ПИСЬМА БУНИНА
В моем архиве имеется 19 писем Ивана Алексеевича Бунина, собственноручный его список его книг на голландском языке и его возмущенные примечания на полях перепечатанной статьи о нем из Советской Энциклопедии.
Просьба Бунина не печатать его писем не может обязывать адресатов. Всякое полученное письмо делается собственностью лица, его получившего; как и дневники писателя, они — часть литературного его наследства. Вероятно, помня, как часто он писал в состоянии запальчивости и раздражения, что частенько выливалось в формы нецензурные, Бунин и просил их гласности не предавать. Дело такта адресатов выбрать из ими полученных те, которые пригодны для печати. Я публикую мои, так как они показывают очень красноречиво, как трудно жилось первому русскому лауреату Нобелевской премии.
- - -
Вторник
Милая Зинаида Алексеевна
К сожалению, завтра не увидимся: завтра уезжаю — или утром или в 7 вечера. До свиданья, всего доброго и всяческих успехов!
Ив. Бунин
- - -
2/4-36
Дорогая Зинаида Алексеевна
Получил Ваше письмецо. Я на Пасхе или тотчас после Пасхи тоже надеюсь быть в Париже (1, rue Jacques Offenbach. Тел. AUT. 17-88). Если встретимся, буду очень рад. Позвоните.
Ив. Бунин
- - -
Дорогая Зинаида Алексеевна
Окажите услугу: устройте как можно скорее перевод [Заметку об унизительном обыске, которому Бунин был подвергнут германскими таможенниками.] этой истории в « Le Soir » (или куда-нибудь).
Привет Вам и супругу.
Ваш Ив. Бунин
- - -
10/4-38
Очень благодарю, дорогая Зинаида Алексеевна, за « Soir». Русский текст «Жизни А.» распорядился выслать Вам — 1-ый том только, ибо второго (начало которого есть в « Ellе ») по-русски еще нет в отд. издании.
Целую Вашу руку, кланяйтесь Вашему мужу.
Ваш Ив. Бунин
- - -
25/6-39
Милое Ваше Сиятельство
Оч. благодарю за «Enfance» [Моя книга, выпущенная в Париже летом 1939 г.], кланяюсь Вам и супругу (как его роман?) [Муж писал тогда роман «Мнимые числа».] Я теперь в Грассе Villa Belvédère, Grasse, А. М.
Ваш Ив. Бунин
- - -
(После войны, дата не установлена)
Воскресенье.
Дорогая Зинаида Алексеевна
очень нужно повидаться. Будьте добры навестить меня возможно поскорее (от 4 часов дня).
Ваш Ив. Бунин
- - -
15 Апр. 1948
Дорогая Зинаида Алексеевна, очень благодарю за все Ваши заботы обо мне! Насчет письма к этому Henri...? [Henri Membré, ген. секретарь фр. Пен-Клуба.] ни фамилии ни адреса которого не могу разобрать, решаюсь беспокоить Вас просьбой вложить это письмо (здесь прилагаемое) в конверт, надписать на нем имя и фамилию и адрес адресата и бросить в ящик на прогулке (надеюсь, что дойдет и не заказное). Вошел ли я в члены французского PEN-Club'a и когда, не помню.
С Галлимаром поступите, как найдете лучше. Верно, что издательство (действительно, очень скупое) уже может дать теперь ответ, берет оно «Темн. А..» или нет — и на каких условиях. Что за издательство Соrré [Изд. Соrrеа.] (?), не знаю. Копии французск. перевода «Аллей» у меня, к сожалению, нет. В Англии и в Америке «Аллеи» выйдут, вероятно, не раньше осени.
Сердечно целую Вашу руку, дорогой друг.
Вашего Сиятельства
При всех обстоятельствах
покорный слуга Ив. Бунин.
Как только приедем в Париж (билеты уже взяты — на 23 апреля), тотчас позвоню Вам.
Надеюсь, что получили «Летописные Заметки» со статьями Вашего братца и статьей Степуна обо мне? Послал заказной бандеролью.
- - -
1, rue Jacques Offenbach, Paris 16е
AUT. 33-22
9 июля 1948
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Вы уезжаете — и, конечно, надолго. Беспокоюсь: где злосчастная рукопись перевода моих «Темных Аллей»? У какого-нибудь издателя или у Вас? Думаю, что лучше было бы, если бы она возвратилась ко мне до лучших времен, и потому сделайте одолжение написать мне словечко, не могу ли я взять ее у Вас, если она у Вас, или у какого-нибудь издателя, если она не у Вас? Если да, то как это сделать?
Целую Вашу руку и прошу передать мой сердечнейший привет Вашему мужу.
Ваш Ив. Бунин
Если мне придется беспокоить Вас каким-нибудь вопросом в связи с моим голландским делом, то к Вам обратится от моего имени мой хороший знакомый, адвокат Евгений Адамович Фальковский (Е. Falkovsky, 7, rue de Musset, tél. AUT. 57-27), которому я поручил это дело — т. е., точнее сказать, сношение по этому делу с голландским адвокатом: сам я вполне идиот в подобных делах.
А куда именно Вы едете? Каков будет Ваш летний адрес?
- - -
(1949)
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Еще летом был у меня адвокат из Голландии, взявшийся вести мое дело с мошенниками-издателями голландскими, наговорил много слов, из коих следовало, что дело пошло отлично, а затем как в воду канул — до сих пор ни слуху ни духу о нем! А я никогда не мог прочесть ни его фамилии, ни города, где он живет. Помогите, дорогая, если можете! Вы его фамилию и город знаете, — Ваш милый, добрый муж во всяком случае знает, он мне диктовал письмо к этому адвокату еще прошлой весной, — так напишите ему пожалуйста, узнайте, что значит его молчание.
Целую Вас, кланяюсь супругу.
Ваш Ив. Бунин
- - -
29/3-1949
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Я уже давно нашел адрес моего голландского адвоката: —
G. С. A. Oskam
Roadyhur in Net
Bynacrodir Gerechtshof
Sonsbeckcory 26. Aruhem
и давно написал ему, спросил, почему нет от него ни слуху, ни духу уже больше полгода и что сталось с моим злосчастным делом, и не получил от него ни словечка в ответ. Что же мне делать? Где Святослав Святославович? Не будет ли он опять добр узнать что-нибудь в голландском посольстве в Париже? Кланяйтесь ему.
Простите, что беспокою, и позвольте поцеловать
Вас.
Ваш Ив. Бунин
- - -
Среда, 17 ноября
Дорогая Зинаида Алексеевна, простите пожалуйста, опять беспокою Вас: затерял Ваше письмо с адресом того, у кого перевод моих «Темных Аллей»! Ужасно боюсь, что рукопись эта пропадет, нужно взять ее у этого господина — сделайте одолжение, черкните словечко: где он и кто он и когда его можно видеть? И еще просьба: отчаявшись продать «Темные Аллеи», хочу предложить некоторые рассказы из этой книги, — напр. «Натали», «Чистый понедельник» — в какой-нибудь ежемесячный журнал, в revue: посоветуйте, в какой именно обратиться?
Целую Вашу руку, поклон Вашему мужу.
Ив. Бунин
- - -
Воскресенье.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Кланяюсь в ножки Вашего Сиятельства и покорнейше прошу сообщить: где Вы и где те книги (две), что я дал Вам для Бельгии? Если они у Вас, я буду спокойно ждать, когда представится случай взять их назад.
Вы говорили Вере Николаевне что-то вроде того, что я еще связан с издательством «Le Pavois» насчет издания моих «Темных Аллей»: это не так, «Le Pavois» дало мне письменное удостоверение, что я вполне свободен от контракта с ним — вообще от всего и в частности от издания у него этих несчастных «Аллей».
Сердечный привет Вашему мужу, которого я очень полюбил.
Ваш Ив. Бунин
- - -
6 мая
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Очень, очень тронут Вашей добротой ко мне, очень благодарю Вас! Прошу простить столь поздний ответ на Ваше письмо от 30 апр. — приехав, тотчас сильно простудился, лежал в постели. Пожалуйста передайте мою сердечную благодарность Вашему мужу за его разговор обо мне в голландск. посольстве и с Бр.-Парэном [Brice-Parrain — из изд. Галлимар.]. Рукопись перевода «Темных Аллей» взять у этого Парэна обещал мне Адамович. Как возьмет, тотчас Вас извещу.
Главное — очень хотелось бы повидаться с Вами, как приедете. Может быть, Вы уже приехали, вернулись? И может быть, будете добры позвонить мне по телефону нашей соседки, м-м Нилус — AUT. 33-32? Звонить можно до 12 (т. е. до полдня), а затем — после 2-х до 3-х и от 6 до 8 вечера.
Целую Вашу милую, энергичную руку.
Ваш Ив. Бунин.
От Пепчи-Тетьче (?) получил очень любезное письмо.
- - -
16 мая
Дорогая Зинаида Алексеевна, я получил французский перевод «Темных Аллей». Угодно ли Вам попытаться пристроить их где-нибудь? Если да, когда прикажете доставить Вам рукопись?
Позволяю себе ждать, что Вы известите меня запиской или по телефону (AUT. 33-32, у м-м Нилус) и целую Вашу руку.
Ваш Ив. Бунин
- - -
23 сент.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Так как уже ясно, что из Ваших добрых забот устроить мои злосчастные «Sombres Allées» у французов ничего не вышло, как бы мне получить обратно рукопись перевода их? Где эта рукопись? Если у какого-нибудь издателя, попросите его вернуть ее Вам, чтобы Вера Николаевна могла заехать к Вам за ней. Черкните словечко в ответ. Целую Вашу руку и шлю сердечный поклон Вашему мужу.
Ваш Ив. Бунин
- - -
22 июля 1949 г.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Я опять был очень болен — простите пожалуйста по этой причине, что не тотчас же поблагодарил Вас за Ваш подарок, за Ваш роман [Мой первый франц. роман «Europe et Valerius» («Европа и Валериус»), получивший в 1949 г. премию Парижа. ]. Прочел его с интересом и с удовольствием и надеюсь, что скоро будет следующий — с большим движением и действием.
Целую Вас и желаю успеха и всяческих благ. Поклон милому С. С.
Ваш Ив. Бунин
- - -
1, rue Jacques Offenbach
Paris 16е
6 авг. 49 г.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Сделайте одолжение, напишите мне, где Вы? Куда Вам писать? И до какого времени? И когда надеетесь вернуться в Париж? Не утруждайте себя — напишите только несколько слов, на открытке. Я хочу с Вами посоветоваться — только посоветоваться — насчет одного дела, письменно или устно.
Заранее благодарю Вас и целую Вашу руку. Сердечный поклон С. С.
Ваш Ив. Бунин
-
- -
«Maison Russe», villa Le Tournel
Juan-les-Pins, A. M.
(Записка)
3 мая 1950 г.
Как не вижу Шаховскую
Сам не свой хожу! Тоскую!
Ив. Бунин
Кланяюсь в ножки!
- - -
22 июня 1950 г.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
уж не помню твердо, что именно Вы говорили мне насчет собрания PEN-Club'a.
Кажется, оно будет 30 июня. Если да, то когда, т. е. в каком часу, и где?
И что будет на нем? И кто?
И можно ли мне пригласить туда некоторых своих друзей и знакомых?
Вообще хотелось бы поговорить с Вами — устно или письменно — по этому делу подробно. Будьте милостивы и ласковы как-нибудь снестись со мной.
Заранее благодарю и целую Вашу энергичную руку.
Передайте, пожалуйста, мой поклон Вашему мужу.
Ваш Ив. Бунин
Телефон (на всякий случай): AUT. 33-32 (у м-м Нилус) от 11 до 12 и от 4 до 7-8.
Приложение
67, rue de Passy, Paris 16е
tél. Auteuil 7143.
Ce Vendredi, le 8 Novembre 1935
Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,
Иван Алексеевич и я премного благодарны Вам за Ваши хлопоты. Как хорошо, что Вы так живо откликнулись на просьбу М. X. Туровца, и нашу общую.
Ив. Ал. просит меня передать Вам, что он благодарит Вас за внимание и принимает Ваше приглашение встретиться более интимно с писателями и поэтами по Вашему приглашению.
И я, и он вместе согласны с тем, что от лекции на франц. языке лучше совсем отказаться. Довольно, если И. А. на устроенной ему «встрече» скажет несколько более пространное слово с упоминаниями в нем о своих встречах с Толстым (25-летие со дня кончины). И 18, 19 числа равно подходят. Выберите дату сами. — Очень удачна идея совместного чествования — Pen Club La Maison d'Art. Применительно к нашим русским вкусам лучше — трапеза — завтрак или обед. Это предпочтительнее, чем более скудный «чай» или более официальный «раут». Не находите ли Вы, что в чествовании могли бы принять участие не только члены Pen Club'a или La Maison d'Art, но и другие лица, которые были бы согласны внести нужную плату. В частности я просил бы принять во внимание мое желание видеть на этом чествовании инициаторов и устроителей русской лекции, 3-4 личных знакомых Ив. Алекс. Но если бы мое желание встретило возражение, я не стал бы на нем настаивать.
Карточки: Ив. Ал. и Толстого (с автограф, на заглавн. странице «Круги чтения») я передал Mr. Gerard Dupierreux в тот же вечер, когда видел Вас. Он взял у меня Ваш адрес и телеф. и обещал вручить Вам и то и другое. Отберите их у него, пожалуйста, и используйте, но, ради Бога, без порчи. Вещи мои, и я ими очень дорожу. Вот Вам адрес Dupierreux: 2, Av. du Congo. 480524, или Редакции «Le Soir» 177750.
Конечно, было бы очень желательно, чтоб и о русской лекции — и вообще о его приезде в Брюссель были своевременно напечатаны заметки в распространенных среди русских бельгийск. газетах. Заметки о русской лекции в «Последи. Новост.» и «Возрождении» появятся в Воскресном номере (от 10. XI.).
Не откажетесь ли быть столь доброй и перевести на франц. язык (если понадобится) то небольшое Слово, что Ив. Ал. собирается сказать на встрече?
Возможно, что Ив. Ал. напишет статью о Толстом (вернее о встречах и впечатлениях) для «Le Soir» — Dupierreux хотел поместить ее 20-го (годовщина).
Еще раз большое Вам спасибо.
Приедем мы в субботу 16-го. Сообщу на днях (м. б. завтра) с каким именно поездом. М. б. было бы лучше, чтоб Вы сами выбрали применительно к обстоятельствам. Можно иметь в виду три поезда: I тот, что отходит из Парижа в 14 ч. 15, прибытие в Брюссель в 17 ч. 32, II — из Парижа в 18.00 — прибытие в Бр. в 21.10 и наконец отъезд в 20.00 — приезд в 23.17.
Сердечно желаю Вам и нам удачи в начатом нами деле.
С искренним и почтительным
приветом Вам
покорный слуга
Павел Михайлов
P.S. Пожалуйста, сноситесь почаще с Dupierreux, а его попросите поставить в известность о принятом решении Mr. Pierre Bautier. Laurens произвел на меня впечатление человека готового помочь делу.
ПМ.
- - -
Письмо это относится к приезду И. А. в Брюссель, где ему готовилась торжественная встреча.
П. Михаилов был одно время «фактотумом» Бунина. Человек образованный, прекрасно говорящий по-французски, предприимчивый, любитель хорошей еды и добрых вин. Чем он профессионально занимался — я не знаю. Вера Николаевна упрекала его за потворство слабостям Бунина.
Михаил X. Туровец — бывший доброволец, закончивший Лувенский университет, был в то время деятельным председателем Союза Русских Студентов.
Gerard Dupierreux — журналист газеты «Le Soir».
Надписи на книгах, мне подаренных
IX том собр. соч. Петрополис.
Милой Зинаиде Алексеевне
от Ив. Б.
18.XI. 35, Брюссель.
- - -
Храм Солнца. Петрополис. 1936
Дорогой Зинаиде Алексеевне
Ив. Б.
Вилла Бельведер, Грасс, А. М.
20. III. 36
- - -
Дорогая Зинаида Алексеевна, дайте, пожалуйста, об этой книжке заметку в «Soir».
Иван Бунин
3. III-38, Париж
«Elle» — Ed. Stock, Paris.
- - -
«Лика». Петрополис. Брюссель, 1937
Дорогая Зинаида Алексеевна, Вы сами писатель и потому хорошо знаете, как трудно без фальши и без пошлости надписать книгу или написать что-нибудь в альбом. Однажды некая княгиня Кочубей пристала ко мне со своим альбомом и я написал ей откровенно:
В Ваш альбом, шер princesse Кочубей,
Не придумаю что написать, хоть убей.
Но Вам надписываю с легкостью: чем больше узнаю Вас, тем больше люблю Вашу доброту, Ваш прелестный смех, чудесные искры в живых, умных глазах...
Целую Вашу энергичную талантливую руку — и остаюсь
Ваш верный друг
Иван Бунин
29. 3. 1950 г. Париж
- - -
«Темные Аллеи»
На левой странице:
«Декамерон» написан был во время чумы. «Темные Аллеи» в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожирать один другого.
Ив. Бунин.
Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца.
Ив. Бунин.
P.S. Впрочем, извините меня: я украл эту надпись — это Горький так надписал одну из своих книг актрисе Книппер-Чеховой.
29. 3. 1950 г. Париж
- - -
Избр. стихи. Париж 1929. Изд. Совр. Записки
Дорогая Зинаида Алексеевна,
я Вас обожаю.
Ив. Бунин.
7 марта 1950 г.
- - -
Воспоминания. Париж. Возрождение, 1950
Дорогая З. Ал., когда Ваше Сиятельство будете писать свои «Воспоминания» не браните нас, как я тут бранюсь.
Ив. Бунин.
27. X. 1950
- - -
Жизнь Арсеньева. Петрополис. 1935
Не думайте, милая Зинаида Алексеевна, что это один из портретов моей молодости: честное слово, я был такой всего лет 20 тому назад.
Ив. Бунин
29. III. 50
(И на фотографии была надпись: «не правда ли кокет»)
- - -
Митина любовь.
Дорогой Зике Шаховской
с любовью и дружески.
В. Бунина
24/11-58
- - -
Жизнь Бунина.
Милым нашим друзьям Малевским-Малевич на память о Бунине, которого они любили
сердечно В. Муромцева
Париж 25/Х-58
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ И. А. БУНИНА
Весьма прошу редакцию «Русских Новостей» дать место моему заявлению, что появившееся в некоторых французских газетах сообщение о моем отъезде в Россию лишено основания.
«Русские Новости» № 88
декабрь 1948 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





