ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

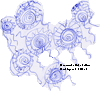

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Стрелкова Ирина 1987
Мельниковы появились в нашем доме, когда бывший особняк знаменитого до революции кондитера подрос на два новых этажа.
Перед тем старинный сад за нашим домом был превращен в лежбище разного строительного материала, и мы успели подрасти, гоняя в казаки-разбойники по развалам сосновых бревен и штабелям красного кирпича, балансируя на досках, переброшенных через ямы с кипящей известкой и вязким варом.
Наконец строители сняли леса. На изукрашенных лепниной старых стенах с гирляндами над полукружьями окон стояла примитивная коробка с двумя сплошными стеклянными полосами по фасаду.
Переулок поглядел на новую архитектуру и наградил наш дом прозвищем «пирог».
В новые этажи с отдельными небольшими квартирами въехали новые жильцы. Они тоже оказались совсем другими, чем коренное население нашего дома. Внизу, в коммунальных огромных квартирах, проживал всякий народ, как в Ноевом ковчеге. Наверху поселились исключительно заслуженные люди — артисты, военные, строители железных дорог. Даже одинокая суровая старуха с громадной немецкой овчаркой по кличке Туман была из другого, нового мира. Говорили, что Туман прежде служил на границе и что его хозяин погиб в схватке с бандой нарушителей. Пес, возможно, и в самом деле лютовал с тоски. Заслышав издали жуткий хрип сдавленного парфорсом Тумана, жильцы торопились убраться с его дороги. Считалось, что старуха — мать убитого пограничника, но точно никто не знал, она ни с кем в доме не разговаривала. Летом старуха с Туманом уезжали куда-то на дачу, и однажды они не вернулись.
Легенды о верхних жильцах отличались от прежних дворовых легенд потрясающей современностью.
До надстройки у нас во дворе ходили упорные слухи о кладе золотых монет, замурованном бывшим владельцем дома где-то в обширных глубоких подвалах. Редкий мальчишка не предпринимал попыток продырявить ломом стену в подвале или выложенный кирпичом пол. Кладоискатели оставили там немало пробоин, мечтая отдать золото МОПРу для помощи жертвам капитала.
Теперь двор был захвачен новой тайной. Возле наших ворот со старомосковскими каменными тумбами стал временами постаивать в ожидании кого-то голубой «линкольн» с летящей серебристой фигуркой на радиаторе, или подъезжал черный широкий «паккард», темно-синий «бьюик».
В никеле и лаке отражение искривлялось, как в зеркалах «комнаты смеха». Малышня, обступившая машину, корчила рожи и визжала от удовольствия, ребята постарше обсуждали мощность мотора и число поршней.
Несколько дней подряд какая-нибудь наркомовская, как тогда говорили, машина дежурила у наших ворот, потом наступал долгий перерыв. Это было связано с появлениями и исчезновениями жильца с четвертого этажа. Зимой он приезжал в кожаном реглане на меху, белых бурках выше колен, в барашковой ушанке. Летом — в широком габардиновом плаще и пестро-серой мятой кепке.
Прошел слух, что он строит железную дорогу к Сталиногорску. Наше воображение рисовало непроходимые леса, топкие болота, буйные реки. Одиночество нашего героя порождало разные догадки и усиливало романтический ореол. За чистую правду выдавались самые невероятные подробности гибели всей его семьи то ли в снегах Заполярья, то ли в песках Средней Азии, мешались в кучу басмачи в полосатых халатах и быстроногие олени с ветвистыми рогами, любопытство распалялось.
Но однажды во двор вышел новый мальчишка, и оказалось, что он живет в той самой квартире на четвертом этаже и приехал действительно из Сталиногорска.
Когда Андрей Мельников первый раз спустился во двор и остановился в выжидательной позиции, судьба вынесла туда же девчонку года на три его младше по имени Марсельеза. Это имя фанфарами гремело на весь двор, когда из окна второго этажа мать требовала свою Марсельезу на очередную расправу, вполне заслуженную.
Компания девчонок, прыгавших через веревочку на асфальте возле нового здания «Рабочей Москвы», только что выставила Марсельезу из игры за бессовестное жульничество при счете. Марсельеза уныло приплелась во двор, но, увидев новенького, тотчас утешилась. Какая добыча! По неписаным дворовым правилам новенького полагалось испытать всеми возможными средствами, какие только могло изобрести и накопить в памяти не одно юное поколение, утоляя свою природную любознательность.
Марсельеза бочком приблизилась к Андрею и широко раскрыла голубые, удивительно честные глаза, которым во дворе уже никто давно не верил:
— Загадку отгадаешь?
Он кивнул, и Марсельеза выпалила скороговорку:
— Тренька, Бренька и Щипай ехали на лодке, Тренька, Бренька утонули. Кто остался в лодке?
— Щипай! — брякнул Андрей. Он не ожидал подвоха от такой козявки.
Марсельеза взвыла от восторга:
— Обманули дурака на четыре кулака!
Андрей попался в глупейшую ловушку. На победный вопль Марсельезы сбежалась вся ребятня.
Зловредная Марсельеза еще долго примерялась, куда ущипнуть свою жертву, и советовалась с заинтересованной публикой. Андрей покорно ждал. Все по правилам. Проиграл — плати.
В те простые, почти былинные времена полагалось не зевать. И все ловушки можно было узнать только на собственном горьком опыте. Простенькая, для малышей игра мячиком об стенку — чем она кончалась? Победитель ставил побежденного к этой самой в круглых пятнышках стенке, отходил на десять честно отмеренных шагов и казнил тяжелым арапским мячиком. Как положено. А не нравится — не играй.
И это еще цветочки. Ягодки впереди. В казаках-разбойниках пленному устраивалась пытка. Следовало беспрекословно подставить руку. Тонкую, легко оттягивающуюся кожу на тыльной стороне кисти ухватывали специально для того отращиваемыми ногтями с черной каемкой и выкручивали, выкручивали сколько было сил.
Тут хоть умри, но стой как ни в чем не бывало, кривись гордой и презрительной усмешкой. И упаси тебя взмолиться о пощаде. Двор такой слабости не забывал. И вынося свои оценки, двор не применял нюансов и полутонов. Двор вполне обходился двумя красками и увесистой кистью, вроде малярной. Испытает новенького и решительно макнет всю кисть — либо в одну краску, либо в другую. Пеняй потом только на себя — это уж навечно, не отмыться и не перекраситься.
Андрея проверяли с особым пристрастием. Кто-то пустил слух, что в Сталиногорске, откуда он приехал, новичков спускают в шахту, вниз головой, а он будто бы там считался правой рукой атамана всей шпаны.
Но, после того как Андрей с честью перенес все испытания, оказалось, что человек он мягкий и застенчивый и даже Марсельезу за старое не отлупил — за Щипая и за брехню насчет правой руки атамана, пущенную не кем иным, как ею, ради собственного возвышения: вот кого не побоялась обдурить!
В квартире Мельниковых у Андрея была отдельная комната, маленькая, вроде закутка, но своя — редкость по тем временам. На самодельных полках стояли книги про путешественников, преимущественно полярных, про Амундсена, Нансена, капитана Воронина, Нобиле, Скотта. Первыми к Мельниковым попали ребята, собиравшие марки. Они рассказывали, что у Андрея есть очень редкие марки, бывшие царские, с надпечатками, сделанными после революции.
Старинный сад за нашим домом, освободившись от кирпича, бревен и заодно от вековых деревьев, превратился в первозданный пустырь. Андрей выносил туда прозрачные трепещущие авиамодели из бамбука и папиросной бумаги, с резиновым моторчиком и деревянным пропеллером, который выстругивался из дощечки очень долго — и еще дольше надо было его шлифовать осколком стекла и наждаком.
Потом он перестал запускать на пустыре похожие на стрекоз модели и занялся радиоприемниками. У него собирались ребята, и они там что-то конструировали. Андрей мечтал поехать радистом в полярную экспедицию.
Зимой, когда морозы заворачивали уж очень люто, он носил настоящие северные унты из рыжего собачьего меха. В унтах тогда ходили герои полярники и герои летчики. Любой другой мальчишка променял бы за унты — в придачу к валенкам! — и шубу с шапкой. Андрею эта потрясающая обувь досталась обыкновенно — отец привез, не найдя где-то там, куда он поехал после Сталиногорска, другой зимней обуви.
Унты вызывали на московских улицах любопытство, прохожие оборачивались, от их взглядов Андрей спотыкался. Он был редкостно застенчив — и мальчишкой и юношей. Чуть какая неловкость — вспыхивал до ушей.
Почему-то его застенчивость, или чувствительность, обладала притягательностью для совершенно незнакомых людей. Бывало, стоит наша компания, и кто-нибудь подойдет посторонний — непременно первый взгляд на Андрея.
Но сам Андрей с незнакомыми людьми и в незнакомом месте терялся, не умел себя проявить. Это можно, наверное, объяснить какими-то ранними и строгими наблюдениями за собой. Кажется, в Андрее подрастал большой талант, и ему это в юности очень мешало.
Есть дарования, рано себя заявляющие, и есть — зреющие долго, потому что они крупнее. Впрочем, в те годы никто не спешил взрослеть до срока, юность длилась и длилась. Наверное, никогда школы не готовились выпустить в жизнь таких юных — ни прежде, ни после, когда так много стали говорить об инфантилизме.
В стремлении продлить юность какую-то роль сыграл шумный и блестящий юбилей Пушкина, выпавший на 1937 год. Наша компания только что круто отошла от игр с казнями и пытками, и вдруг мы увидели себя — и девочки тоже — царскосельскими лицеистами. Серьезные книги, серьезные разговоры. Собирались, конечно, у Андрея.
Явившись домой с вокзала или с аэродрома, по обыкновению, неожиданно, Василий Михайлович всегда бывал рад застать у Андрея целую ораву.
В другой семье нас бы тотчас выпроводили. Отец с дороги, летел и ехал несколько дней, ему надо помыться, поесть, отдохнуть.
Впрочем, и не понадобилось бы выпроваживать. Сами бы тихо удалились.
У Мельниковых все наоборот. Еще не раздевшись, Василий Михайлович первым делом заглядывал к Андрею:
— Мир честной компании! Обождите, я сейчас, быстро...
Александра Петровна, мать Андрея, надевает фартук и идет на кухню, оттуда сразу же распространяются по всей квартире вкусные запахи. Василий Михайлович в ванной плещется и фыркает. У Андрея народу все прибавляется. Кто-то сам видел во дворе приехавшего Василия Михайловича, кому-то позвонили по телефону, за кем-то сбегали.
И вот он выходит из ванной — розовый от крепкого мытья, чисто выбритый, в белой накрахмаленной рубашке, в домашней верблюжьего цвета куртке.
Александра Петровна успела без суеты накрыть на стол. Льняная скатерть с тугими складками, тарелки и тарелочки, синие с золотом чашки.
Мать Андрея нас тогда мало интересовала. Она где-то служила, ходила с портфельчиком, как все служащие женщины, иногда приносила на дом какие-то бумаги, печатала на «Ундервуде». Ее нельзя было застать дома в халате и непричесанную. Всегда аккуратно одета, темная юбка, наглаженные блузки.
Мы уселись за столом. Василий Михайлович идет на кухню и выносит огромное блюдо с горой треугольных румяных пирожков. У Мельниковых эти пирожки назывались скородумными. Александра Петровна пекла их сказочно быстро. С капустой, с яблоками, с рисом, с вязигой — что нашлось в доме.
— Кто голодный? Налетай! — Василий Михайлович торжественно водружает блюдо с пирожками на середку стола.
И начинается праздничное чаепитие с разговорами — ныне совершенно забытый семейный обряд. На одном полюсе стола — Василий Михайлович, на другом — Александра Петровна, на экваторе — Андрей.
Василий Михайлович пил бессчетное количество стаканов крепчайшего чая в старинном серебряном подстаканнике. Мы знали, ему в самом деле интересно все про нас, и торопились выложить самые главные свои новости, самые умные мысли.
О дороге, которую он строил, писали в газетах, показывали кинохронику, гремели имена передовых бригадиров. Андрей и Александра Петровна многих оттуда помнили по тем временам, когда ездили вместе с Василием Михайловичем со стройки на стройку, и расспрашивали о каждом. Он рассказывал про тамошнее житье и что поделывают все Кольки и Петьки, ровесники Андрея.
Мы чувствовали, что где-то там существует совершенно новая жизнь и ее не заедают никакие мелочи быта, неистребимые в наших московских коммунальных квартирах. И своими юными, не успевшими ожесточиться лицейскими душами мы чуяли в тамошней жизни веселого с нами Василия Михайловича недоговоренную опасность.
Тогда полагалось строить на пределе человеческих сил, не щадя себя, чтобы иметь право не щадить и других. И все нехватки и промахи оставалось восполнять только энтузиазмом. Нехваток тогда было несравнимо больше, чем сейчас, а промахов, наверное, меньше — уж очень дорогой ценой люди за них расплачивались. Не инфарктами. О них тогда и помину не было.
В остальные дни недолгой побывки дома Василия Михайловича мы забегали к Андрею почаще и видели за тем же большим обеденным столом деловые совещания. Под оранжевым абажуром пластами стоял папиросный дым, шуршали чертежи на тонкой прозрачной кальке. Иной раз ухватишь момент, когда о чем-то окончательно договорились. Василий Михайлович кладет на стол карандаш — он любил толстые, синие, — с минуту молчит и хлопает ладонью по разложенным чертежам:
— Все. Решено. Живы будем — не помрем.
После этих слов всегда раздавался смех. Еще громче смеялись, если кто-нибудь опережал Василия Михайловича и говорил за него: «Живы будем — не помрем».
Александра Петровна приходила с работы пораньше, варила обед на всех собравшихся, садилась печатать на «Ундервуде» справки и докладные, которые должны быть завтра у наркома.
Гостям, засидевшимся за полночь, она стелила постели на диване в столовой и на стульях, составленных в два ряда. Во всех московских семьях не принято было укладывать гостя на полу. Непременно на стульях. Получалось ложе, огороженное с обеих сторон спинками, — так что гостю приходилось добираться до подушки ползком.
У Мельниковых и в отсутствие Василия Михайловича не переводились гости. Смотришь, опять тащатся на четвертый этаж какие-то люди с фанерными чемоданами. К ним ехали и с нынешней стройки Василия Михайловича, и с прежних. Друзья, или просто знакомые, или знакомые знакомых. Бывало, что появлялся вконец растерянный человек, позабывший — или вовсе не знавший — имя и фамилию того благодетеля, который где-то на перепутье сунул ему листок с московским адресом — на всякий случай.
Нравы с тех пор настолько переменились, что придется дать необходимые пояснения. До войны гости столицы не имели причин жаловаться на скупость и негостеприимство москвичей. Ютясь по коммунальным квартирам, москвичи встречали провинциалов с распростертыми объятиями и в любом количестве — кого не удавалось втиснуть у себя, отводили на ночлег к соседям.
Но и приезжие — опять нельзя не пояснить — не для того устремлялись в Москву, чтобы побегать по магазинам. ЦУМ тех лет, именовавшийся Мосторгом, и помыслить не мог о соперничестве с домом напротив через Театральный проезд и с домом слева.
А ведь уже заманивали покупателя зеркальные витрины с каскадами советского цветастого файдешина, с туфельками и штиблетами на стеклянных подставках, со стройными лыжницами в ярко-малиновых байковых костюмах, с широкоплечими красавцами в москвошвеевских пиджаках.
Однако приезжий лишь взглядывал одобрительно на витрину — растем! научились! — и устремлялся четким шагом или к мощной, как Днепрогэс, колоннаде Большого или к Островскому, присевшему по-домашнему возле дверей Малого.
Может быть, у иного приезжего и возникала лукавая мысль — не свернуть ли на минутку с культурной программы на торговую. Уж больно пригляден вон тот серый пиджачок! Но тотчас приезжий в ужасе оглядывался. Вспомни, пентюх, где ты находишься! На тебя вся Москва станет пальцами показывать: в кои веки приехал и куда попер вместо театра и музея! Да не только перед Москвой осрамишься. Позор на всю огромную страну от Негорелого и аж до Владивостока!
Никогда еще Москва не ощущала себя до такой степени центром культуры. Приобщиться жаждали все. Колхозники и колхозницы. Строители дорог и домен. Раскрепощенные женщины Востока и полуинтеллигенты новой формации — с высшим образованием, но без среднего и даже без начального.
Гости, поселявшиеся у Мельниковых, приобщались к культуре под строгим руководством Александры Петровны. Делалось все очень серьезно и основательно.
Сидим у Андрея и слышим рядом, в столовой, разговор о Станиславском, Качалове, Москвине. Значит, для гостя уже куплены билеты во МХАТ, и Александра Петровна ведет подготовительную работу.
В день спектакля она прибегала со службы сломя голову. Начинались торжественные приготовления. Она мылась в ванне, чистила зубы, тщательно причесывалась. Потом из гардероба извлекалось театральное черное платье с белыми кружевами. Надев платье, Александра Петровна закалывала кружева своей главной драгоценностью — камеей из агата. Затем чуть-чуть касалась стеклянной пробкой от духов за ушами, чуть-чуть пудрила нос. И за всеми приготовлениями она сама внутренне переменялась, становилась другой, не домашней Александрой Петровной, а театральной дамой — вся охвачена волнением, трепетным ожиданием.
Мы видели, как балдел от ее приготовлений северный строитель, как спешно кидался скрести бритвой щеки и утюжить брюки.
И можно было себе представить, как потом, в театре, Александра Петровна празднично покупала у капельдинера программку, отвергала попытки отсчитать сдачу, благоговейно изучала птички возле фамилий артистов и говорила: «Нам сегодня повезло, Машу играет Степанова».
В антракте, конечно, чинная прогулка по сумрачно-зеленым фойе. И никакого разглядывания публики, даже о спектакле ни слова, чтобы не расплескать впечатления. Ее спутник посматривает в сторону буфета — кажется, в театре принято угощать даму пирожным и лимонадом. «Нет, нет, — мягко говорит она, — право же, не стоит». Зато после театра, дома у Мельниковых, будет праздничное чаепитие с разговорами — о только что увиденном спектакле, о других.
Перед Третьяковкой те же за несколько дней приготовления, разговоры о живописи. С участием Андрея, а то и всей нашей компании.
Александра Петровна называла канонические имена. Левитан, Васнецов, Репин. Мы знали, что Андрей выше всех богов Третьяковки ставил Врубеля.
— А Василий Михайлович? — спрашивал гость. — Ему какой художник нравится?
— Суриков, — отвечала Александра Петровна.
Василий Михайлович в каждый свой приезд старался побывать в Третьяковке. И шутил, что идет на свидание к боярыне Морозовой, потому что, повидавшись с этой женщиной, можно уже ничего в жизни не бояться.
Сборы Александры Петровны в Третьяковку строги и просты. Никаких духов, никакой пудры. С вечера приготовлен синий костюм, который называется английским, и белая пикейная блузка. Гость, уже кое-чему наученный, тоже скромно припарадился. От трамвайной остановки за ними увязываются хвостом робкие провинциалы, не очень уверенные, что самостоятельно отыщут дорогу в Третьяковку — по Александре Петровне и ее спутнику за версту видно: уж эти-то идут туда и только туда.
В Музей Пушкина, в Исторический, в Останкино северных строителей поручалось сопровождать Андрею, и к нему непременно присоединялись несколько наших, со двора. «Для поддержки штанов» — если говорить тогдашним молодежным сленгом. Один он при его застенчивости с гостем бы не управился.
И конечно, наши ходили по музеям вместе с гостями Мельниковых не только, чтобы выручить Андрея. Любопытствовали взглянуть поближе на новых людей, героев нашего времени. На бригадиров с четырьмя классами образования и прорабов с рабфаком за плечами.
Мы успели кое-что прочесть из серьезной специальной литературы о живописи, о театре, об архитектуре, а смелости в суждениях у нас было побольше, чем знаний.
Гости Мельниковых очень уважительно слушали наши пояснения, но высота их почтения к Александре Петровне оставалась для нас недосягаемой. В их представлении она была человеком огромной культуры. Ну, не чудаки ли!
В наших глазах эрудиция Александры Петровны выглядела вполне скромно. И сама она — разве сравнить с Василием Михайловичем, с Андреем! Просто зрительница, просто привыкла бывать постоянно в театре, на концертах в консерватории — туда она тоже водила своих гостей, — на выставках, в музеях. Но никогда мы не слышали, чтобы Александра Петровна пыталась о чем-нибудь вынести свое суждение. Просто ей что-то нравилось, что-то не нравилось и куда-то она просто не ходила. Вот и все.
Очень жаль, посмеивались мы меж собой, что на северных строителей, впервые попавших в столицу, заурядная Александра Петровна с ее торжественными сборами в театр и музей производит такое колоссальное впечатление.
Однако мы смутно подозревали, что северные строители не так простодушны и неопытны. При всем отсутствии общей культуры они удивляли нас неожиданной меткостью суждений. И что-то они видели в Александре Петровне, в ее сборах и приготовлениях, в том, как она из будничной Александры Петровны преображалась в праздничную. А мы не видели.
Мельниковы уехали из Москвы в 1944 году. Василий Михайлович получил назначение руководить путейскими восстановительными работами где-то на освобожденной территории.
Их квартира на четвертом этаже пустовала недолго. Очевидно, Василий Михайлович не позаботился закрепить свои права на московскую жилплощадь. Но в нашем «пироге» некому стало по этому поводу волноваться. Слишком много произошло необратимых перемен.
Квартиру Мельниковых получило многодетное семейство, шумное и безалаберное. Привезенную на ручной тележке скудную мебель, топчаны и колченогий стол, семейство наверх не потащило, бросило во дворе. Жилье им досталось со всей мебелью. И гардероб, и буфет, и кровати, и громадный стол, и стулья с точеными ножками — те самые стулья, на которых Александра Петровна стелила постель для своих гостей. Наверное, больше всего семейство обрадовалось размерам обеденного стола — как раз по их потребностям.
След Мельниковых затерялся на многие годы, пока однажды не появилась фотография на обложке популярного журнала.
В группе молодых строителей, только что уложивших последний рельс, стоял Василий Михайлович. Он очень сильно постарел и сдал. На фотографии преобладали желтые тона. Где-то там, на стройке, солнце припекало нещадно. Молодые ребята скинули рубашки, один Василий Михайлович позволил себе лишь слегка расслабить умело повязанный галстук, голубой в красную полоску, рубашка его была, как всегда, безупречна, но с короткими рукавами.
Опытный фотограф, вооруженный прекрасной камерой, добивался впечатляющего контраста. Молодые парни, обнаженные по пояс, с выпуклыми мышцами, шелковистой, блестящей от пота кожей, с могучей порослью на груди и на руках — и среди них заслуженный железнодорожник, старый испытанный землепроходец, живая история всех пятилеток.
Ничего не скажешь, замысел фотохудожника удался. Снимок получился выставочный. Белая рубашка выразительно топорщилась на костлявых плечах старого путейца, морщины на темном пергаментном лице нежно розовели в глубине, фотокамера с нечеловеческой зоркостью разглядела каждую красную прожилку на желтоватых белках глаз и влагу в уголках век, набежавшую то ли от торжественности момента, то ли от раздражающего степного ветра с песком.
В очерке о строителях степной магистрали журналист отвел Василию Михайловичу целую главу — очерк оказался длинным и печатался с продолжением, в двух номерах.
Бывшая дворовая компания из «пирога» взволновалась. Она сильно поредела после войны и приближалась к тому пределу, когда можно вдруг натолкнуться в «Вечерке» на знакомое с детства имя. Мы уже давно не собирались все вместе, только перезванивались по телефону. Разбросанные по новым районам Москвы, мы инстинктивно берегли свои корни, а они сплетались там, в старом «пироге», в наших суровых играх, в квартире Мельниковых, с которой у всех у нас были связаны самые светлые воспоминания.
Телефонные провода перекачивали из Тушина в Медведково ностальгию по юности.
— Слушай, ты же помнишь, кем для нас был Василий Михайлович. В те непростые, прямо скажем, годы. Сколько в нем было жизненных сил!
— Среди многих и разных талантов, с какими может родиться человек и какие может в себе вырастить, один из самых редкостных — талант жить счастливо, ощущая и излучая этот свой редчайший дар открыто и просто, как оно и должно быть присуще таланту. Да, да... Тебе кажется, что это слишком возвышенные слова? А ты вспомни, он их не боялся.
— Знаешь, только теперь, из нынешнего времени, можно осмыслить, что Мельниковы были замечательно счастливой семьей и что нас именно это к ним и притягивало. Ты вспомни, как они относились друг к другу, к нам, ко всем, кого мы у них видели. Какая открытость и простота.
— А боярыню Морозову помнишь? А поговорку «Живы будем — не помрем»? А эту самую Алгембу?
— Слушай, как все-таки мало мы о нем тогда знали. Какая биография!
Еще бы не помнить Алгембу! За чаепитием с разговорами Василий Михайлович и Александра Петровна иной раз перебрасывались смешными подробностями своего житья-бытья на Алгембе. Эта Алгемба представлялась нам речушкой, настолько малой, что ее не сочли нужным пометить на карте, — где-то за Волгой, куда Мельниковы приехали из голодной Москвы в какой-то из годов гражданской войны.
Александра Петровна поначалу никак не могла понять, чем за Волгой топят паровозы. Что-то серое, блестящее лежало горами на станциях и сгорало в топках удивительно ярко и быстро. Наконец ей объяснили, что Заволжье отрезано от Донбасса и потому паровозы приходится топить воблой. А в Москве тогда тарелка супа из воблы считалась роскошью.
С этой самой Алгембы, про которую мы столько слышали, и начиналась в очерке глава, посвященная Василию Михайловичу Мельникову. Молодой путеец получает приказ немедленно отправляться на строительство железной дороги Александров — Гай — Эмба. Стране нужна нефть, строительством Алгембы руководит сам Фрунзе, командующий Туркестанским фронтом.
На сборы оставалось два часа, и Мельников поспешил к невесте — проститься на неведомый срок. У него и в мыслях не было, что Шурочка может поехать вместе с ним. Девятнадцатый год, зима, разруха, сыпняк. Шурочке такая жизнь не по силам. Дочь известного в Москве врача, перед самой революцией закончила гимназию, собиралась поступать на курсы. «Нет, невозможно», — говорил себе Мельников.
Он познакомился с Шурочкой на концерте Рахманинова. Элегантный путеец, воспитанник привилегированного петербургского института. А теперь он явился к ней в тулупе и сапогах. Но вопреки всему Шурочка сказала жениху:
— Я тебя одного не отпущу. Тотчас соберусь — и едем.
Она готовилась стойко перенести неимоверные трудности, но на Алгембе Мельниковых поселили в салон-вагоне, принадлежавшем до революции самому Рябушинскому. Потом, на других стройках, им доводилось жить в разном временном жилье. В бараках, в палатках, в землянках. На Турксибе — в юрте.
Военных лет журналист коснулся лишь слегка.
Василий Михайлович командовал саперами, получил тяжелейшую контузию при бомбежке, полгода провалялся в госпитале, и медицинская комиссия вынесла ему суровый приговор: дальнейшая военная служба исключается, напряженная работа изыскателя или строителя — тоже. Тишина и покой, строгая, размеренная жизнь. Потом, возможно, служба в министерстве, преподавательская работа.
«Но мог ли Мельников отсиживаться дома, когда на западе страны лежали в развалинах сотни километров стальных путей?»
Привычный пафос этой фразы из очерка почему-то раздражал. Хотелось спросить пишущего: да что вы знаете о нашем Василии Михайловиче, о том, как он принимал это решение, в каких обстоятельствах?
Значит, тогда, в 1944-м, он был назначен командовать колонной из нескольких восстановительных поездов. Александра Петровна не отпустила его одного, как когда-то на Алгембу.
Только на этот раз им достался не салон-вагон Рябушинского, а ободранный четырехосный пассажирский вагон. Его прицепили между платформ, нагруженных рельсами и шпалами. Восстановительная колонна продвигалась на запад, сама прокладывая себе путь.
Наверное, очеркист, повстречав на строительстве степной магистрали такого ветерана, как Мельников, сразу понял, что ему очень, очень повезло. Биография Василия Михайловича давала великолепный фон для современных передовых методов строительства и современного энтузиазма. И очеркист ею занялся. Он своего героя вытягивал и раскладывал во времени всех пятилеток и в пространстве огромной страны — прямо-таки слышно было, как косточки хрустели.
Однако насчет Рябушинского очеркист целиком присочинил. Для исторического колорита. Сейчас модно к месту и не к месту вставлять какую-нибудь фигуру из прошлого. Если салон-вагон, то уж непременно Рябушинского.
Либо великого князя Николая Николаевича, либо бухарского эмира.
— Но не было! Не было в воспоминаниях Василия Михайловича и Александры Петровны никакого салон-вагона! — возмущенно неслось по проводам из Бибирева в Бескудниково. — Никакой роскоши, смешной по тем временам. Ни плюша, ни зеркальных окон.
— Конечно, не было. Они воблу вспоминали. Полчища мух.
— Вот именно. И такой выигрышной детали, как вобла в топках паровозов, в очерке нет.
— Журналист не мог бы ее упустить. Вобла и Рябушинский. Эффектно. Значит, Мельниковы не рассказывали? Неужели они к старости стали забывать забавные подробности своей жизни на Алгембе?
— Вряд ли. В старости человеку ярче припоминается не ближнее, а самое дальнее! Просто этот журналист не очень долго с ними беседовал, лишь наскоро записал факты из биографии Василия Михайловича, а в остальном положился на художественный домысел.
— Но дома у них он все-таки побывал. Что было, то было. Он пишет, что Василий Михайлович повел его к себе обедать, не предупредив заранее жену, что придет не один, а с гостем. Где-то там, в рабочем поселке с непритязательным бытом, гость мог бы застичь Александру Петровну врасплох. Но она вышла им навстречу на крыльцо стандартного двухквартирного дома в темно-синей юбке и белой просторной кофте.
А потом она надела фартук, ушла на кухню, и со сказочной быстротой на обеденном столе появились ее знаменитые скородумные пирожки, о которых журналист был уже столько наслышан от молодых строителей, частенько собирающихся у Мельниковых за этим большим столом, который их объединяет с Василием Михайловичем и Александрой Петровной в дружную семью.
И каким вкусным оказался чай, заваренный по особому способу! И как уютно посвистывал стоящий на столе старинный пузатый самовар! И какая содержательная завязалась беседа!
Беседа? Публикуя свой большой очерк, журналист и не догадывался, что некая бывшая дворовая компания будет придирчиво вникать между строк и цепляться к каждому слову.
Не беседа — чаепитие с разговорами. Вам не сказали этого?
Есть очень простые приемы журналистики, с помощью которых можно, побеседовав с человеком часика два, а затем подрасспросив его товарищей по работе, изобразить перед читающей публикой, будто знаешь своего героя давно и достиг в отношениях с ним наивысшей доверительности.
Самый простой прием — взять факты из блокнота и перевести в живую речь. Тогда выходит, что Александра Петровна вовсю разболталась, как она с молодых лет и до старости разъезжает по стройкам вместе с Василием Михайловичем. Конечно, из-за частых переездов она не имела возможности кончить техникум или институт, получить специальность. Зато она выучилась многому, что необходимо в ее кочевой жизни. Умеет шить, печатает на машинке, переводит техническую литературу с немецкого и французского, ставит самодеятельные спектакли.
И дальше будто бы Александра Петровна сама принялась хвастать перед гостем, строчащим в своем блокноте, что ей не раз приходилось — но, разумеется, без зарплаты, на общественных началах! — заменять учительницу начальных классов, библиотекаршу, кастеляншу, нянечку в яслях, медицинскую сестру...
«Что поделаешь, — будто бы сказала журналисту Александра Петровна. — Вся жизнь на колесах. — И затем она будто бы помолчала в задумчивости и кивнула с улыбкой на старинный самовар: Тоже всю жизнь путешествует с нами...»
Это место в очерке бурно обсуждалось по телефону. Ну конечно, не болтала о своих талантах, не кивала с улыбкой. И Василий Михайлович не стал бы распространяться перед журналистом, какая у него замечательная жена.
Уж мы-то Мельниковых знаем. И сами видели в детстве, что она умеет шить на машинке и печатать. И когда в школе, построенной на месте пустыря, ввели французский язык, Александра Петровна подтягивала ленивую Марсельезу по французскому.
К тому же давайте вспомним, как она приобщала к культуре северных строителей.
Нам казалось смешным их преклонение перед ней. Но теперь-то мы поумнели и знаем, что культура — не сумма знаний, а образ жизни...
Факты сами выбирались из очерка наружу, отряхивались и выстраивались в ряд.
Самовар мы все прекрасно помнили. Только у Мельниковых не говорилось просто «самовар», а всегда — «бабушкин самовар».
У них вообще водились за вещами домашние прозвища. Папин ножик — перочинный, с дюжиной лезвий, когда-то принадлежавший гимназисту Васе Мельникову, а затем самая ценная вещь у Андрея. Ни в лес, ни на речку Андрей никогда не брал с собой папин ножик, болезненно опасался его потерять. В отношении Андрея к отцу, как мы теперь отчетливо припомнили, всегда жило что-то тревожное, предчувствие беды и разлуки.
Еще был у них дедушкин плед, темно-синий, в зеленую клетку. Студенческий плед, заменявший пальто деду Андрея в годы ученья на медицинском факультете.
Аннушкин сундук звался по имени старой няньки, она вырастила Александру Петровну и ее старшего брата Андрея, погибшего в германскую войну. В голодном восемнадцатом году, когда отец Александры Петровны заразился в госпитале сыпняком и умер, старая нянька, давно уже ставшая членом семьи, поехала в родную деревню за продуктами и пропала без вести.
В квартире Мельниковых на четвертом этаже «пирога» Аннушкин сундук стоял в закутке у Андрея, накрытый старым ковром, и заменял нам диван. Зоркий глаз очеркиста обнаружил в доме Мельниковых там, на степной стройке, старый добротный сундук. Очень важная деталь кочевого быта. Но слава богу, Александра Петровна не кивнула с улыбкой на сундук и не сказала что-нибудь вроде: «Скоро перебираемся опять на новое место!»
Бабушкин самовар, припоминали мы дружно, был низенький и пузатый, с фигурным краном и фигурными ручками.
Кажется, серебряный, его чистили зубным порошком и нашатырем.
И не так уж он всю жизнь путешествовал по нашей огромной стране. Сколько-то лет мирно простоял на дубовом с цветными стеклышками буфете, лишь летом выезжая на дачу в Перловку. В Москве бабушкин самовар скучал на буфете без дела. На газовой плите кипятили большой эмалированный чайник зеленого цвета. Зато в Перловке бабушкин самовар красовался на длинном дощатом столе, застеленном дачной немаркой скатертью в красную клетку.
Александра Петровна снимала на лето сарайчик с одним окошком в дальнем углу огромного участка, в сосновом лесу. Сквозь деревья виднелась двухэтажная дача, принадлежавшая важной даме. Чтобы съемщики сарайчика не беспокоили хозяйку, в заборе была проделана калитка — черный ход.
Наша компания приезжала к Андрею с ночевкой. Над сарайчиком имелся сеновал, туда вела приставная лесенка, сколоченная из жердей...
— Помнишь, мы ночами напролет о чем-то говорили, очень важном?
— Ну конечно, прекрасно помню, как все это было. Темно, лиц не видно, только голоса. Смелость обретали даже самые застенчивые и неразговорчивые.
— И на сердце делалось радостно, горячо. Но, знаешь, у меня почему-то ушло из памяти, о чем именно мы говорили с таким жаром. Я имею в виду конкретные вещи. О ком? О чем? Какими голосами? Я сколько раз пытался сосредоточиться и вспомнить. Не могу. Подробности остались где-то там, прикипели к тому времени — не оторвешь. А вот сердце обливается жаром и сегодня, когда мыслями возвращаюсь туда.
— Но как же ты забыл! — неслось из Бескудникова по проводам в Измайлово. — Мы однажды до утра спорили о Петре Первом. Опаснейший зашел спор о праве великой личности строить новое на костях. Говорили о «Виктории» Гамсуна, о вечной любви... О межпланетных путешествиях... Неужели не помнишь?
— Нет, не помню. И ты сейчас говоришь не о том, что было. А о том, что могло быть тогда. Загадка нашего поколения неразрешима. Я не могу сегодня объяснить молодым, что мои ровесники не были выкованы из железа. Они другие... Нежные и горячие...
— А мне мой парень знаешь что сказал про наше поколение? Тоже ведь эти нынешние думают своими головами, философствуют на темы истории. Вас, говорит, не только ваше время воспитывало. Каждое поколение испытывает влияние своего будущего. Таким и растет.
— Может быть, может быть... Не это ли в нас видел Василий Михайлович? Говоришь, а он смотрит серьезно и крепко.
Василий Михайлович появлялся в Перловке по обыкновению неожиданно, и начиналось шумное самоварное действо.
Он всегда сам щипал лучину — папиным ножиком. Что бы он ни делал, у него всегда получалось ловко и заразительно. И если он шел с нами купаться на Джунгаровку, то наша компания уже не просто прыгала с мостков, творилось черт те что, с самыми азартными условиями для победителя.
Василий Михайлович еще только взялся за папин ножик, вынул из замшевого чехольчика, а мы уже кинулись наперегонки собирать сосновые шишки. Нащипав лучины, он складывал пучок, поджигал, давал разгореться и совал в трубу.
Не каждому удается с одного раза поставить самовар. Лучина в трубе еле тлеет, ты дуешь снизу, дуешь в трубу, обливаешься слезами и кашляешь, пихаешь в трубу горящую бумагу — никакого прока. В сердцах выливаешь воду, вытряхиваешь из трубы головешки, черный пепел и начинаешь все сначала.
А у Василия Михайловича лучина сразу принимается трещать, из трубы вылетает огонь, мы подтаскиваем вороха сухих встопорщенных шишек, он похаживает вокруг самовара, закидывает шишки по одной в трубу. В трубе гудит, дыму как от паровоза, сизая, пропахшая смолой пелена зависает меж стройными стволами сосен. Василий Михайлович нахваливает дым, разогнавший зловредных комаров, рассказывает, какие тучи гнуса водятся где-то там, на строительстве дороги через Хибины. Ну а потом начинается дачное чаепитие с разговорами.
— Но можешь ли ты себе представить, — взволнованно спрашивают по телефону из Тушина, — что где-то там, в степном поселке, они живут все той же простой и открытой жизнью и в доме у них за большим столом собираются уже не наши ровесники, а ровесники наших детей.
— Непостижимо... Надо бы нам наконец встретиться и написать Мельниковым. Адрес можно узнать в журнале.
О необходимости собраться всем вместе твердила с особой настойчивостью Марсельеза, бывшая язва нашего двора. И насчет письма, которое мы должны написать, — целиком ее идея.
Марсельеза полагала себя самым ответственным хранителем нашей детской дружбы.
В те давние годы она не принадлежала к кругу лицейских друзей. Носом не доросла. Но после войны разница в возрасте стала стираться, Марсельеза проявила бешеную энергию общения, и к тому же она дольше всех оставалась жить в «пироге», все в той же комнате коммунальной квартиры, откуда в форточку трубно гремело на весь двор ее революционное имя.
В войну Марсельеза поступила в школу ФЗО, и там ее стали называть Марусей. Она вышла замуж раньше девчонок из нашей компании — за солдата, лежавшего в госпитале, куда ученики школы ФЗО ходили в порядке шефства. И в довершение полного своего торжества наша неугомонная Мария Алексеевна первая стала бабушкой, еще не достигнув сорока лет.
Мы бы, наверное, собрались, как и случалось время от времени, когда бывшую Марсельезу уж очень обуревала тревога, что мы до неприличия давно не виделись друг с другом. Но теперь все ее старания не приносили желаемого результата. Встреча откладывалась и откладывалась. Кто-то заболел, кто-то уехал в командировку.
Предлогов находилось множество. Но главной причиной, из-за которой мы никак не могли собраться, стала конечно же навязчивая идея нашей неутомимой организаторши написать Мельниковым письмо.
— Что мы им напишем? Зачем? — тревожно спрашивали мы друг у друга.
К чему бы вдруг изливать в письме Мельниковым свои светлые воспоминания о днях юности? К чему вспоминать свою дружную влюбленность в Василия Михайловича, героя нашего времени? К чему рассказывать про свое нынешнее житье-бытье, про свои семьи и своих детей?
И можем ли мы надеяться, что Василия Михайловича и Александру Петровну обрадует наше послание? А что, если оно окажется ненужным, бестактным и даже жестоким?
Мы напоминали друг другу, как нам приходилось прятаться от матери другого нашего товарища, погибшего, как и Андрей, в первый военный год. Она помешалась и при встречах с друзьями сына приподнято веселая приглашала нас к себе — отпраздновать его возвращение: «Пришла телеграмма, он сегодня приезжает...» В конце концов ее забрала к себе какая-то родственница.
И Василий Михайлович при первой возможности постарался увезти Александру Петровну из дома, где ей все напоминало об Андрее. Сама же Марсельеза нам и рассказывала. Она помогала Василию Михайловичу собирать вещи и боялась даже взглянуть на Александру Петровну, прятала от нее уже заметный живот.
За год, что ли, до войны подросшая Марсельеза стала бегать за Андреем и писать ему записки, что его очень смущало. Увидев во дворе Василия Михайловича, она поднялась следом за ним на четвертый этаж, неслышно вошла в квартиру.
Василий Михайлович еще плохо себя чувствовал после госпиталя, не мог нагибаться, и Марсельеза стала ему помогать. Ей хотелось взять что-нибудь на память об Андрее, но вместо этого она все его вещи, до мелочи, до последней изломанной бамбуковой палочки, уложила в Аннушкин сундук.
— Нет, — объясняли мы друг другу, — совершенно немыслимо писать Мельниковым после стольких лет.
И к тому же по очерку видно, они не хотят лишних напоминаний об Андрее. Ведь журналист выспросил все про их прошлую жизнь. Значит, кто-нибудь да рассказал ему про Андрея, погибшего на войне. Что был стрелком-радистом и погиб в первом же воздушном бою. Такая вот судьба. На фронте средняя продолжительность жизни, как подсчитано теперь, равнялась всего лишь неделе. И если кому-то выпало остаться в живых, пройдя всю войну, то скольким же отрезалось только по одному дню, а то и часу...
Да, возможно, что кто-то и рассказывал обо всем этом автору очерка, даже обязательно рассказывал. Кто-то заранее предупредил журналиста, о чем нельзя спрашивать Мельниковых.
Так и не удалось Марсельезе организовать наше коллективное письмо Василию Михайловичу и Александре Петровне. След Мельниковых опять затерялся на долгие годы.
Внучка Марсельезы Даша кончила французскую школу, пыталась поступить в институт иностранных языков и не прошла по конкурсу, хотя другая девочка из той же школы, учившаяся куда хуже, сдала на круглые пятерки.
Марсельеза не позволила себе впасть в уныние и жаловаться знакомым, что в престижные институты можно поступать только по блату. Дашу могла подвести на экзаменах болезненная застенчивость, развившаяся по двум существенным причинам: врожденная близорукость и бабушкино культурное воспитание. Даша не водилась с бойкими и практичными сверстницами. Бабушка приучила ее с малых лет к театрам, музеям и концертам классической музыки.
Погоревав, Даша устроилась на работу в библиотеку по соседству с домом и наново принялась готовиться к экзаменам в институт иностранных языков, свято веря, что истинные знания способны в конце концов восторжествовать. В застенчивой рохле, упрятанной за очки с толстыми стеклами, пробудилось Марсельезино упорство в достижении поставленной цели. И не только упорство. Оживились и другие Марсельезины гены. Они, оказывается, только ждали случая себя проявить.
Случай представился, когда некий наглый тип попытался украсть из читального зала библиотеки томик Булгакова.
Библиотечная книга, мало-мальски ценная, в наше просвещенное время обречена. Ее украдут. Возьмут на дом почитать и скажут, что потеряли. Если не выдавать на дом, унесут из читального зала. Современный человек волочет культуру к себе домой.
Булгакова спасла Даша. Она дежурила в читальном зале и, ни секунды не раздумывая, кинулась в погоню за молодым бородачом, удиравшим с книгой под полой.
Близорукая Даша умудрилась настичь вора в проходном дворе и хлопнуть по голове прихваченным впопыхах тяжелым предметом, оказавшимся, как было затем отмечено в протоколе, франко-русским словарем объемом в 160 тысяч слов.
— Зачем вам Булгаков? — гневно спросила Даша, стоя над поверженным врагом. — Он ненавидел таких, как вы!..
Она шествовала обратно, воинственно размахивая зеленым томиком Булгакова и синим франко-русским словарем.
Хотя на этот раз все обошлось благополучно, в библиотеке вышел очередной приказ о повышении бдительности в читальном зале, и началась фронтальная проверка формуляров: кто задерживает книгу подозрительно долго.
Адрес Мельниковой А. П. достался Даше. Шестнадцатиэтажный дом-башня напротив школы, где она училась. У ребят из этого дома родители работали в министерстве, строившем железные дороги.
Мельникова полгода назад — еще до поступления Даши на работу в библиотеку — взяла Куприна и с тех пор больше не показывалась. Обычно она возвращала книги аккуратно. Что же с ней случилось теперь?
Заглянули в графу «Год рождения» и ахнули. 1899-й. Ну, тогда понятно. Заболела, а то и умерла. Жаль, пропала ценная книга.
— Но ты все-таки поговори построже с ее родственниками, — напутствовали Дашу старшие сотрудницы библиотеки. — Бывает, и отдают...
Даша долго давила на кнопку звонка. Потеряла надежду, что в квартире кто-то есть, но продолжала звонить. Кому-нибудь из соседей в конце концов надоест. Кто-нибудь да выскочит...
И Даша своего добилась. Из квартиры напротив выглянул старик в потертом синем кителе с металлическими пуговицами:
— Вы к Александре Петровне? Ее нет, она в больнице. Уже давно, с зимы. Вы что, знакомая?
— Я из библиотеки, — решительно объявила Даша. — За книгой. А кто еще есть в этой семье?
— Никого, — старик развел руками. — Плохи ваши дела, девушка. У Александры Петровны перелом шейки бедра. Это — конец, старому человеку не выкарабкаться. Тем более одинокому. Впрочем, что же мы тут стоим? Милости прошу ко мне.
Старик похвастался перед Дашей своей библиотекой. Всю жизнь работал по медвежьим углам, там с книгами было легче, любое собрание сочинений...
Даша делала вид, что с большим интересом слушает его воспоминания. Может быть, удастся с помощью старика вызволить книгу. Он, оказывается, знал Александру Петровну еще до того, как поселился с нею в одном доме и на одном этаже.
— Ее муж, ныне покойный, Василий Михайлович Мельников — это, Дашенька, имя — одно из крупнейших в желдорстроительстве.
Лет десять назад Василий Михайлович сдал свою последнюю дорогу и перебрался в Москву, в министерство. Мог бы получить двухкомнатную квартиру, но сам настоял на однокомнатной. Чувствовал, что жить ему оставалось недолго.
Александра Петровна после смерти Василия Михайловича получает, как его иждивенка, половину мужниной пенсии. У самой трудового стажа никакого. Всю жизнь ездила с Василием Михайловичем по стройкам. Но это разве оправдание? Беспечность. Теперь пришлось за свою беспечность расплачиваться. Вывернись-ка на половинную пенсию! Высчитывает каждую копейку.
Жена моя как-то пошла с Александрой Петровной в Третьяковку. И меня звали, да я уже не ходок. Ноги... Жена пришла и говорит: «Никогда больше с ней не пойду в культурное место. Стыд и срам». Оказывается, Александра Петровна предъявила кассирше свое пенсионное удостоверение. И еще попрекнула мою-то: «Что же вы без удостоверения? Пенсионерам билеты продаются со скидкой». А скидка там — смех. Гривенник, что ли...
Сотрудниц Дашиной библиотеки глубоко тронула судьба одинокой Александры Петровны. Симпатичная была старушка. Много читала, записывалась в очередь на журналы. Ее приглашали выступить на читательской конференции, но она всегда отказывалась...
— Да, — говорили в библиотеке, — очень жаль. Прошлой зимой страшные были гололеды. Столько переломов. Старым людям в гололед надо сидеть дома, но она-то живет в одиночестве, наверное, пошла за молоком, за хлебом.
С этими гололедами что-то надо делать! — возмущались в библиотеке. — Дворники окончательно изленились. Раньше дворник выходил пораньше и скалывал лед с тротуара. Бывало, проснешься, с улицы слышно: тюк-тюк железным скребком. Теперь дворник не выйдет с утра хотя бы песком посыпать. А получает в три раза больше библиотекаря с высшим образованием. Издать бы такой закон, чтобы с дворников высчитывали полностью все деньги, выплаченные по больничным листам за сломанные руки и ноги...
Почему-то о ленивых дворниках в библиотеке говорили, как казалось Даше, с более горячим чувством, чем об Александре Петровне. Когда уходит из жизни старый человек, это представляется окружающим естественным. Ничего, пожито достаточно. Другие и в сорок умирают, и в пятьдесят. Семьи сиротеют. А она одна-одинешенька. И горевать-то некому.
Даше и в голову не приходило рассказать бабушке печальную историю одинокой старухи Мельниковой. Ей самой фамилия ничего не говорила. У всех из нашей бывшей дворовой компании внуки и внучки совершенно не интересовались легендами и былями «пирога». Но, будучи все-таки внучкой Марсельезы, Даша смутно печалилась от того, что у современного человека интерес к другим людям носит чисто профессиональный характер. Врача интересуют болезни, библиотекаря — начитанность. И только у малообразованных старух, посиживающих на скамейках у подъездов, интерес к другим людям достаточно широк. Он может принять либо формы сочувствия, либо толкнуть их на бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь.
Впрочем, как догадывалась Даша, точных границ между той или другой формой нет.
Она с неослабевающим рвением продолжала готовиться к экзаменам. В библиотеке, несмотря на самый бдительный контроль, по-прежнему улетучивались наиболее модные книги. С пропажей Куприна давно смирились, уже и не вспоминали. И вдруг книгу принесли. В Дашино дежурство на абонементе.
— У нас уже и формуляра Мельниковой давно нет. Выбросили. В связи со смертью. И Куприна списали! — возбужденно рассказывала Даша, прибежав домой на обеденный перерыв. А она пришла. С палочкой. И говорит: «Извините за столь долгую задержку...»
Дашины близорукие глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, горели — как в тот день, когда она хвалилась перед бабушкой своей победой над книжным вором.
— Мельникова? — переспросила Марсельеза слабеющим голосом. — А имя и отчество?..
Совершенно случайно один из нашей бывшей дворовой компании познакомился с врачом того отделения, где лежала Александра Петровна.
Врач рассказывал в кругу коллег, как ему однажды повезло. Месяца два отделение и горя не знало. Краны в туалетах не текут, электроплита в исправности, вся медицинская аппаратура работает. И для этой благодати всего лишь надо было разрешить поселиться на диване в ординаторской мастеру на все руки, прилетевшему черт те откуда, чтобы ухаживать за больной матерью.
Правда, потом оказалось, что безотказный Леша вовсе не сын, как он заявил по приезде, и вообще даже не дальний родственник, но кому какое дело до мелких подробностей, если от человека столько пользы.
На возвращение этой больной к нормальной жизни не было и не могло быть никаких надежд. Все положенное, конечно, делалось, рассказывал врач, наш ровесник, опытный в своем деле. Но в лучшем случае ей предстояло остаток дней передвигаться в инвалидном кресле. И вот тут-то больная проявила характер. Держалась с поразительным достоинством. Не падала духом, не унывала, четко выполняла все предписания. Всегда спокойна, приветлива. Редко приходится видеть такое... нет, не жизнелюбие... просто уважение к жизни, которая тебе дана, и ты ее должен ценить, даже самую трудную...
— Существует некое таинство жизни, — говорил врач. — У этой старой женщины погиб на войне единственный сын, несколько лет назад умер муж. Очевидно, замечательный человек. Леша кое-что о нем рассказывал. А ей оказалось дана долгая жизнь. Сейчас многовато стали писать о долголетии, придумано множество способов сохранить себя с помощью строгого режима, спорта, разных диет. Но глядишь, самый неутомимый заботник о своем здравии ушел, а другой живет и живет, без всяких особых о том попечений. Какими силами? И вот тут начинаешь думать о том, что же такое древо жизни... О матерях солдат, погибших на войне. Им бы полагались по праву самые высшие почести и привилегии, да они не возьмут — зачем? Просто живут среди нас. Что-то их хранит. Может быть, само горе. А может, выжили из них те, у кого оказался больше запас короткого счастья и крепче память о светлых днях.
Почему-то они редко болеют возрастными болезнями, — говорил врач. — А если и болеют, то удивительно терпеливо, не жалуясь. Никакого страха за себя, который и губит, отнимая силы. А как подумаешь, сколько перемен во всей нашей жизни, и не только отрадных, пришлось им увидеть после войны... Если бы я был художником, я бы нарисовал старую одинокую женщину, мать солдата, и назвал бы картину «Древо жизни».
— Как он сказал? Древо жизни? — расспрашивали мы нашего друга детства.
— Правильнее говорить: дерево жизни. Ты загляни в «Мифы народов мира».
— Нет, согласись, древо все же произносится достоверней.
— А как оно выглядит?
— Его изображали символически. С разными там фигурами, змеями и орлами. И в то же время древом жизни называют — и чтут! — обыкновенное дерево долговечной породы. Я смотрел у Даля и у Брокгауза. Да, купил недавно. И у того и у другого без каких бы то ни было ссылок на священную историю сказано: древо жизни — туя. Зато в «Мифах...» перечислены более нам знакомые, растущие в России: дуб, явор, лиственница, кедр, ива...
— Ива?.. На Мангышлаке я когда-то видел вербу, выросшую из прутика, посаженного Тарасом Шевченко. Вполне, скажу тебе, древо жизни. Верба ведь из рода ивы. А кругом пустыня, ни кустика. Ну ладно, он, Шевченко, заботился, поливал. Но и без него столько лет в одиночестве не пропала. Мне говорили, у казахов принято обожествлять одинокие деревья. Ленточками обвешивают.
— А помните вековые деревья в саду за нашим домом? Погубленные сдуру? Я только недавно узнал — в нашем переулке до самого последнего времени существовали клочки или, если хотите, осколки бывших огромных царских садов.
— Значит, мы лазили по тем же деревьям, по которым лазил мальчишкой Петр Первый?
— Да. И не знали, не уберегли.
— О том и речь! Живет верба Тараса Шевченко, чтимая народом. Живет в Михайловском дуб, помнящий Пушкина...
— А ведь был обречен на гибель! Михайловское освобождала наша дивизия. Немцы вырыли под пушкинским дубом блиндаж. Ствол был покорежен смертельными ранами от снарядов и мин. Но выстоял, выжил.
— С людской помощью. Приходим ему поклониться, видим его глубокие морщины, усохшие кое-где ветви — и еще горячее наше ему спасибо за то, что он есть. Что все муки вынес и не сдался, не рухнул. Каждый год одевается новой листвой, видит восходы и закаты, чует ветер в своих ветвях, слышит птичье щебетанье, голоса людей. Дождики его омывают, зима укутывает снегом его стариковские, ноющие к непогоде корни. Живет.
— То-то и оно. А другие дубы, тех же лет, давно сгинули.
— Ну, причины долголетия того или иного дерева вполне объяснимы. Гены долголетия в самом желуде. Природные условия много значат. Почва, количество тепла и влаги.
— Почва? Влага? Тепло? У деревьев, растущих в одной местности, природные условия одинаковые. А срок жизни выходит разный.
— Потому что еще многое значит биополе. Оно есть у всего живого, в том числе и у деревьев. Наука сейчас всерьез занялась загадками биополя.
— Да брось ты с загадками! Я верю, что может иметь значение особая судьба дерева в истории семьи, в истории народа и страны. Верю, что дереву могут сообщить новые силы особые чувства людей, приходящих ему поклониться, всенародное почитание.
Мы теперь бываем у Александры Петровны. В квартире у нее всегда прибрано, свет и чистота. Мебель простая и лишь самая необходимая, поэтому стандартная малогабаритная квартира кажется просторной. Чудится, что отсюда совсем недавно кто-то уехал и должен вернуться — неожиданно, без предупреждения.
Александра Петровна поит нас чаем за большим столом, накрытым не пленкой и не клеенкой — белоснежной с тугими складками льняной скатертью.
Несмотря на хромоту, она сама управляется с хозяйством и к приходу гостей печет свои потрясающие треугольные пирожки — они, оказывается, куда дешевле самого простенького современного салата или дурацких тартинок, которыми не наешься.
Всем нам строжайше запрещено приходить к ней с подарком дороже рубля. Но, к счастью, Александра Петровна не знает, что грошовая цена, обозначенная на билете в Музей Пушкина, где выставлено золото Тутанхамона, далеко не соответствует подлинной рыночной стоимости.
Иной раз придешь к ней — в коридоре стоит снятая с антресолей раскладушка, в кухне на Аннушкином сундуке свернут полосатой колбасой матрас. У Александры Петровны селятся, приезжая сдавать экзамены, дети и внуки строителей, работавших вместе с Василием Михайловичем.
Временами появляется и тот самый Леша, что провел весь свой длинный, за два года, отпуск в больнице. Где-то там, за Уралом, он возглавляет сугубо теоретический институт.
Леша выглядит соответственно своему посту — чуточку усталым и жизнерадостно-самоуверенным. Было бы невозможно представить себе этого крупного, властного человека в роли безотказного мужичка, ремонтирующего больничную канализацию и электронику, если бы не его собственные рассказы о том, как он когда-то, молодым бригадиром, впервые попал в Москву и Александра Петровна повела его в Большой на балет «Красный мак».
Леша охотно расписывает, каким он был тогда лаптем. Эта черта свойственна, кажется, всем, кто, выйдя, что называется, из низов, добился успеха. Если верить Лешиным красочным рассказам, наша дворовая компания произвела тогда на него, неуча, чрезвычайно сильное впечатление. Мы, оказывается, водили его в Исторический музей и уж очень здорово все разъяснили про Петра Первого.
Лешины юмористические воспоминания помогли нам понять, что разрешается говорить с Александрой Петровной о самых счастливых годах ее жизни, прожитых в нашем доме, вспоминать Андрея и Василия Михайловича.
Но обычно мы ведем разговоры о разных разностях из нынешней нашей суеты и видим живой, самый искренний интерес Александры Петровны ко всему, из-за чего мы спорим и кипятимся, разделяясь окончательно и непримиримо на либералов и консерваторов, чтобы вновь обрести единство в критике нынешнего молодого поколения.
Марсельеза может больше не переживать, что нашей бывшей дворовой компании грозит опасность утратить свои корни. Однако — как это ни смешно — встречаясь у Александры Петровны, мы испытываем странное чувство, что мы для нее слишком далеки по возрасту, взрослы или даже стары, а вот Даша ей куда ближе. И с этим уже нельзя ничего поделать.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





