ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
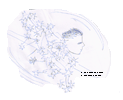
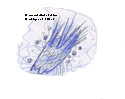

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Стрелкова Ирина 1972

Мне сказали:
— Где тебя носит? Иди!.. Гавриил вызывает...
Я пошла в деканат. Тут всегда плавала голубоватая холодная мгла. Комната была длинная, узкая, с высоким, доверху заледеневшим окном. За огромным письменным столом, спиной к окну, сидел наш декан Гавриил Сергеевич, очень худой, высокий, в узком черном пальто с бархатным воротником. Голова седая, как в инее. На столе — большие, посиневшие от холода руки. Наш Гавриил Сергеевич, когда приходил в деканат или к нам читать лекцию, всегда снимал вытертую каракулевую шапку и вязаные перчатки. А мы не снимали в аудиториях ни шапок, ни варежек. Моя подруга Лилька авторитетно объяснила, что по правилам хорошего тона женщина даже в кафе за столиком может сидеть в шляпе, а чай пить в перчатках. У нас на курсе учились сплошь одни женщины, то есть мы — девчонки.
Мы любили своего декана — такого седого, высокого, грустного, простуженного, с обмороженными, распухшими руками. Когда он брался за перо, чтобы подписать какую-нибудь бумагу, зачетную ведомость или список на карточки, трещины на распухших пальцах лопались и блестела сукровица.
Он нас никогда ни о чем не расспрашивал, и мы его тоже. Все письма от сына Гавриил Сергеевич аккуратно приносил редактору нашей факультетской стенгазеты. Его сын раньше учился у нас на факультете журналистики, а теперь присылал с фронта очень интересные письма: про жестокие бои, про фронтовых товарищей, про фашистские зверства. Эти письма мы переписывали в свою стенную печать и считали, что они сделаны как настоящие фронтовые очерки, не хуже, а может быть, и лучше тех, что печатаются в центральных газетах.
— Здравствуйте, Гавриил Сергеевич! — Я быстро прошмыгнула в дверь, чтобы не напускать в деканат холода из вестибюля. — Вы меня звали?
— Звал, — со вздохом ответил наш декан. — Опять у нас с вами не очень приятный разговор. Вчера на ученом совете я услышал, что вы позволяете себе на лекциях щелкать семечки.
Я возмутилась до глубины души.
— Опять «средние века» накапали?
Гавриил Сергеевич огорченно опустил глаза. Ему было стыдно за меня. За мой развязный тон, за «средние века», за «накапали»... Ну и за семечки, конечно. За них больше всего.
— Я вас пригласил в деканат не для того, чтобы посплетничать с вами, кто и что говорит на ученом совете университета...
— Простите, Гавриил Сергеевич... — жалостно сказала я.
Мы любили нашего декана. Мы и на лекции по некоторым предметам ходили только ради него, чтобы он не расстраивался. Можно было без билетов пролезть в кино, где теплее, чем у нас в аудиториях, и где второй месяц шла «Актриса» с Сергеевой и Бабочкиным. Но мы торчали в насквозь промерзшей двадцатой аудитории, где углы заросли снежным мхом, и слушали долгую нудь про средние века. Ох, сколько сыпалось на нас непроизносимых имен, сколько дат! Ничего я теперь не помню, ни королей, ни сражений... Но никогда не забуду, как коченели ноги в рваных ботинках от коньков и живот подводило от голода.
Очень далеки были от нас в ту зиму европейские средние века. Но если бы мы не пришли на лекцию по истории, наш педантичный лектор немедленно потащился бы в деканат и пилил бы Гавриила Сергеевича за отсутствие дисциплины на факультете, а декан опять сидел бы грустный, искренне огорченный нашей ленью, нашим наплевательским отношением к святым стенам университета, нашей дикостью и тупостью. Он ведь был так счастлив, что мы учимся наперекор войне, что студентам дали рабочие карточки. Что эвакуация занесла в наш провинциальный университет лучшие силы из столичных городов.
— Простите! — с жаром повторила я. — Мы больше не будем!
Он склонил голову в знак, что верит моему последнему обещанию. Ох, не надо бы ему снимать в деканате шапку! Тут такой морозище! Все-таки у нас в аудиториях теплее. Нас много, мы дышим, мы даже танцуем иногда, припевая патефонными голосами: «Сашка, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу? Сашка, ты помнишь теплый вечер, чудесный вечер, каштан в цвету?..»
Я осторожно закрыла за собой дверь деканата, стащила варежку с правой руки и полезла в правый карман ватника, слегка облагороженного кроличьим воротником. В кармане еще оставались семечки. Пальцы — указательный и большой — привычно ухватили граненое семечко, повернули его острым концом вперед и сунули в рот. У скорлупы был привкус пыли и печных угольков. Язык подвинул семечко к зубам, поставил торчком, скорлупа еле слышно щелкнула, крохотное маслянистое зернышко вызвало прилив слюны. Зубы проворно размололи его — вкусное, пахучее, сытное.
Шелуху я положила в левый карман. У меня был такой порядок. В правом кармане — семечки, в левом — шелуха. Когда я шла в университет, оттопыривался правый карман ватника. Когда возвращалась — левый. На курсе был строгий уговор: ни в коем случае не сорить семечками в аудиториях. Мы высыпали шелуху где-нибудь на обратном пути. А без семечек мы обходиться не могли, несмотря на рабочие карточки. Беспрерывно хотелось есть, пустые желудки, как нам казалось, тянули соки из мозгов. Если бы не крохотные, пропитанные маслом ядрышки подсолнухов, нам бы не усвоить и не сдать на очередном зачете, чем Гегель отличался от Фейербаха и кто из них в конце концов выплеснул с водой ребенка.
Каждое утро, идя на лекции, я покупала семечки — маленький граненый стакан. Спозаранку на углу под старым тополем с израненной корой стояла девочка лет десяти в вытертом пальтишке из черного плюша, в сером, грубой вязки платке. Мешок с семечками лежал на снегу у ее залатанных валенок. Края мешка были подвернуты, а в семечках торчали два стакана — большой и маленький. Большой я покупала только на другой день после стипендии, он стоил десять рублей, а маленький — пять. Девочка проворно прятала за пазуху мою пятерку, а я подставляла ей правый карман. Она насыпала добросовестно, с верхом. Изредка вместо нее на этом же месте, под тополем, сидела старуха, зловещая, как ворона. Старуха всегда норовила, подымая стакан над мешком, исподтишка смахнуть верх.
Девочка с семечками жила поблизости в глинобитном низком доме с земляной крышей и окнами из вмазанных в глину стекол. Это был какой-то странный дом: возле него всегда крутились ребятишки самых разных возрастов, из взрослых я там никого не видела, кроме старухи. Может быть, девочка с семечками приходилась ей внучкой, но мне почему-то хотелось, чтобы никакого родства между ними не было.
Как звали девочку, не знаю. Я ее никогда не спрашивала. Между мной и девочкой обычно шел короткий быстрый разговор покупателя с продавцом:
— Сегодня холодно...
— Да.
— Семечки вкусные сегодня... Возьмете?
— Насы́пь.
— Этот?
— Ага... В самом деле вкусные сегодня...
Ни в каких правилах хорошего тона не сказано, как надо щелкать семечки. Есть люди, которые делают это очень некрасиво, неопрятно. Забрасывают семечки одно за другим в разинутый рот, а потом с нижней губы виснет гирляндой мокрая шелуха. Другие разламывают скорлупу передними зубами, держа семечко щепотью. Третьи давят скорлупу пальцами, а ядрышки снимают с ладони кончиком языка. Девочка грызла семечки по-особому, как белка. И все время оглядывалась по сторонам, тоже как-то по-беличьи.
Иногда рядом с девочкой на углу под тополем сидел кто-нибудь из ребятишек, из тех, что жили в глинобитном доме. Однажды у меня в кармане были леденцы, полученные по карточкам. Я сунула леденец мальчишке, который чаще других тут сидел на стреме. А как его зовут, тоже не спросила. Зачем?..
В ту зиму, на самом донышке войны, мы еще не раз доставляли неприятности Гавриилу Сергеевичу. Семечки не выводились. Но самой скверной оказалась история с гаданием — всамделишным гаданием у цыганки, по руке.
В тот день мы удрали всем курсом с лекции по философии. Нам читал философию маленький боязливый доцент, угодивший по какой-то причине в наш университет еще до войны. Цитаты в полстраницы он помнил наизусть — откинет голову, прикроет глаза и читает, как будто перед ним заложенная страница. В такие минуты он ничего не видел и не слышал — точно тетерев на току, по уверению Лильки. Когда начиналась цитата, мы топали ногами, чтобы согреться. Цитат было много, но все равно мы мерзли на лекциях по философии. А тут вдруг ударила оттепель, солнце засияло, и из промороженной двадцатой аудитории мы пошли греться на улицу. Напротив университета был старый парк с деревянным кинотеатром — туда мы и двинулись посидеть в затишке с солнечной стороны. Славно мы там устроились на солнышке, я чувствовала щекой, как нагрелся мой кроличий воротник.
И тут к нам подошла пестрая цыганка в длинной сборчатой юбке, в рваной цветастой шали. В ушах ее покачивались красные медные серьги, на груди красовались мониста из гривенников и пятиалтынных, на щеках, точно румяна, лежала глянцевая корочка грязи.
— Красавицы, дай погадаю! Всю правду открою — что было, что будет!
— На картах? — насмешливо спросила Лилька.
Цыганка повела плечом и смерила Лильку презрительным взглядом. Потом прикрыла глаза, как наш доцент, и заговорила гортанно, нараспев:
— Дорогие-мои-золотые-карты-правду-скажут-да-не-всю-откроют-дайте-красавицы-ручку-какая-хочет-все-тайны-жизни-узнаю-тебе-расскажу-хочешь-при-всех-хочешь-по-секрету-малое-гадание-пять-рублей-большое-гадание-десять-рублей-за-особый-заговор-цена-разная-большой-заговор-дорогой-малый-заговор-дешевле-беру...
— С ума сойти! — возмутились мы. — За пустые слова — десятку! Лучше пойти семечек купить.
— Малое-гадание-пять-рублей,-большое-гадание-десять-рублей... — нараспев повторила цыганка слово в слово, как цитату.
— А пять за большое не хочешь? — без особого азарта завелся кто-то из нас.
Она сверкнула на всех глазами:
— Такие молодые! Такие красивые! Уговор дороже денег! Будет большое гадание! За пять рублей! Кто первый? Давай ручку! Всю правду скажу! — Она кинула нам эти слова, как шапку о землю: берите, пользуйтесь моей добротой, цыганской моей удалью!.. И уж деваться было некуда, только гадать...
С цыганской щедростью, с полным пониманием всех запросов военного времени она нагадала каждой из нас и дальнюю дорогу к родному дому, и нечаянную встречу с дорогим человеком, и неожиданное известие, и короля червонного, и детей — двух-трех-четырех, и долгую-долгую жизнь...
Моя подруга Лилька отказалась гадать: она у нас была самая серьезная, из культурной семьи. Но цыганка изловчилась и цапнула Лильку за руку, вывернула к себе ладонь и быстро-быстро заговорила:
— А ты, красавица моя золотая, письмо ждешь, не дождешься! Хочешь помогу тебе? В глаза мне плюнешь, если обману! Десять рублей давай, получишь письмо желанное, через две недели получишь! Не жить на свете мне, если ты письма не получишь! Через две недели! Заговор знаю! Тебе помогу! Десять рублей!
Все прежнее гаданье могло быть бессовестным обманом, но что Лильке давно нет писем, цыганка сказала чистую правду. И Лилька послушно протянула ей свою десятку. Цыганка сунула деньги за пазуху и забормотала что-то колдовское, склонясь над Лилькиной рукой.
...Ровно через две недели Лилька шагами Джордано Бруно, идущего на костер, вошла в двадцатую аудиторию:
— Девочки, я получила письмо...
— То самое? — ахнули мы.
— Да... — тихо сказала Лилька. — Она меня не обманула... Как раз через две недели... Девочки, я так счастлива, так счастлива!.. Полгода он мне ничего не писал, их часть была в окружении... А она нагадала — и вот... — Лилька протянула нам мятый треугольник, фронтовое письмо.
Все кинулись ее обнимать, поздравлять, таскать за косы, за уши — на полное счастье. А когда общая радость вылилась сполна, кто-то из нас сказал:
— Да, это мы влипли... Этого нам еще не хватало... А что с Гаврилой будет, если в ректорате узнают, что гадание-то сбылось?..
— Влетит ему... Страшно подумать, как влетит!..
К тому времени наш курс уже вовсю прорабатывали в самых высоких университетских инстанциях. Философ оказался не таким уж оторванным от жизни теоретиком. Он высмотрел, как мы удирали с его лекции, прогулялся вслед за нами в парк и откуда-то из-за угла наблюдал всю сцену гадания.
Университетское начальство особенно возмущалось тем, что мы гадали про свою судьбу, удрав с лекции по философии, то есть демонстративно оказав предпочтение оккультизму перед научным мировоззрением. Если бы мы удрали с языкознания, все обошлось бы легче. А тут нашего Гавриила Сергеевича обвинили в плохой постановке политико-воспитательной работы. Дело принимало скверный оборот.
Чтобы выручить нашего декана, мы решили показать всему университету, какие мы у Гавриила Сергеевича сознательные, не хуже, а лучше студентов других факультетов. На воскреснике по разгрузке саксаула мы работали как черти, мы сбрасывали с железнодорожных платформ тяжелые саксаульные коряги, в кровь обдирая ладони, и еще успели выпустить и вывесить боевой листок. Сам ректор вынужден был объявить на заключительном митинге, что первое место в соревновании на разгрузке занял наш курс. Мы ему дружно аплодировали ободранными в кровь ладонями. После той разгрузки ни одна самая дошлая цыганка не взялась бы разглядеть сквозь ссадины и царапины, куда ведут линии наших судеб.
С митинга меня повели в больницу. Уже под конец разгрузки рогатая коряга зацепила меня за хлястик ватника, и я вместе с ней грохнулась с платформы. В больнице на ощупь определили перелом ключицы, загипсовали и отправили домой.
Пока ключица зарастала, я не ходила на лекции. Девчонки решили использовать на общее благо мое вынужденное безделье. Они таскали мне из библиотеки толстые тома по курсу западной литературы, и я потом пересказывала им «Тома Джонса Найденыша», «Перигрина Пикля» и всю прочую классику. Мало что понимая, я прочитала добросовестно даже вторую часть «Фауста», но никто на курсе не смог дослушать до конца мой нудный пересказ.
Однажды Лилька пришла ко мне и с порога принялась выговаривать:
— Какая-то девчонка сейчас про тебя спрашивала... Почему тебя не видно. Она там семечками торгует... Привет передает. Не понимаю, чего ты улыбаешься. Тебя что — радует привет от этой юной спекулянтки? Я так просто удивилась, откуда она с тобой знакома. Что может быть у вас общего?
— Есть люди, — с обидой пробормотала я, — которые очень легко осуждают других.
— Ну, знаешь! — вскинулась Лилька. — Она там сидит, торгует. Конечно, спекулянтка. Видела нас вместе, потому и полезла с расспросами.
— А ты ей хоть ответила?
— Не беспокойся, ответила...
— Поставила девчонку на место? Да?
— Ничего подобного. Я ей ответила сухо и официально, что ты немного прихворнула.
— По-твоему ключицу сломать — это немного? Тебе бы так!
— Ерунда! — отмахнулась Лилька. — Перелом — здоровое явление. А болезнь — это брюшной тиф, или сыпняк, или там воспаление легких...
Бедная моя Лилька, она вскоре заболела сыпняком, и мы бегали к ней в больницу. Выпрашивали в профкоме ордер на калоши, на кофту или еще на что-нибудь и выменивали на рынке масло для больничной передачи, яблоки, варенец. Но все это было потом, ранней весной, когда снег весь ушел с солнечной стороны улиц, а на теневой стойко держался пропитанный грязью лед, крепкий как гранит. А тогда, когда мы с Лилькой чуть не поссорились из-за девочки с семечками, зима была еще во всей силе, шел самый трудный ее месяц — февраль. С пола тянуло Сибирью, и Лилька залезла с ногами ко мне на постель.
— Неужели ты не понимаешь, что любая торговка семечками наживается на каждом проданном стакане? — втолковывала мне Лилька. — И твоя девчонка тоже. Покупает на базаре сырые семечки целыми мешками, затрачивает какое-то количество топлива, чтобы их поджарить, и на каждом стакане наживает рубль. И учти — задаром обогревает при этом свое жилье.
В Лилькином описании девчонка в плюшевом пальтишке, выносившая на угол свой мешок с семечками, выглядела родной сестрой Форда или Моргана, живой иллюстрацией к «Капиталу» — мы его как раз тогда проходили. А семечки и пятерки из моей стипендии отрывались от родной советской земли и уносились во враждебный теоретический круговорот: товар — деньги — товар.
— Каждые шестнадцать купленных тобою стаканов, — подсчитала Лилька, — дают спекулянтке стакан чистой прибыли.
С цифрами трудно спорить, а по цифрам получалось, как дважды два, что девочка с семечками наш классовый враг.
Мне было тогда восемнадцать лет, а это значило, что мой перелом мог считаться заживленным через восемнадцать дней. И снова я пошла утром в университет. Девочка, как всегда, стояла на своем месте под старым тополем с израненной корой. Увидев меня, она проворно зачерпнула стакан семечек — большой — и из горсти досыпала его, чтобы он был с самым высоким верхом.
— Не надо, — вздохнула я. — Денег сегодня нет.
— Бери. Потом отдашь. — Она протягивала мне стакан, ладошкой удерживая возвышавшуюся над краями горку, и радостно, во весь рот улыбалась. Зубы у нее были ровные и крепкие, яркой белизны, глаза удлиненные, как миндалины, а брови густые, как меховые, и над переносицей она дорисовала их темной краской так, что брови сливались.
— Нет уж, — отказалась я. — Получу деньги, тогда куплю, — и пошла дальше, не останавливаясь.
Чужая быстрая рука осторожно нырнула в правый карман моего ватника. Я оглянулась. Догнавшая меня девочка засмеялась и ловко высыпала мне в карман полный, с верхом стакан семечек. Отпрыгнула назад, к своему мешку, и крикнула:
— Потом отдашь!
Семечки были еще горячие, они грели руку, карман и весь ватник. Настоящие каленые семечки, они щелкаются весело и громко. На лекции по истории Лилька полезла ко мне в карман, выудила одно семечко, исподтишка спровадила в рот — и вдруг на всю двадцатую аудиторию разнесся звонкий щелчок — как одиночный выстрел.
Лектор весь передернулся от отвращения.
— Опять семечки? Вы где находитесь? В университете или на базаре?
После занятий, в ледяной мгле деканата, наш курс долго и терпеливо оправдывался перед Гавриилом Сергеевичем:
— Мы ж тихо себя вели... Мы ж молчали... Это он раскричался, как на базаре...
Гавриил Сергеевич смотрел на нас с глубокой печалью.
— Вам читает историю средних веков крупный ученый с мировым именем. Широко образованный человек, блестящий оратор... А вы?
— Да что мы? — обиженно проворчал кто-то из наших. — За философом записываешь, как под диктовку... А за историком просто невозможно вести конспект. Очень он быстро говорит и какими-то фразами длинными... С придаточными предложениями... Начнешь писать — и запутаешься. На весь курс ни одного нормального конспекта. А весной экзамен... Как его сдашь?
Гавриил Сергеевич слушал наши варварские доводы чуть ли не со слезами на глазах.
— Мы больше не будем! Никогда! — поклялась я от имени всего нашего курса.
— Только, пожалуйста, без этих детских обещаний! — взмолился наш декан.
Ладно, пусть он нас считает маленькими! Ради него мы перестали грызть семечки на лекциях по истории средних веков. Мы сидели уныло и чинно, и глаза у нас соловели от неодолимого сна. Если человек лишен возможности хоть как-то зажевать, обмануть сосущий голод, он должен непременно поспать.
Весной, когда у нас уже началась экзаменационная сессия, к нам на курс прямо из госпиталя поступил бывший киевский филолог, инвалид Отечественной войны Яшка Кравчук. Вместе с нами он сдавал все экзамены. На истории Яшка протянул руку за билетом, и наш историк вдруг разрыдался и стал отбирать у Яшки билет, а Яшка выкрикнул:
— Оставьте меня! Я хочу отвечать на билет!
Пальцы на обеих руках ему по самую ладонь ампутировали в госпитале, он их отморозил, когда раненый провалялся на снегу больше суток между нашими и немецкими окопами. Нашего историка Яшка слушал еще до войны, в Киеве. На лекции по средним векам приходили студенты с других факультетов, яблоку негде было упасть в самой большой университетской аудитории. Яшка нам говорил, что даже подумывал переводиться на исторический, но не успел — началась война.
Он был, конечно, в десять раз умнее и образованнее всех нас, вместе взятых, но старался никогда не показывать своего превосходства. Экзамены он — и в ту весну, и потом — сдавал всегда неровно, со взлетами и срывами. Чтобы учиться ровно и к сроку сдавать все зачеты и экзамены, надо оставаться не совсем взрослым человеком, как мы, девчонки, у которых в головах сколько угодно пустующего запасного места. А Яшка от нашего возраста отошел бесконечно далеко. Только шинель свою он, как маленький, сам застегивать не умел. Мы очень быстро привыкли, что старшего нашего товарища, фронтовика и члена партии, надо одевать, как младшего братишку: подать ему шинель, правильно надеть, одернуть, застегнуть пуговицы и верхний крючок у ворота, перекинуть через плечо полевую сумку...
Но вот щелкать семечки самостоятельно мы Яшку все-таки научили. Он их брал губами с ладони. От Яшки мы впервые услышали упругое словечко «допинг». Он нам объяснил, что так называются особые лекарства — за границей их употребляют спортсмены, чтобы сразу прибавилось сил. Яшка уверял нас, что семечки очень похожи на допинг и что в них, кроме жиров и витаминов, есть еще какие-то неизвестные науке бодрящие вещества.
Не знаю, как насчет этих бодрящих веществ, но мне кажется, что в ту пору семечки обладали куда более важным и дорогим для нас свойством. Семечками можно было угощать, их можно было попросить. Наш хлеб не был общим, он был поделен на карточки, взвешен до грамма, а семечки несли стойкую службу свободы, равенства и братства.
...Девочка, что стояла всегда на углу под старым тополем, все-таки не убереглась от милиционера. Он подстерег ее у меня на глазах. Какая-то тетка долго рылась у себя в сумке, вытаскивая хитроумно запрятанные деньги, долго мусолила мятые бумажки, и девочка терпеливо ждала со стаканом в руке, а милиционер незаметно вышел из-за тополя и схватил за шиворот маленькую торговку. Я тоже поздно его заметила и не успела крикнуть. Девочка ужом извивалась в руках милиционера и все же изловчилась выскользнуть. Но мешок с семечками остался у него, почти полный мешок. А тетка спокойненько положила назад в сумку свои денежки. Выручка, с которой успела удрать девочка, не могла быть большой. На какие деньги она теперь купит нового товара?
Проходя мимо саманного дома с вмазанными в глину окошечками, я услышала, как старуха бранит девочку на непонятном языке, злобно и визгливо.
— Эй, послушайте! — я перегнулась через низкий осыпающийся дувал и увидела отвратительную старуху на пороге, за которым чернела нежилая пустота. — Эй, послушайте! Чего вы тут орете на всю улицу?
— Кет! — огрызнулась на меня старуха. Она гнала меня прочь бранным словом, каким гонят собак.
Из-за ее спины, из черной пустоты дома выглянула девочка с лицом, исполосованным грязными слезами. Она меня узнала и отвернулась.
— Сами посылаете ребенка торговать! — разозлилась я. — Сами посылаете, хотя запрещено, а теперь разоряетесь! Вы во всем виноваты, а не она вовсе!
Старуха схватила кетмень, прислоненный к двери, — кусок отточенного железа на длинной деревянной рукоятке — и замахнулась на меня. В ответ на ее угрозу я перепрыгнула через дувал и двинулась навстречу старухе.
— Ты уходи от нее! — говорила я девочке. — Ты в детдом уходи. Она тебя эксплуатирует. Она тебя до тюрьмы доведет. Но ты ее не бойся. Мы тебя в обиду не дадим.
Тут девочка кинулась между мной и старухой, угрожавшей кетменем.
— Неправда! Зачем плохо говоришь?.. Зачем обижаешь апай? Кто нас кормит? Апай всех кормит...
— Ты пойми! — горячилась я. — Чему она тебя учит! Она тебя спекулировать учит!
— Неправда! — Девочка, всхлипывая, гладила темными ладошками морщинистые щеки старухи, упрашивала, успокаивала ее, бормоча какие-то ласковые слова.
Старуха кинула кетмень, уселась на порог, из дому, осмелев, повылазили малыши.
— Эх, ты!.. — Я махнула рукой и полезла через дувал обратно на улицу.
Будь на моем месте Лилька, она бы этого так не оставила. Она бы растолковала девочке насчет прибавочной стоимости, она бы раскрыла маленькой спекулянтке всю неприглядную правду и доказала бы, какое ее ждет ужасное будущее, если она в десять лет промышляет такими противозаконными делами.
А я малодушно ушла. Мне очень жалко стало обеих — и девочку, и отвратительную старуху. Лилька мне объясняла потом, как поступают в таких случаях умные люди, — надо пойти в горсовет, в горком и совершенно официально проверить, кому принадлежит глинобитный дом, кто такая эта старуха и откуда у нее столько детишек. Я обещала, что непременно поступлю по-умному, но день за днем откладывала это дело, а девочка по-прежнему каждое утро торговала семечками на углу под старым тополем.
Но однажды утром я не увидела ее на привычном месте. И на другое утро тоже. И старуха не сидела там вместо нее. Я решила сходить их проведать. Во дворе стояла арба, доверху груженная тугими полосатыми мешками. Какие-то чужие люди взваливали на плечи тяжелые мешки и скрывались с ними в распахнутой настежь низкой двери. А где же старуха? Где девочка с семечками и другие ребятишки? Новые жильцы недружелюбно отвечали мне: «Не знаем». Внутрь дома — поглядеть, как там, — они меня не пустили. Таскали свои полосатые мешки, а я стояла за ветхим дувалом и покрикивала:
— Скажите, пожалуйста, куда они уехали! Какой у них новый адрес? Здесь бабушка жила! И дети! Где они теперь?
Новые жильцы вообще перестали мне отвечать; они делали вид, что не понимают, о чем я спрашиваю, не знают русского языка.
— Апай кайда? — кричала я, и опять мне не отвечали, только отмахивались, как от назойливой мухи.
Они вообще оказались очень осторожными и скрытными, эти новые жильцы низкого саманного домишки с вмазанными в глину стеклами вместо окон. Сразу, как переехали, они слепили себе новый дувал — толстенный и высоченный, выше самого дома, — и теперь к ним во двор нельзя было ни залезть, ни даже заглянуть. Семечками они не торговали. Какие-то люди подъезжали сюда по ночам и стучали в стекла, что-то привозили и увозили. Что-то там было нечисто, и уже не хотелось ходить и спрашивать, не пишут ли чего прежние хозяева. А под конец войны сюда нагрянула милиция, и вся улица узнала, что в саманном доме жили скупщики краденого, целая шайка.
Сорванная с петель дверь покачнулась под ногами, и я шагнула через порог в темноту дома. Свет еле пробивался сквозь куски немытых стекол; и, когда глаза мои привыкли, я увидела глиняный пол и кучу тряпья в углу, провисший потолок, небеленые стены с вылепленными в них нишами — в одной стояла керосиновая лампа без стекла, в другой — какие-то склянки. Возле самой двери чернели развалины печки, кто-то уже успел унести чугунные конфорки, решетку поддувала — больше ничего ценного в доме не было. Я поворошила ботинком прокопченные кирпичи, будто надеялась что-то под ними найти. Когда-то, давным-давно, здесь жарились семечки, потрескивали на сковороде и чадили, а потом девочка шла с ними на угол — с калеными, еще горячими; маленький стакан — пять рублей, большой — десять. И на каждые шестнадцать проданных стаканов она имела один стакан чистой прибыли плюс даровой обогрев жилья, вот этого дома с дверью прямо на улицу... Жутковато мне стало там, и я пустилась бежать без оглядки.
Наступили совсем другие времена, и семечек мы больше не грызли. Все уезжали на запад или собирались в отъезд. Лилька уже писала мне из Полтавы. Гавриил Сергеевич уехал в Минск, там он тоже стал деканом факультета журналистики. Сын его вернулся с войны и поступил в Московский институт международных отношений — так что у нашего Гавриила Сергеевича все шло очень хорошо. И наш университет, покинутый столичными знаменитостями, привыкал обходиться своими силами. В драмтеатре играли уже не москвичи Завадского, а местная труппа. Жизнь менялась быстро, и все реже вспоминался мне наш дружный курс, и наш добрый декан, и Лилька, и Яшка Кравчук, и та пестрая цыганка, что всем нам щедро нагадала дальнюю дорогу к родному дому, и педантичный историк, и девочка, у которой я по утрам покупала каленые семечки...
Еще несколько лет прошло, я уже заведовала в газете отделом промышленности. Была премьера в драмтеатре. Я, конечно, пошла. В антракте я почувствовала на себе чей-то взгляд. На меня пристально смотрела незнакомая молодая женщина, глаза у нее были темные, глубокие, и в них вдруг вспыхнула радость — она меня определенно узнала, а я, если бы не брови, сросшиеся на переносице, ни за что бы не вспомнила, кто она.
Когда женщина поняла, что я ее вспомнила, она беличьим ловким движением показала, как наполняет семечками стакан и досыпает его, чтобы был с верхом. Мы обе закивали головами и заулыбались друг другу, а ее спутник, тоже молодой и очень славный, наклонился к ней с удивленным вопросом, и она, смеясь, стала быстро-быстро ему что-то рассказывать. О чем? О том, как стояла с семечками на углу под старым тополем?
Я с тех пор часто замечала, сколько веселого может человек вынести — как ребенка из горящего дома — из самых черных дней своей жизни.
У входа в зал мы встретились.
— Вам нравится сегодняшний спектакль? — спросила она.
— Да, — ответила я, — занятная пьеса...
Больше мы ничего не сказали друг другу, как и прежде. И я от встречи с ней будто пошла дальше, давней дорогой в университет — туда, где молодость моя и глупость, где наш добрый декан, и авторитетная Лилька, и двадцатая промерзшая аудитория, и оттепель посреди зимы, и назойливая цыганка, нагадавшая всем нам и королей червонных, и всякого другого цыганского счастья.
С легким сердцем я вспомнила Лилькины логические предсказания насчет печального будущего девочки с семечками. Все было так убедительно, а не сбылось. Из цыганского гадания тоже не все исполнилось, но вряд ли кто на нее остался в обиде.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





