ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

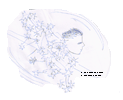
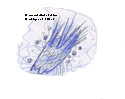
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Баранская Наталья 1969
Понедельник.
Я бегу, бегу и на площадке третьего этажа налетаю на Якова Петровича. Он просит меня к себе, спрашивает, как идет работа. Ни слова не говорит он о моем опоздании — я опоздала на пятнадцать минут. В прошлый понедельник было двенадцать, и он тоже беседовал со мной, только днем, интересовался, какие журналы, каталоги — американские, английские — я просмотрела. Тетрадка, в которой мы расписываемся в лаборатории по утрам, лежала тогда у него на столе, и он посматривал на нее, но ничего не сказал.
Сегодня он напоминает мне: в январе испытания нового стеклопластика должны быть закончены. Я отвечаю, что помню.
— В первом квартале мы сдаем заказ, — говорит он.
Я знаю, не могла ж я забыть?
Темные глазки Якова Петровича плавают в розовой мякоти лица, и, нащупав ими мой взгляд, он спрашивает:
— А вы не запоздаете с испытаниями, Ольга Николаевна?
Я вспыхиваю и растерянно молчу. Я, конечно, могу сказать: «Нет, что вы, конечно, нет». Лучше было бы сказать так. Но я молчу. Разве я могу ручаться?
Тихим ровным голосом Яков Петрович говорит:
— Учитывая ваш интерес к работе и... м-м-м... ваши способности, мы перевели вас на вакантное место младшего научного сотрудника, включили в группу, работающую над интересной проблемой. Не стану скрывать, нас несколько беспокоит... м-м-м... удивляет, что вы, так сказать, недостаточно аккуратно относитесь к работе....
Я молчу. Я люблю свою работу. Я дорожу тем, что самостоятельна. Я работаю охотно. Мне не кажется, что я работаю неаккуратно. Но я часто опаздываю, особенно в понедельник. Что я могу ответить? Надеюсь, что это просто разнос, ничего больше. Разнос за опозданья. Я бормочу что-то про ледяные тропки и сугробы в нашем необжитом квартале, про автобус, который приходит на остановку переполненным, про страшную толпу на «Соколе»... и с какой-то тоскливой тошнотой вспоминаю, что все это я уже говорила раньше.
— Надо постараться быть собраннее, — заключает Яков Петрович, — вы меня извините, так сказать, за нравоучения, но вы еще только начинаете свой трудовой путь... Мы вправе надеяться, что вы будете дорожить доверием, которое мы оказываем молодому специалисту...
Он растягивает губы, получается улыбка. От этой сделанной улыбки мне становится не по себе. Каким-то не своим, охрипшим, голосом прошу я извинить меня, обещаю быть собраннее и выскакиваю в коридор. Я бегу, но у дверей в лабораторию вспоминаю, что я не причесана, поворачиваю и бегу по длинным узким коридорам старого здания, бывшей гостиницы, в туалет. Я причесываюсь, положив шпильки на умывальник под зеркалом, и ненавижу себя. Ненавижу свои спутанные вьющиеся волосы, заспанные глаза, свое мальчишеское лицо с большим ртом и носом, как у Буратино. Почему я с таким вот лицом не родилась мужчиной?
Кое-как причесавшись, одергиваю свитер и вышагиваю обратно по коридорам — надо успокоиться. Но разговор с шефом крутится во мне, как магнитофонная лента. Отдельные фразы, интонации, слова — все кажется мне тревожно-значительным. Почему он говорил все время «мы» — «мы доверили», «нас беспокоит»? Значит, у него был разговор обо мне, с кем же? Неужели с директором? Как он сказал — «беспокоит» или «удивляет»? «Удивляет» — это еще хуже. А это напоминание о вакантном месте... его хотела получить Лидия Чистякова. По стажу у нее было преимущество, а выбор пал на меня — специальность ближе. И, конечно, помог мой английский — лаборатория здорово им пользуется.
Взяв меня в свою группу и поручив мне полгода назад испытания нового материала, Яков Петрович, конечно, рисковал. Я это понимаю. С Лидией он был бы спокойней за сроки... А вдруг он хочет передать ей мою работу? Это ужасно, ведь я сделала почти все опыты.
Но, может, я все преувеличиваю? Может, это просто моя постоянная тревога, вечная спешка, страх — не успею, опоздаю... Да нет, он хотел пробрать меня, его раздражают мои опоздания. Он прав. Наконец, это его обязанность. Мы же знаем своего зава — он работяга, ов аккуратист. Ну, хватит, довольно об этом!
Я переключаю мысли: сейчас я составлю сводку результатов испытаний на теплостойкость и жаростойкость, которые мы закончили в пятницу. Опыты в физико-химической лаборатории меня не беспокоят — они идут к концу. А вот физико-механические — это наше узкое место. В механической лаборатории не хватает установок, не хватает рук. Ну, руки ладно — у нас есть две пары своих, мы многое делаем сами. Но некоторые установки... на них целая очередь. Тут приходится «понаблюдать», как выражается Яков Петрович, или попросту «пробивать». Я пробиваю стеклопластик, из другой группы кто-то пробивает свое, и все мы бегаем на первый этаж, прыгаем перед старшей лаборанткой, которая составляет график испытаний и следит за очередностью, называем ее то Валечкой, то Валентиной Васильевной и всячески стараемся пролезть в какую-нибудь щель — пусть только она образуется.
Да, надо забежать к Вале. Спускаюсь вниз, толкаю дверь на пружине, навстречу мне вырывается упругая волна шума, но я преодолеваю ее и прохожу за стеклянную перегородку. Это Валила «конторка», всегда здесь народ, но сейчас она одна. Прошу ее «просунуть» нас на этой неделе. Валя качает головой — нет, но я продолжаю ее упрашивать.
— Может, во второй половине недели, заходите.
Теперь к себе, в лабораторию полимеров. В нашей «тихой» комнате, где мы обрабатываем результаты, ведем расчеты, девять человек, а столов помещается только семь. Но ведь всегда кто-то на опытах, в библиотеке, в командировке. Сегодня один из столов мой. И он простаивает уже сорок минут.
Вхожу. Меня встречает шесть пар глаз. Я киваю и говорю:
— Я заходила в механическую.
Голубые глаза Люси беленькой встревожены: «У тебя что-нибудь случилось?»; огненные глазищи Люси черной сочувственно укоряют: «Эх ты, опять?»; взгляд Марьи Матвеевны, поверх очков, предупреждает: «Только, пожалуйста, без разговоров!»; взор Аллы Сергеевны рассеян: «Кто там? Что там?»; Шурины круглые глаза, всегда немного испуганные, расширяются еще больше; укол острых зрачков Зинаиды Густавовны мгновенно разоблачает: «Знаем, какая механическая, — опоздала, имела разговор, вон щеки горят, а глаза расстроенные».
Наша группа — это обе Люси и я.
Руководитель — Яков Петрович. Но больше с делами группы возится Люся Маркорян. Когда я пришла работать в полимеры, новый стеклопластик был еще только задуман. Одна только Люся колдовала с аналитическими весами, колбами, термостатом. Работала над составом. Все считали, что идея нового стеклопластика принадлежит Маркорян, а потом оказалось — Якову. Я ее спросила как-то: «Люся Вартановна, почему говорят, что новый стеклопластик придумали вы?» Она посмотрела из меня: «Разве говорят? Ах, вот как... Ну, пусть себе говорят», — и больше ничего. Потом как-то обещала рассказать эту «преглупую историю». Пока молчит, я больше не спрашиваю.
Мне поручены испытания — что-то я делаю сама, что-то вместе с сотрудниками лабораторий, где ведутся опыты, обрабатываю и обобщаю результаты.
Люся беленькая (она же Людмила Лычкова) прессует и формует образцы для испытаний — строго по установленным стандартам — и вообще помогает во всяких делах.
Еще у нас Зинаида Густавовна, отчасти. На ней планирование и «канцелярия» по всем группам, переговоры с нашими заказчиками.
Дела всем хватает.
Вот я за столом, отодвигаю ящик, чтобы достать дневник испытаний, и тут замечаю на столе анкету. Наверху жирным шрифтом: «Анкета для женщин» — и карандашом в углу: «О. Н. Воронковой». Интересно! Оглядываюсь. Люся беленькая показывает мне такую же. Анкета большая. Читаю... Третий пункт: «Состав вашей семьи: ... муж... дети до 7 лет... дети от 7 до 17 лет.. пр. родственники, проживающие с вами...»; муж один, детей двое, бабушек-дедушек, увы, нет, прочие родственники сами по себе. Дальше такой вопрос: «Что посещают ваши дети — ясли, детсад, группу продленного дня в школе». Посещают, конечно, ясли и сад посещают мои малыши.
Составители анкеты хотят знать, в каких условиях я живу: «Отдельная квартира... жилплощадь... кв. метров... количество комнат, удобства...» Условия у меня прекрасные — новая квартира, тридцать четыре метра, три комнаты...
О! Да они хотят знать обо мне решительно все. Их интересует моя жизнь по часам... «в принятую единицу времени». Ага, «единица» — это неделя. Сколько часов у меня уходит на: «а) домашнюю работу, б) занятия с детьми, в) культурный досуг». Досуг расшифрован: «радио- и телепередачи, посещение кино, театра и проч., чтение, спорт, туризм и проч.»
Эх, досуг, досуг... Слово какое-то неуклюжее «досуг»... «Женщины, боритесь за культурный досуг!» Чушь какая-то... До-суг. Я лично увлекаюсь спортом — бéгом. Туда бегóм — сюда бегóм. В каждую руку по сумке и... вверх-вниз: троллейбус — автобус, в метро — из метро. Магазинов у нас нет, живем больше года, а они все еще недостроены.
Так комментирую я про себя анкету. Но вот следующий вопрос, и всякая охота остроумничать у меня пропадает: «Освобождение от работы по болезни: вашей, ваших детей (количество рабочих дней за последний год; просим дать сведения по табелю)». Прямо пальцем в больное место! К утреннему разговору с шефом... Что у меня двое детей, начальству, конечно, известно. Но сколько дней я просиживаю из-за них дома, никто не подсчитывал. Познакомятся с этой статистикой и вдруг испугаются. Может, я сама испугаюсь — я ведь тоже не подсчитывала. Знаю, что много... А сколько?
Сейчас декабрь, в октябре был грипп у обоих — начала Гулька, потом заболел Котька, кажется, две недели. В ноябре простуда — остатки гриппа дали себя знать по плохой погоде, дней восемь. В сентябре была ветрянка — принес ее Котька. С карантином получилось чуть ли не три недели... Вот ведь уже не помню! И так всегда — один уже здоров, а у другого в разгаре.
А что еще может быть? — думаю я в страхе за ребят, за работу. Корь, свинка, краснуха... и, главное, грипп и простуда, простуда. От плохо завязанной шапки, от плача на прогулке, от мокрых штанов, от холодного пола, от сквозняков... Врачи пишут в справке ОЗД — «острое заболевание дыхательных». Врачи торопятся. Я тоже тороплюсь, и мы отводим ребят еще с кашлем, а насморк у них не проходит до лета.
Кто придумал эту анкету? Зачем она? Откуда взялась? Я верчу ее, но не нахожу никаких данных о составителях. Смотрю на Люсю черную и делаю ей знак глазами — «выйдем». Но сразу же поднимается и Люська беленькая, и мы оказываемся за дверьми втроем. Это жаль. Мне так хотелось поговорить с Люсей Маркорян об утренней беседе, работе, анкете — обо всем вместе. Люська — добрая душа, но говорить при ней я не буду, она болтушка, всякая информация ее распирает.
Маркорян тотчас закуривает и, выпустив на нас клуб дыма, спрашивает с вызовом:
— Ну что?
Это значит: «Как тебе анкета?» — я понимаю. Но Люся беленькая возмущается:
— Как — «что»? Она же ничего не знает, она опоздала...
— Еще и опоздала! — говорит Люся черная с насмешливым сочувствием и кладет мне на плечо руку, худую, как птичья лапа. — Неужели ты не можешь не опаздывать, Буратинка, а?
— К нам приходили эти самые, ну... демографы, — торопится Люська выложить новость, — и сказали, что экспериментально проведут анкету еще в нескольких женских институтах и на предприятиях...
— Институт у нас, правда, мужской, но с женскими лабораториями, — вставляет Люся черная.
— Да ну тебя! — отмахивается Люська. — А потом, если опыт пройдет удачно, такую анкету проведут по всей Москве.
— Что значит «удачно», — спрашиваю я Люсю черную, — и вообще чего они хотят?
— Черт их знает, — отвечает она, вздернув острый подбородок, анкета — это теперь модно. В общем, они надеются выяснить важный вопрос: почему женщины не хотят рожать?
— Люся! Они ж этого не говорили! — возмущается Люся беленькая.
— Говорили. Только называли это «недостаточные темпы прироста населения». Мы вот с тобой даже не воспроизводим населения. Каждая пара должна родить двоих или, кажется, даже троих, а у нас только по одному... (Тут Люся вспоминает, что беленькая — «мать-одиночка»). Тебе хорошо — с тебя не посмеют спрашивать. Оле тоже хорошо — она план выполнила. А я? Мне вот дадут план и тогда — прощай моя диссертация!
Они говорят, я смотрю на них и думаю: «Люся Маркорян похожа на обгорелую головешку, Людмилка — на пушистого белого барашка, а если судить «по-анкетному», то первая — самая благополучная, а вторая — самая обездоленная из четырех «мамашенек» нашей лаборатории».
Мы все знаем друг про друга. Муж Люси черной — доктор наук, недавно построили большую кооперативную квартиру, денег хватает, у пятилетнего Маркуши есть няня. Кажется, куда лучше? А на самом деле вот что: доктор пять лет допекает Люсю тем, что она эгоистка, губит ребенка, доверяет воспитание чужим старухам (отдать мальчика в детский сад он не разрешает). Люся вечно ищет очередную пенсионерку «сидеть с ребенком». Доктор настаивает, чтобы Люся оставила работу, он хочет второго ребенка и вообще «нормальную семью».
У Люси беленькой мужа нет. Вовкин отец, капитан, слушатель какой-то военной академии, приехавший из другого города, скрыл от Люськи, что у него семья. Узнала она об этом поздновато. Когда Люська сказала капитану, что она на четвертом месяце, он исчез как провалился. Мать Люськи, приехавшая из деревни, сначала чуть не прибила дочь, потом пошла жаловаться на капитана «самому главному начальнику», потом плакала вместе с Люськой, ругала и кляла всех мужчин, а потом осталась в Москве и теперь нянчит внука, ведет хозяйство. От дочери она требует только — делать покупки, стирать большую стирку и обязательно ночевать дома.
Меньше всего мы знаем про Шуру. Сынишка ее учится в третьем классе. После школы, до прихода матери, он дома один. От группы продленного дня Сережа отказался наотрез, хозяйничает. Шура за день звонит домой несколько раз: «Как поел? Не забыл газ выключить?.. Дверь, смотри, не оставь, когда пойдешь гулять!.. (А ключ у него на тесемке пришит к курточке.) Учишь ли уроки? Не зачитывайся». Серьезный парнишка! У Шуры муж пьет. Она скрывает, но мы догадались давно. Мы ее не спрашиваем о муже.
Должно быть, самая счастливая из нас — я.
Хохму Люси Маркорян насчет «плана по детям» Люся беленькая, в которой бушует любопытство, принимает всерьез.
— Как... план? — ахает она, и ее тонкие бровки взлетают под самые кудряшки. — Не может быть?! Ах, ты шутишь?! — В голосе ее слышно разочарование. — Ну, конечно, шутишь... А я думаю, девочки, что анкета — это не просто так. Дадут нам, матерям, какие-нибудь льготы. А? Вот рабочий день сократят. Может, начнут больничные за детей оплачивать, не только три дня... Вот увидите. Раз изучают, что-нибудь да сделают.
Люся беленькая волнуется, трясет завитками волос, круглое лицо ее разгорается.
— Ах ты, «белая овечка, дай шерсти колечко», — говорит Люся черная словами из детской песенки. — Строителей у нас мало, рук на все не хватает. Вот в чем дело. Ясно тебе? Уже сейчас строителей не хватает. А что будет дальше? Дальше кто будет строить?
— Что строить? — спрашивает Люська с горячим интересом.
— Все: дома, заводы, станки, мосты, дороги, ракеты, коммунизм... В общем, все. А защищать это все кто будет? А землю нашу заселять?!
Я слушала и не слушала. Утренний разговор опять завертелся в голове... «Советую вам быть собраннее», — сказал Яков. Может быть, уже все решено и мою работу передают Лидии? Опаздываю, распустилась... Плохо! А тут еще дойдут до него мои «показатели» по болезням...
Как жаль, что не удалось поговорить с Люсей Маркорян. Но она и сама видит, что со мной что-то не так. Обняв меня за плечи и чуть притянув к себе, она говорит нараспев, покачиваясь вместе со мной:
— Не волнуйся ты, Оля, тебя не уволят...
— Еще бы посмели ее уволить, — вскипает Люська беленькая внезапно, как молоко, — с двумя-то детьми? Да и сначала положено выговора давать, а у тебя пока одно замечание...
Тоже за опоздания.
Мне становится стыдно — Люська такая добрая, отзывчивая, а я не захотела при ней говорить о своих делах.
— Понимаете, девочки, боюсь я, все время боюсь не успеть со своими испытаниями. Через месяц срок...
— А! Не психуй, пожалуйста, — обрывает меня Люся Маркорян.
— Что значит «не психуй»? — кидается на нее Люська. — Видишь, человек переживает... Ты бы ей сказала: «Успокойся, не нервничай». Правда, Оля, ты зря переживаешь. Ей-богу! Вот увидишь — все будет хорошо...
От этих простых слов у меня вдруг схватывает горло. Надо бы еще зареветь! Выручает Люся черная.
— Слушайте, красавицы, — энергично хлопнув нас по плечам, говорит она, — а что, если нам устроить тройной обмен? Люся берет мою квартиру, я переезжаю к Ольге, Ольга к Люсе.
— Ну и что? — недоумеваем мы.
— Нет, ерунда... — Люся Маркорян чертит пальцем в воздухе. — Нет, надо вот как: Оля переезжает ко мне, я — к Люське, а Люся к Оле. Вот так получится то, что надо.
— Хочешь сменять свою трехкомнатную квартиру на мою комнату в коммунальной? — усмехается Люся беленькая.
— Нет, не хочу, но... приходится. Проигрываю на метраже и удобствах — ванной нет? Есть? — но зато выигрываю в другом, более важном. Ты, беленькая, на этом тоже не потеряешь — Олин Дима чудесный. Мой Сурен будет счастлив — Оля моложе и, кажется, толще меня... А мне нужна бабушка, вот как нужна! Ну как — пойдет? Выручайте бедного диссертанта.
— А, идите вы, — кричит Люся беленькая, вспыхнув, — ни о чем серьезном поговорить не можете! — И она резко поворачивается, чтобы уйти, но тут дверь распахивается, и Люська чуть не налетает на Марью Матвеевну.
— Товарищи, вы так шумите, — говорит Марья Матвеевна басом, — что мешаете работать. Что-нибудь случилось?
Я хватаю Люсю беленькую за руку, и вовремя — она уже набирает воздуху, чтобы одним духом выложить Эм-Эм (так между собой зовем мы Марью Матвеевну) весь разговор.
Мы все уважаем Марью Матвеевну. Нам нравится ее душевная чистота. Но говорить с ней на серьезные темы невозможно. Мы заранее знаем, что она скажет. Мы считаем ее старой «идеалисткой», нам кажется, что она несколько... абстрагировалась, что ли. Обычная жизнь ей просто незнакома — она парит над нею высоко, как птица. Биография ее исключительна: производственная коммуна в начале тридцатых, в сороковые — фронт, политотдел. Живет она одна, дочери воспитывались в детдоме, давно уже у них свои дети. Занята Марья Матвеевна только работой — производственной, партийной. Ей уже семьдесят.
Мы чтим Эм-Эм за все ее заслуги — как может быть иначе?
— Так что у вас тут? — спрашивает Марья Матвеевна строго.
— Да вот, Буратинку прорабатываем, — улыбается Люся черная, — Олю...
— В связи с чем это?
— За опозданье... — торопливо вставляет Люська, и напрасно.
Марья Матвеена укоризненно качает головой — «так я вам и поверила»... Мне становится неловко, Люсям, я вижу, тоже. Невозможно держать себя так с Эм-Эм.
— Вот, Марья Матвеевна, — говорю я вполне искренне, хоть и не отвечаю на ее вопрос, — как странно получается: у меня двое детей, и я этого... стесняюсь, что ли... Мне почему-то неловко — двадцать шесть лет и двое детей, вроде это...
— Дореволюционный пережиток... — подсказывает Люся черная.
— Что вы такое говорите, Люся! — возмущается Марья Матвеевна. — Не выдумывайте, Оля. Вам надо гордиться тем, что вы хорошая мать, да еще и хорошая производственница. Вы настоящая советская женщина.
Эм-Эм говорит, а я спрашиваю — про себя, конечно, — почему мне надо гордиться; такая ли уж я хорошая мать; стоит ли меня хвалить как производственницу и что же входит в понятие «настоящая советская женщина»?! Бесполезно спрашивать об этом саму Марью Матвеевну — она не ответит.
Мы успокаиваем Эм-Эм тем, что у меня просто такое настроение, оно, конечно, пройдет.
Все возвращаются в комнату. Даже про анкету толком не узнала — когда и кому надо ее сдать? Но тут же получаю записку: «Анкеты будут собирать в следующий понедельник от нас лично. Хотят знать наше мнение. У них могут быть вопросы. А у нас? Люся М.»
Спасибо, и хватит про анкету.
Я нахожу в дневнике пятницу и выписываю на листок последние опыты — для Люси Маркорян. Потом достаю большой, как газета, лист бумаги, расчерчиваю его по форме. Это будет сводный график всех проведенных испытаний. Он строится по данным нашего дневника.
Первый состав стеклопластика проявил повышенную ломкость. Дорабатывали рецептуру связующих. Потом начали вторую серию испытаний. Опять все сначала: гигроскопичность, влажность, теплостойкость, жаростойкость, огнестойкость... Никогда не представляла, что такая тщательность, осторожность, такое внимание могут быть отданы... канализационным трубам и крышам.
По этому поводу давно был разговор с Люсей черной. Я призналась, что мечтала попасть в другую лабораторию. Люся посмеялась: «Молодежь хитрая, все хотят работать на космос, а кто ж земную нашу жизнь будет устраивать?» А потом вдруг спросила: «А вы никогда не жили в доме, где людям на головы льются нечистоты из старых ржавых труб и проваливаются потолки?» Выяснилось, что раньше мы обе жили именно в таких домах. Только я, должно быть, не очень над этим задумывалась.
Чем больше я возилась с новым стеклопластиком, тем больше увлекалась. Теперь мне не терпится закончить испытания доработанного состава. Как он будет переносить нагрузки? Какую прочность обнаружит? И как раз в механической затор. Затор и пробка.
А все остальное идет нормально. Вот я начинаю заполнять график данными физико-химических испытаний — они почти закончены. Медленно выстраиваю колонки цифр, листаю дневник. «Водостойкость. Образец № 1... Образец № 2... Образец № 3... вес в миллиграммах... время погружения 15 ч. 20 м., время извлечения 15 ч. 20 м. = 24 ч., вес после извлечения...» Пальцы левой руки придерживают линейку на нужной странице, правая рука выписывает цифру — среднее, выведенное из результатов трех опытов, — в таблицу.
Надо быть очень внимательной, ошибаться нельзя.
— Оля, Оля, — зовет меня тихий голос, — без десяти два, я ухожу, говори, что тебе?
Сегодня очередь Шуры делать закупки для «мамашенек». Такое у нас правило — покупать продукты сразу для всех. И перерыв себе выпросили с двух до трех, когда в магазинах меньше народа. Заказываю масло, молоко, кило докторской да еще булку — здесь поесть. Никуда не пойду, буду работать — столько времени сегодня потеряла.
Люся черная куда-то скрылась, думаю, тоже наверстывает упущенное. Точно! Она появляется за десять минут до конца перерыва. Платье и волосы ее пахнут вроде бы лаком — знакомый запах нашего состава. Она голодна, как зверь, и мы съедаем половину моей колбасы, разорвав надвое булку, и запиваем свой обед водой из-под крана в нашей лаборатории.
Я опять углубляюсь в график. Вторая половина дня проходит так быстро и незаметно, что я не сразу понимаю, почему в «тихой» комнате вдруг становится так шумно. Оказывается, все уже собираются домой.
Опять автобус, и опять перегруженный, потом метро, месиво пересадки на «Белорусской». И опять надо спешить, спешить, опаздывать нельзя: мои возвращаются к семи.
Я еду в метро с комфортом — стою в углу возле закрытой двери. Стою и зеваю. Зеваю так, что парень рядом не выдерживает:
— Девушка, интересно, что вы делали сегодня ночью?
— Детей баюкала, — отвечаю я, чтобы отстал.
Я зеваю и вспоминаю сегодняшнее утро. Утро понедельника. Еще ночь, темно, все спят — телефон. Звонит долго — междугородный. Никто не подходит. Я тоже не хочу вставать. Нет, это звонят у двери. Телеграмма? Может, от тети Веры — вдруг приезжает? Я лечу в переднюю. Телеграмма лежит на полу, уже распечатанная, но в ней нет ни одного слова, только дырочки, как на перфокарте. Я плавно пролетаю над немой телеграммой и поворачиваю обратно, чтобы вернуться в постель... Только теперь до меня доходит, что звонит будильник, и я говорю ему: «Застрелись ты». Он сразу же замолкает. Становится тихо-тихо. Темно. Темно и тихо. Тихая темнота. Темная тихота...
Но я вскакиваю, быстро одеваюсь, все крючки на поясе попадают в свои петли, и — о чудо!—даже оторванный пришит. Я бегу на кухню — ставить чайник и воду для макарон. И опять чудо: конфорки пылают, вода в кастрюле бурлит, чайник уже шумит. Он посвистывает, как птица, — фюить-фу, фюить-фу. И вдруг я понимаю: свистит не чайник, а мой нос. Но я не могу проснуться. Тут меня начинает потряхивать Дима, я чувствую его ладонь на спине, он покачивает меня и говорит:
— Олька, Олька, да Оля, проснись же наконец, опять будешь бежать как сумасшедшая.
Тут я действительно встаю: одеваюсь медленно, крючки на поясе попадают не в те петли, а один оторван.
Иду на кухню, зацепляюсь за резиновый коврик в передней и чуть не падаю. Нет газа, спичка гаснет, обжигая мне пальцы. А! Я забыла повернуть ключ. Наконец я в ванной. Умывшись, я погружаю лицо в теплое мохнатое полотенце, вроде бы засыпаю еще на полсекунды и просыпаюсь со словами: «Да провались оно все!»
Но это чепуха. Нечему проваливаться — все хорошо, все прекрасно. Мы получили квартиру в новом доме, Котька и Гулька чудесные ребята, мы с Димой любим друг друга, у меня интересная работа. Проваливаться совершенно нечему, незачем, некуда. Чепуха!
Вторник.
Сегодня я встаю нормально — в десять минут седьмого я уже готова, только не причесана. Я чищу картошку — заготовка к ужину, — помешиваю кашу, варю кофе, подогреваю молоко, бужу Диму, иду поднимать ребят. Зажигаю в детской свет, говорю громко: «С добрым утром, мои лапушки!» — но они спят. Похлопываю Котьку, тормошу Гульку, потом стаскиваю с обоих одеяла — «подъем!». Котя становится на колени, зарывается лицом в подушку. Гульку я беру на руки, она отбивается от меня ногами и орет. Я зову Диму — помогать, но он бреется. Оставляю Котьку в покое, натягиваю на обмякшую Гульку рубашонку, колготки, платьице, а она скользит с моих колен на пол. В кухне что-то шипит — ой, я забыла выключить молоко! Сажаю Гульку на пол, бегу в кухню.
— Эх ты! — говорит мне свежевыбритый красивый Дима, выходя из ванной.
Мне некогда, я молчу. Брошенная Гулька заводится с новой силой. От ее крика наконец просыпается Котя. Я даю Гульке ее ботинки, она успокаивается и начинает, покряхтывая и сопя, крутить их возле толстых ножек. Котя одевается сам, но так медленно, что невозможно ждать. Я помогаю ему и тут же причесываюсь. Дима накрывает к завтраку. Он не может найти колбасу в холодильнике и зовет меня. Пока я бегаю к Диме, Гулька утаскивает и прячет мою гребенку. Искать некогда. Я закалываю полурасчесанные волосы, кое-как умываю детей, и мы садимся за стол. Ребята пьют молоко с булкой, Дима ест, а я не могу, выпиваю только чашку кофе.
Уже без десяти семь, а Дима все еще ест. Пора одевать детей, быстро, обоих сразу, чтоб не вспотели.
— Дай же мне выпить кофе, — ворчит Дима.
Я сажаю ребят на диван, приволакиваю весь ворох одежек и работаю за двоих: носки и носки, одни рейтузы, другие рейтузы, джемпер и кофта, косынка и другая, варежки и...
— Дима, где Котькины варежки?
Дима отвечает: «Почем я знаю», но бросается искать и находит их в неположенном месте — в ванной. Сам туда и сунул вчера. Вколачиваю две пары ног в валенки, напяливаю шапки на мотающиеся головенки, спешу и кричу на ребят, как кричат, запрягая лошадей, — «стой же, стой, тебе говорят!». Тут подключается Дима — надевает им шубки, подвязывает кашне и пояса.. Я одеваюсь, один сапог не лезет, ага, вот она, моя гребенка!
Наконец мы выходим. Последние слова друг другу: «Заперла двери?» — «Деньги у тебя есть?» — «Не беги как сумасшедшая». — «Ладно, не опоздай за ребятами» (это я кричу уже снизу) — и мы расстаемся.
Пять минут восьмого, и, конечно, я бегу. Издали, со своей горки, я вижу, как быстро растет очередь на автобус, и лечу, взмахивая руками, чтоб не упасть на скользкой тропке. Автобусы подходят полные, сядут человек пять из очереди, потом кинутся несколько смельчаков из хвоста, кто-то везучий успевает ухватиться за поручень, автобус пыхнет, взревет и тронется, а из дверец еще долго торчит нога, пола или портфель.
Сегодня я среди смельчаков. Вспомнила студенческие годы, когда я была бегунья, прыгунья Оля-алле-гоп. Раскатываюсь по льду, прыгаю и хватаюсь и очень хочу, чтобы еще ухватился кто-нибудь сильный и втиснул меня внутрь. Так и получается. Когда мы утрясаемся немного, мне удается вытащить из сумки «Юность». Читаю давно всеми прочитанную повесть. Читаю даже на эскалаторе и кончаю последнюю страничку на автобусной остановке у Донского. В институт я успеваю вовремя. Прежде всего, конечно, к Вале в механическую. Она сердится:
— Что вы все бегаете? Сказала же — во вторую половину недели.
— Значит, завтра?
— Нет, послезавтра.
Она права. Хорошо бы, конечно, не бегать... Но другие бегают, и страшно, что ты можешь прозевать какое-нибудь «окно».
Поднимаюсь к себе. Прошу Люсю беленькую приготовить на завтра образцы для испытаний в электролаборатории. Снова сажусь за сводный график. В половине первого иду в библиотеку сменить журналы и каталоги.
Я систематически просматриваю американские и английские издания по стройматериалам: у нас всегда, а в Ленинской, научно-технической, патентной — когда удается выбраться. Я довольна, что занималась английским серьезно еще со школы. Полистать минут двадцать журналы после двух-трех часов работы — это отдых и удовольствие. Все интересное для нашей лаборатории показываю Люсе Маркорян, Якову Петровичу. Он тоже «англичанин», но послабее меня.
Сегодня в библиотеке я успеваю просмотреть «Стройматериады-68», познакомиться с новыми выпусками реферативного журнала, перелистать каталог одной американской фирмы.
Смотрю на часы — без пяти два. Я забыла сдать свой «заказ» на покупки!
Я бегу к себе, по дороге вспоминаю, что я так и осталась непричесанной. Меня разбирает смех. Запыхавшаяся, лохматая, влетаю я в нашу комнату и оказываюсь в центре сборища — комната полна. Собрание? Митинг? Неужели забыла?
— А вот, кстати, спросите у Оли Воронковой, какими интересами она руководствовалась, — говорит Алла Сергеевна, обращась к Зинаиде Густавовне.
Я вижу по лицам, что идет какой-то горячий разговор. Обо мне? Может, я в чем-то провинилась?
— У нас разгорелась дискуссия вокруг этой анкеты, — поясняет мне Марья Матвеевна, — Зинаида Густавовна подняла интересный вопрос: станет ли женщина, разумеется, советская женщина, руководствоваться общенародными интересами в таком деле, как рождение детей.
— И вы хотите спросить меня и таким образом вопрос решить, — отвечаю я, успокоившись (я-то думала, что-нибудь по работе).
Я, конечно, главный авторитет в вопросах деторождения, но мне это надоело. Кроме того, «интересный вопрос» Зинаиды — просто глупый вопрос, если даже и поверить, что он сделан из чистого интереса. Но зная Зинаиду с ее вечными подковырками и ехидством, надо думать, что вопрос ее «вредный» и кому-то Зинаида хочет вколоть шпильку. Сама она в том счастливом возрасте, когда детей уже не рожают.
Шура разъясняет мне вполголоса, что спор закрутился вокруг пятого вопроса анкеты: «Если вы не имеете детей, то по какой причине: медицинские показания, материально-бытовые условия, семейное положение, личные соображения и пр. (нужное подчеркнуть)».
Я не понимаю, зачем спорить, когда каждая может отвести вопрос, подчеркнув «личные соображения». Я бы даже подчеркнула «пр.». Но пятый вопрос всех заинтересовал, а наших бездетных даже задел.
Алла Сергеевна определила его как «чудовищную бестактность», Шура возразила:
— Не больше, чем вся анкета.
Люся беленькая, впитавшая из вчерашнего разговора самое тревожное («кто будет землю нашу зеселять»), бросилась на защиту анкеты:
— Надо же искать выход из серьезного и даже опасного положения — демографического кризиса.
Лидия, моя соперница в конкурсе на младшего научного, имеющая двоих обожателей, сказала:
— Те, кто замужем, те пусть и ликвидируют кризис.
Варвара Петровна, доброжелательная и спокойная, поправляет Лидию:
— Если проблема общенародного значения — значит, касается всех... до определенного возраста.
Люся черная пожимает плечами:
— Стоит ли спорить о таком бесперспективном деле, как эта анкета?
Сразу раздалось несколько голосов:
— Почему бесперспективное?
Люся обосновывает тем, что составители в качестве причин отказа от ребенка выдвигают в основном личные мотивы, а значит, они признают, что каждая семья, заводя ребенка, руководствуется соображениями личного плана, стало быть, «повлиять на это дело никакими демографическими обследованиями не удастся».
— Ты же забываешь «материально-бытовые условия» — смотри, — возражаю я.
Марье Матвеевне не понравилось скептическое замечание Люси Маркорян. Она сказала:
— У нас сделано колоссально много, чтобы раскрепостить женщину, и нет никаких оснований не доверять стремлениям сделать еще больше.
— Может быть, лучший результат дал бы узкопрактический подход к проблеме, — сказала Люся черная. — Вот во Франции государство платит матери за каждого ребенка... Наверное, это действеннее, чем всякие анкеты.
— Платит? Как на свиноферме?! — брезгливо скривила рот Алла Сергеевна.
— Выбирайте слова! — мужской голос Эм-Эм раздается одновременно с пискливым Люськиным:
— Для вас что свиньи, что люди — все одно?!
— Так то во Франции, там же капитализм, — пожимает плечами Лидия.
Мне весь этот шум надоел. Уже поздно. Ужасно хочется есть. Кому-то из «мамашенек» пора идти за покупками. И наконец, надо же мне причесаться?! Да и вообще хватит с меня этой анкеты. Я поднимаю руку — внимание! — и становлюсь в позу.
— Товарищи! Дайте слово многодетной матери! Заверяю вас, что я родила двоих детей исключительно по государственным соображениям. Вызываю вас всех на соревнование и надеюсь, что вы побьете меня как по количеству, так и по качеству продукции!.. А теперь —умоляю — дайте кто-нибудь хлебца...
Я-то думала их насмешить, да и на этом и кончить споры. Но кто-то обиделся и началась откровенная склока. Со всех сторон полетели ядовитые реплики, голоса поднялись, заглушая друг друга. Слышались только обрывки фраз: «...важное дело превращать в цирк», «...если животный инстинкт преобладает над разумом...», «бездетники все эгоисты», «...сами себе портят жизнь», «еще вопрос, какая жизнь испорченная», «... добровольно взялись увеличивать население...», «...а кто вам пенсии платить будет, если смены молодой не хватит», «...только та женщина настоящая, которая может рожать...» и даже «...кто влез в петлю, тот пусть молчит...» (!).
А во всем этом хаосе два трезвых голоса — сердитый Марьи Матвеевны: «Это же не спор, а какой-то базар» — и спокойный Варвары Петровны: «Товарищи, ну что вы так разгорячились, в конце концов каждая из вас сама выбрала свою долю»...
Стало потише, и тут мелкая душонка Зинаиды вырвалась визгливым вскриком:
— Сама-то сама, а вот когда приходится за них дежурить, или в командировку на заводы таскаться, или на отчетно-выборном вечере просидеть, то и нас касается.
На этом наш бабий разговор об анкете и деторождении закончился. И теперь я вдруг пожалела: можно было поговорить серьезно, даже интересно было бы поговорить.
По дороге домой я все еще думала об этом разговоре... «...Каждая выбрала свою долю...» Так ли уж свободно мы выбираем? Я вспоминаю, как сотворилась Гулька.
Конечно, мы не хотели второго ребенка. У нас еще Котька был совсем малыш. Полутора ему не было, когда я поняла, что опять беременна. Я пришла в ужас, я плакала. Записалась на аборт. Но чувствовала я себя не так, как с Котькой, — лучше и вообще по-другому. Сказала я об этом в консультации немолодой женщине, соседке по очереди. А она вдруг говорит: «Это не потому, что второй, а потому, что теперь девочка». Я тотчас ушла домой. Прихожу, говорю Диме: «У меня будет девочка, не хочу делать аборт». Он возмутился: «Что ты слушаешь бабью болтовню!» — начал меня уговаривать не дурить и ехать за направлением.
Но я поверила и теперь стала видеть девочку, светленькую и голубоглазую, как Дима (Котя каштановый, кареглазый — в меня). Девочка бегала в коротенькой юбочке, трясла смешными косичками, качала куклу. Дима сердился, когда я рассказывала ему, что вижу, и мы поссорились.
Подошел самый крайний срок. Был у нас решительный разговор. Я сказала: «Не могу я убивать свою дочку только потому, что нам будет труднее жить» — и заплакала. «Не реви ты, дуреха, ну, рожай, если ты такая безумная, но вот увидишь — родишь второго парня!» Тут Дима осекся, долго смотрел на меня молча и, хлопнув ладонью по столу, вынес резолюцию: «Итак, решено — рожаем; хватит реветь и спорить. — Он обнял меня. — А что, Олька, второй мальчик — это тоже неплохо... Косте в компанию». Но родилась Гулька и была сразу такая хорошенькая — беленькая, светленькая, до смешного похожая на Диму.
Мне пришлось уйти с завода, где я проработала всего полгода (с Котькой я уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась). Дима взял вторую работу — преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки, ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет, Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли (с двумя я одна не могла управиться), а он постоянно болел и больше был дома.
Выбирала ли я такое? Нет, конечно, нет. Жалею ли я? Нет, нет. Об этом даже говорить нельзя. Я так их люблю, наших маленьких дурачков.
И я спешу — скорей, скорей к ним. Я бегу, сумки с продуктами мотаются и бьют меня по коленкам. Я еду в автобусе, а на моих часах уже семь. Вот они уже пришли... Только бы Дима не давал им напихиваться хлебом, не забыл поставить на газ картошку.
Я бегу по тропкам, пересекая пустыри, взлетаю по лестнице... Так и есть — дети жуют хлеб, Дима все забыл, он углубился в технические журналы. Зажигаю все конфорки: ставлю картошку, чайник, молоко, бросаю на сковороду котлеты. Через двадцать минут мы ужинаем.
Мы едим много. Я вообще первый раз за день по-настоящему. Дима после столовой тоже не очень сыт. Ребята — кто их знает, как они ели.
Детей размаривает от горячей и обильной еды, они уже подпирают щеки кулаками, глаза заволакивает сном. Надо тащить их быстро в ванну под теплую струю, класть в кроватки. В девять они уже спят.
Дима возвращается к столу. Он любит спокойно напиться чаю, посмотреть газету, почитать. А я мою посуду, петом стираю детское — Гулькины штанишки из яслей, грязные передники, носовые платки. Зашиваю Котькины колготки, вечно он протирает коленки. Готовлю всю одежду на утро, собираю Гулькины вещи в мешочек. А тут Дима тащит свое пальто — в метро ему опять оторвали пуговицу. Еще надо подмести, выбросить мусор. Последнее — обязанность Димы.
Наконец все переделано, и я иду принимать душ. Я это делаю всегда, даже если мне дурно от усталости. В двенадцатом часу я ложусь. Дима уже приготовил постель на нашем диване. Теперь он идет в ванную. Уже закрыв глаза, я вспоминаю, что опять не пришила крючок к поясу. Но никаким силам не вытащить меня из-под одеяла.
Через две минуты я сплю. Я еще слышу сквозь сон, как ложится Дима, но не могу открыть глаза, не могу ответить на какой-то его вопрос, не могу поцеловать его, когда он целует меня... Дима заводит будильник, через шесть часов эта адская машина взорвется. Я не хочу слышать скрежета часовой пружины и проваливаюсь сквозь диван в глубокий, темный и теплый сон.
Среда.
После вчерашнего «базара» всем как-то неловко, все подчеркнуто вежливы и сосредоточенно работают.
Я беру дневник испытаний и ухожу в электролабораторию, где меня ждет Люська. Она уже на месте. Кокетничает с новым лаборантом, ахает и охает, глядя на устрашающие надписи «ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!», как будто видит все в первый раз.
Здесь мы не хозяйничаем, а только присутствуем.
Образцы наши, помещенные еще вчера в термостаты с заданной температурой и влажностью, теперь закладываются в прибор, определяющий электрическое сопротивление. Шесть пластинок, одна после другой, — это поверхностное сопротивление, а еще шесть — объемное.
Люська делает вид, что боится — «еще убьет», пятится к двери и как-то незаметно смывается.
Удивляет она меня: руками работает ловко, что ей раз покажут — запомнит, но в суть дела вникать не хочет. Я пыталась втянуть ее в расчеты, объяснять формулы. Она говорит: «Я и так все знаю — теплостойкость, чтобы трубы не растаяли, искростойкость, чтобы крышу молнией не пробило». Жалеет, что пошла в наш техникум. Очень любит шить, хотела учиться на закройщицу, да боится: «Кто теперь женится на портнихах».
В перерыв моя очередь делать закупки. Продукты на всех — нелегкое дело. Не только потому, что тяжело тащить. А потому, что тебя непременно будет ругать очередь, хоть и самая маленькая. Купишь колбасу раз, да еще раз, да еще... И начинаются реплики: «Вы что же, для буфета закупаете?» — «Всю квартиру обслуживает, а мы тут стой...» У нас в Москве все всегда спешат. Даже те, кому некуда. Ток спешки заряжает всех подряд. В магазинах лучше всего молчать.
С видом угрюмым и замкнутым покупаю я в гастрономическом отделе три полкило масла, шесть бутылок молока, три кефира, десять плавленых сырков, два кило колбасы и дважды по триста граммов сыра. Очередь сносит это терпеливо, но под конец кто-то вздыхает притворно:
— А все жалуются — денег мало.
Подгружаюсь еще в полуфабрикатах четырьмя десятками котлет и шестью антрекотами. Ничего себе сумочки!
И вот с этими-то сумочками я вдруг сворачиваю со своего пути, петляю между домами и выхожу к стеклянному кубу парикмахерской. У меня еще двадцать минут. Остригусь! Когда-то мне это здорово шло. Очереди нет. Под свирепую воркотню гардеробщика оставляю свои сумки возле вешалки на полу, поднимаюсь наверх и сразу же сажусь в кресло к моложавой женщине с подбритыми бровями.
— Что будем делать? — спрашивает она и, узнав, что только стричься, поджимает губы. «Ну, сейчас обкорнает...» Так и есть. Смотрю в зеркало: окороченные волосы топорщатся возле щек, голова как равнобедренный треугольник. Я чуть не плачу, но почему-то даю ей тридцать копеек сверх положенного и спускаюсь одеваться.
Гардеробщик хмыкает и, отклонив мою руку с номерком, кричит:
— Ленька, иди-ка сюда!
Появляется парень в белом халате.
— Вот, Леня, — говорит гардеробщик участливо, — эту девушку наверху подстригли. Ты как, можешь ее произвести?
Леня оглядывает меня хмуро и кивает в сторону пустующих кресел мужского зала. Я не сопротивляюсь — хуже не будет.
— Согласно вашему лицу, предлагаю под мальчика — не возражаете? — спрашивает Леня.
— Стригите, — шепчу я и закрываю глаза.
Леня щелкает ножницами, приговаривая что-то свое, поднимая и опуская мою голову легким прикосновением пальцев, потом стрекочет машинкой, взбивает волосы расческой и наконец, сняв с меня простыню, говорит:
—Можете открыть.
Открываю глаза и вдруг вижу молоденькую забавную девчонку, улыбаюсь ей, а она — мне. Я смеюсь, Леня тоже. Я гляжу на него и вижу — он любуется своей работой.
— Ну как? — спрашивает он.
— Замечательно, вы просто волшебник!
— Я просто мастер, — отвечает он скромно.
Сунув Лене в карман рубль, я смотрю на часы и ойкаю — уже три часа двадцать минут.
— Опаздываете? — сочувствует Леня. — В следующий раз приходите пораньше.
— Обязательно! — восклицаю я. — Спасибо!
Запыхавшаяся, прибегаю в лабораторию — конечно, обо мне спрашивал шеф. Он в библиотеке, просил меня к нему заглянуть. Все охают, увидев мою голову, но мне некогда, схватив блокнот и карандаш, я вылетаю из комнаты. Я бегу по коридорам и придумываю, что буду врать шефу, если он спросит, где я была. Потом соображаю — это бесполезно, увидит меня, все поймет.
Вхожу в читальный зал, он сидит над книгой и пишет.
— Яков Петрович, я, кажется, вам нужна?
— Да, Ольга Николаевна, садитесь. — Взгляд на меня. Шеф улыбается: — Вы очень помолодели, если можно это сказать о женщине вашего возраста... Я хотел вас просить, если не затруднит, перевести мне сейчас страничку, — и он протягивает мне книгу, — а я буду делать заметки.
Я начинаю излагать статью сразу по-русски, но он просит читать и английский текст. Кое-что он просит повторить. Вдруг я вижу за стеклянной дверью Люську. Она делает мне какие-то непонятные знаки: то будто поворачивает ключ в дверях, то поднимает два расставленных пальца и закатывает глаза. Я отмахиваюсь от нее рукой, неудобно все-таки. Люська исчезает. Но я начинаю беспокоиться — что-то там, видно, случилось. Мы уже доползаем до конца отрывка (и никакая это не страничка, а целых три), но шеф просит повторить все сначала бегло по-русски. А я уже как на иголках — мне надо к Вале в механическую, надо узнать, что там у Люськи. Наконец мы кончаем, шеф благодарит, я обрадованно отвечаю «спасибо» и бегу в старое здание.
На площадке первого этажа в старом здании меня поджидает Люська. У нее плохая новость: из самых «наивернейших источников» ей стало известно, что механическая лаборатория на той неделе будет проводить внеочередной заказ.
— Откуда ты это узнала?
— Я знаю, знаю, не спрашивай меня, откуда, — Люська делает таинственное лицо, — непосредственно знаю.
Уж и «непосредственно», ах, Люська!
Впрочем, все равно — скорей бежать к Вале.
— Ты ж ей не говори! — кричит вслед Люська.
Надо покрепче нажать на Валю, иначе совсем завязнем. А завязнуть в декабре — это гроб... Конец года, выполнение плана, отчеты и прочее такое. А чтобы дело двигалось, необходимо узнать, что дала вторая композиция состава — увеличилась ли прочность стеклопластика?
В механической стоит бодрый грохот. В конторке вместо Вали сидит маленький Горфункель из лаборатории древесных плит и работает. Нет, оказывается, не работает, а ищет свои очки, почти положив лысоватую голову на стол и копошась короткими ручками в ворохе бумажек, как черепаха в сене. Я нахожу его очки и подаю ему. Где Валя, он не знает — вышла.
— Давно?
— Давно!
Я возвращаюсь к себе, по дороге заглядывая во все лаборатории. Вали нигде нет. Прячется она, что ли?
За четверть часа до конца работы в нашу комнату набивается народ. Зинаида раздает билеты в театр — наши идут на «Бег» к Ермоловой.
Культпоход — это не для меня, не для нас с Димой. Мне делается грустно. Мы не были в театре... Пытаюсь вспомнить, когда же мы ходили куда-нибудь, и не могу. Дура я, что не заказала билет. Пусть бы Дима пошел один, мы ведь все равно не можем вместе.
Димина мать нянчит внуков от дочери, живет на другом конце Москвы; моя мама умерла; тетя Вера, у которой я жила, когда отец снова женился, осталась в Ленинграде, а моя московская тетка, Соня, ужасно боится детей.
Некому нас отпускать, что делать...
Выхожу из института. Снегопад только что прекратился, снег еще лежит на тротуарах. На улице бело. Вечер. Оранжевые прямоугольники окон висят над синими палисадниками. Свежий воздух чист. Я решаю пройти пешком часть пути. На сквере у стен Донского монастыря фонари освещают запушенные ветки, заснеженные скамейки. Там, где нет огней, за верхушками деревьев виднеется тоненькая скобочка месяца...
Вдруг на меня накатывает тоскливое желание идти налегке, без ноши, без цели. Просто идти — не торопясь, спокойно, совсем медленно. Идти по зимним московским бульварам, по улицам, останавливаться у витрин, рассматривать фотографии, книги, туфли, не спеша читать афиши, обдумывая, куда б я хотела пойти, потихоньку лизать трубочку эскимо и где-нибудь на площади под часами, всматриваясь в толпу, ждать Диму.
Все это было, но так давно, так ужасно давно, что мне кажется, будто это была не я, а какая-то ОНА.
Было так: ОНА увидела его, ОН увидел ее, и они полюбили друг друга.
Был большой вечер в строительном институте — встреча студентов старших курсов с выпускниками. Шумный вечер с веселой викториной, шутками, шарадами, карнавалом масок, джазом, стрельбой из хлопушек, танцами в жаркой тесноте зала.
Она выступала с гимнастическим номером — вилась вокруг обруча, прыгала, перегибалась, кружилась. Ей долго хлопали, ребята кричали: «О-ля! О-ля!» — а потом наперебой приглашали танцевать. Он не танцевал, а стоял, прислонившись к стене, большой, широкоплечий, следил за ней взглядом. Она заметила его: «Какой славный увалень». Потом, проходя мимо него еще раз: «На кого он похож? На белого медведя? На тюленя?» И в третий: «На белого тюленя. Чудо-юдо белый тюлень». А он только смотрел на нее, но танцевать не звал. Каждым движением своим отвечала она его взгляду, ей было весело, радостно, она кружилась беспрерывно и все не могла устать.
Когда объявили «белый танец», она подбежала к нему, осыпая конфетти с коротко остриженных волос. «Наверное, он не танцует». Но он танцевал ловко и легко. Ее товарищи пытались их разлучить, звали: «О-ля, О-ля, и-ди к нам!» — закидывали на нее лассо из серпантина, но только заплели, запутали и связали их бумажными лентами.
Он провожал ее, хотел увидеть завтра, но она уезжала в Ленинград.
После каникул, весь февраль, появлялся он вечером в вестибюле, ждал ее у большого зеркала и провожал на Пушкинскую, где она жила у тетки.
Однажды он не пришел. Не было его и назавтра. Не увидев его на обычном месте и через два дня, она огорчилась, обиделась. Но не думать о нем уже не могла.
Через несколько дней он появился — у зеркала, как всегда. Она вспыхнула и, заговорив с девушками, быстро пошла к выходу. Он догнал ее на улице, сильно схватил за плечи, повернул к себе и, не обращая внимания на прохожих, прижался лицом к ее меховой шапочке. «Я был в срочной командировке, соскучился ужасно, я ведь не знаю твоего телефона, адреса... Прошу тебя, поедем ко мне, к тебе — куда хочешь».
На углу мигнул зеленый глазок такси, они сели и ехали молча, держась за руки.
Он жил в большой коммунальной квартире. У входа под телефоном стояло кресло с драной обивкой. Тотчас приоткрылась ближайшая дверь, высунулась старушечья голова в платке, прицелилась глазом и скрылась. Что-то прошуршало в глубине коридора, куда не доходил свет тусклой и пыльной лампочки. Ей стало не по себе, она готова была пожалеть, что поехала к нему, но вспомнила чинный порядок теткиного дома, чай под старой люстрой и общие разговоры за столом...
В конце апреля они поженились. В его полупустую комнату с тахтой и чертежной доской вместо стола перевезли ее вещи: чемодан, сверток с постелью, связку книг.
В мечтах, раньше, она представляла все совсем иначе: мраморную лестницу во дворце бракосочетаний, марш Мендельсона, белое платье, фату, розы, богатое застолье с криками «горько!»
Ничего этого не было. «Свадьбу? Зачем она тебе? — удивился он. — Давай лучше улетим в далекие края»...
Рано утром они расписались — она приехала в загс с подругой, он с товарищем. Он принес ей белые кружевные гвоздики на длинных стеблях. У нее дома их ждал завтрак, приготовленный теткой. Подняли бокалы за новобрачных, пожелали им счастья. Товарищи проводили до автобуса, идущего на Внуковский аэродром. А через шесть часов они были уже в Алупке.
Они поселились в старой сакле, прилепившейся к склону горы. К ней вела тропка, иссеченная ступенями на поворотах. Узкий вымощенный дворик нависал над плоской крышей другой сакли. Невысокая изгородь, сложенная из дикого камня, прорастала усиками винограда, тянувшегося снизу. Во дворе стояло единственное дерево — старый орех, наполовину засохший. Часть его ветвей — голых, серых — напоминала о зиме, о холодных краях; на других густо сидели темно-зеленые резные листья. Лиловые кисти глицинии, оплетавшей саклю, свисали в прорезях узких окон, наполняли двор дурманно-сладким запахом.
Внутри сакли было темно и прохладно. Низкая печь в трещинах, видно, давно не топилась. Хозяйка, старая украинка, принесла им вечером из своей хибарки круглую трехногую жаровню, полную печного жара, — «щоб в нiч не змэрзли». Легкое синеватое пламя бродило по углям. Они открыли дверь настежь и вышли во двор.
Было темно и тихо. Свет фонарей не доходил сюда, луна еще не взошла. Они стояли и слушали, как внизу дышит, ухает в больших камнях море. В глухой дали мигал слабый огонек — может, фонарь на рыбачьем баркасе, может, костер на берегу. Ветер дул с гор, доносил запахи леса, нагретых за день солнцем трав, земли.
Угли в жаровне стали темнеть, затягиваться пеплом, они выставили жаровню во двор.
Над саклей раскинулось черное небо с прорезями звезд. Темные ветви ореха осеняли глиняную крышу с полуобвалившейся трубой. Разоренный очаг, чужой дом, а сейчас их кров. И они вдвоем, и никого — ночь, море, тишина.
Утром они бежали по тропке вниз, завтракали в кафе, потом бродили по берегу. Взбирались на крутолобые камни, грелись, как ящерицы, на солнце, смотрели на кипение воды внизу — взрывы студеных брызг долетали до них. Было безлюдно, тихо, чисто... Скинув платье, в купальнике, делала она гимнастические упражнения. Он смотрел, как ловко получаются у нее стойки, мостики, как высоко она прыгает, просил: «А ну-ка еще!» Порой, когда море было тихим, они бросались в воду. Холод обжигал, перехватывал дыхание, проплыв немного, они выскакивали на берег и потом долго лежали на солнце. Прокалившись в горячих лучах, уходили под деревья воронцовского парка, бродили по дорожкам под тенистыми сводами, наполненными птичьим свистом и щебетом, рассказывали друг другу о детстве, родителях, школе, друзьях, институте...
Изредка поднимались они в горы. Здесь было совсем пустынно. Тихо стояли сосны, лениво покачивая ветвями, нагретые солнцем стволы источали смолу, пахло хвоей. Отсюда, сверху, море казалось фиолетовым, оно поднималось отвесно, как стена.
Лежали на склоне, усыпанном теплыми сухими иглами, смотрели на взбитые ветром пышные облака. Вскакивали, осыпая хвою, и принимались ловить друг друга с криком, хохотом, кружа и петляя меж сосновых стволов. Съезжали по скользким от хвои склонам, как с горы-ледянки, перелезали через каменные завалы, сползали по крутизне, хватаясь за кустарник, и, умаявшиеся, разгоряченные, голодные, вываливались из душных зарослей дрока на шоссе. Асфальт приводил их в узкие алупкинские улочки, стесненные белыми стенами домов с черепичными красными крышами, с кустами жасмина и шиповника под окнами.
Полмесяца, собранные по дням из трех «законных», трех праздничных и десяти, выпрошенных у нее в институте и у него на работе, внезапно кончились.
Ранним воскресным утром с рюкзаком, с чемоданом он и она садились в автобус. Они покидали рай.
Это было пять лет тому назад.
Напрасно пошла я пешком, раздумалась. Поздно! Я бегу вниз по эскалатору, задеваю людей набитой сумкой, но остановиться не могу.
Я не очень опоздала, но все трое уже ходили с кусками. У Димы был виноватый вид, и я ничего не сказала, а кинулась скорее на кухню. Через десять минут я поставила на стол большую сковороду с пышным омлетом и крикнула:
— Ужинать скорей!
Детишки вбежали в кухню, Котька быстро уселся на свое место, схватил вилку, потом взглянул на меня и закричал:
— Па-па, иди сюда, смотри, у нас мама — мальчик!
Дима вошел, улыбнулся: «Какая ты еще молоденькая, оказывается», — и во время ужина поглядывал на меня, а не читал, как обычно. И посуду мыл со мной вместе и даже пол подмел сам.
— Олька, ты ведь совсем такая, как пять лет назад!
Кончилось тем, что мы забыли завести будильник...
Четверг.
Мы вскочили в половине седьмого, Дима бросился будить детей, я на кухню — только кофе и молоко! — потом к ним помогать. Похоже, что успеем выйти вовремя. Но вдруг Котька, допив молоко, заявил:
— Я не пойду в садик.
Мы в два голоса:
— Не выдумывай!
— Одевайся!
— Пора!
— Мы уходим!
Нет. Мотает головенкой, насупился, вот-вот заплачет, Я присела перед ним:
— Котя, ну скажи нам с папой, что случилось? В чем дело?
— Меня Майя Михайловна наказала, не пойду.
— Наказала? Значит, ты баловался, не слушался...
— Нет, я не баловался. А она наказывает. Не пойду.
Мы стали одевать его насильно, он начал толкаться, брыкаться и заревел. Я твердила одно:
— Котя, одевайся, Котя, надо идти, Котя, мы с папой опаздываем на работу.
Дима догадался сказать:
— Идем, я поговорю с Майей Михайловной, выясним, что там у вас.
Котька, красный, потный, залитый слезами, всхлипывая пытается рассказать:
— Витька свалил, а не я. Он разбился, а она меня по-са-ди-ла од-ного... Это не я! Это не я! — И опять рыданья.
— Кто разбился — Витька?
— Не-е-ет, цветок...
Я сама чуть не плачу —так мне жалко малыша, так ужасно тащить его, такого обиженного, силком. И страшно: весь потный, еще простудится. Умоляю Диму непременно узнать, что произошло, сказать воспитательнице, как Котя нервничает.
— Ладно, не раскисайте, — говорит Дима сурово, — их там двадцать восемь штук, можно и ошибиться.
Тут вдруг Гуля, которая до последней минуты была спокойна, заплакала, потянула ко мне ручки:
— Хочу к маме.
Бросаю их всех, кричу с лестницы Диме: «Позвони мне обязательно!» — сбегаю вниз, несусь к автобусу, штурмую один, другой... В третий попадаю.
Еду и все время думаю о Котьке. В группе действительно двадцать восемь ребят, у воспитательницы, конечно, может не хватить на всех внимания и даже сил. Но лучше совсем не разбираться, если некогда, чем разобраться не до конца, наказать несправедливо...
Вспоминаю, как звала меня заведующая, когда Котьку переводили в наш новый сад, работать нянечкой, как уговаривала: «Полторы ставки, воспитательница помогает раскладушки расставить, постели со стеллажей снять, детей на прогулку одеть». Видно, обеим хорошо достается — и няне и воспитательнице. Представить только — двадцать пять рейтуз, платков, шапок, пятьдесят носков, валенок, рукавичек, да еще шубки, да кашне и пояса подвязать... И все это надо дважды надеть да один раз снять, а еще после дневного сна... Двадцать пять... Что это за «нормы», кто только их выдумал? Наверное, у кого детей нет или у кого они в садик не ходят...
Еду уже в метро, и вдруг меня как стукнет — сегодня же политзанятия, семинар, а я забыла дома программу, забыла даже заглянуть в нее... А ведь я взялась подготовить вопрос и... забыла! Занятия раз в два месяца, можно, конечно, забыть. Но раз я взялась, забывать было нельзя, я подведу всех. Ну, ладно, приеду, возьму у Люси Маркорян программу, авось что-нибудь успею сообразить.
Все же первая моя забота должна быть «механическая». Если я сегодня не прорвусь туда, будет плохо. Заглядываю — Вали нет. Кричу:
— Где Валя?
Не слышат, не понимают, потом я не сразу понимаю... Наконец дошло — Валя куда-то вышла. Опять! Оставляю ей записку, в которой все, кроме одной фразы, неправда: «Валечка, милая, выручайте! Сомневаемся в прочности доработанной массы. Без испытаний у вас все остановилось. На меня сердится Я. П. Второй день не могу вас застать».
Наверху у нас добрые люди. Никто меня не спрашивает, почему я так поздно, но все хотят рассмотреть новую прическу, вчера они не успели. Я верчусь во все стороны — затылком, в профиль. Тут входит Алла Сергеевна и, сказав с улыбкой: «Очень мило», сообщает, чго мною только что интересовалась Валя.
Я вылетаю в коридор, но не успеваю сделать несколько шагов, как меня окликают — к телефону. Это Дима. Он успокаивает меня — Майе про Котьку сказал, она обещала разобраться. Меня это не утешает.
— Она так и сказала?
— Да, именно так.
— А ты ей рассказал, что он говорит?
— Рассказывать особенно не пришлось, но самое главное сказал....
Повесив трубку, вспоминаю, что не предупредила Диму о политзанятиях, — ведь я приду на полтора часа позже. И заготовок к ужину не успела сегодня сделать! А дозвониться в Димин «ящик» нелегко. Попробую позже, а сейчас скорее к Вале, пока никто не проскочил вперед!
Валя недовольна — я пришла недостаточно быстро. Ворчит:
— То бегают, бегают, то не дозовешься.
Сегодня у них производственное совещание, с четырех свободны все установки, если работать самостоятельно — пожалуйста. Тот, за кем это время, отказался.
С четырех? Это слишком поздно! Всего полтора часа, если б не было семинара... А он начинается в 16.45. И я не могу сегодня с него отпрашиваться, раз мне выступать. Значит, всего сорок пять минут. Объясняю Вале, но она не понимает.
— Вы просили, вот я вам и даю.
— Нельзя ли начать хоть на часик пораньше, хоть на одной установке?
— Нет, нельзя.
— Как же мне быть? — думаю я вслух.
— Уж не знаю. Решайте... А то отдам другим. Желающих много...
— А кто там пораньше, может, мне поменяться?
— Нет уж, не устраивайте мне тут обменное бюро — и так у нас проходной двор...
Хорошо, мы берем это время — значит, в 16.00.
На обратном пути ломаю голову — как быть? Может, Люське отпроситься с занятий, провести несколько опытов? Только каждый образец надо измерить микрометром, обязательно каждый, хоть они изготовлены по стандарту... Сделает она это? А вычислить площадь поперечного сечения? Не признает она этой тщательности. Нет, Люську отставить. Кого еще можно просить — Зинаиду? Но она, наверное, забыла все это.
Значит, необходимо отпроситься с семинара.
Я сижу над дневником, составляю сводку вчерашних электроиспытаний, а в голове все вертится мыслишка, как бы мне удрать от всех да поработать в физико-механической до конца дня.
— А где Люся Вартановна? — спрашиваю я.
Все молчат. Неужели никто не знает? Ну, если так, то я пропала. Значит, Люся черная «ушла думать». В таких случаях она умеет скрыться так, что никто ее не найдет.
Внезапно наступает перерыв. Люся беленькая, наклонясь ко мне, говорит:
— Ты что, спишь, что ли, говори скорей, чего тебе, задерживаешь, ведь два часа.
Я начинаю соображать вслух, что мне надо, а Люська торопит:
— Ну, все, что ли?
— Все, — отвечаю я, — раз тебе некогда, то все!
— Ну, что злишься? — уступает Люська.
А я не злюсь, я просто не знаю, что мне делать.
И как раз в эту минуту телефон: «Воронкову просят срочно в проходную принять изделия с производства». Я кидаю Люське две трешницы:
— Купи что-нибудь мясное. — В дверях вспоминаю: — И чего-нибудь пожевать (я ведь еще не ела сегодня).
Внизу в проходной лежат выброшенные из «пикапа» три громоздких свертка с надписями: «В полимеры Воронковой» — первые опытные изделия из стеклопластика-1, выполненные на нашем экспериментальном заводе, — кровельные плитки, толстые короткие трубы. Поспешил Яков Петрович заказать, ведь состав изменен... Только место на стеллажах занимать будут.
Спрашиваю у вахтера, где Юра — наш рабочий, посыльный, «мальчик на подхвате». Только что был тут. Он всегда «только что» там был, где он нужен. Пробую найти его по телефону, но мне некогда. Беру один из свертков и тащу его по лестнице на третий этаж. Старый вахтер причитает, жалея меня, бранит Юру. Под этот аккомпанемент потихоньку перетаскиваю все свертки к нам в лабораторию. Когда я тащусь с последним, меня догоняет Люська с нашими покупками:
— Оля, «Лотос» дают в хозтоварах, я заняла очередь, кто б пошел, взяли бы на всех...
«Лотос» нужен, очень нужен, но я только машу рукой — не до «Лотоса» мне, четвертый час, только успеть собраться в механическую и все-таки в программу заглянуть. Но Люси Маркорян все еще нет... Впрочем, я же решила — иду в механическую?! Вот съем, что мне Люська принесла, и умотаюсь. Но беленькая куда-то пропала — не за «Лотосом» ли? Лезу к ней в сумку — две булки, два творожных сырка. Уж половина-то, наверное, моя.
Собираюсь потихоньку, образцы наши давно внизу, и без пяти четыре исчезаю.
Начну с маятникового копра. Замеряю первый брусок, закрепляю. Устанавливаю угол зарядки. Отпускаю маятник. Удар! Образец выдержал. Теперь увеличим нагрузку. Что это, я волнуюсь? Спортивный азарт. Ставка на стеклопласт-2: выдержит — не выдержит? Образец не разбивается при максимальной силе удара. Ура! Или еще рано кричать «ура»? Испытания на прочность на этом ведь не кончаются... А растяжение? Сжатие? Твердость?
Я погружаюсь в увлекательный спорт, в котором я тренер, а мой подопечный спортсмен — Пластик. Он прошел первый тур и готовится ко второму: опять измеряется толщина, ширина, опять вычисляется площадь поперечного сечения. Теперь новая машина, новая нагрузка.
Через некоторое время я нахожу на листе с подсчетами сдобную булку и творожный сырок. Вот интересно! Я уже съела булку и сырок наверху. Что это — приходила Люська? Я не заметила. Очень хорошо так работать — в темпе, молчаливо, один на один с делом.
Но вдруг до меня доходит моя фамилия, которую выкрикивают напористо и зло:
— Воронкова! Воронкова!! Да Воронкова же!
Оглядываюсь. У дверей стоит Лидия.
— Занятия начинаются. Давай. И поскорей, твой вопрос третий. — Выпалив это, она хлопает дверью.
Я сбрасываю уже измеренные образцы обратно в коробку, туда же кидаю микрометр, карандаш, листы бумаги с расчетами, а сверху хлопаю дневник испытаний.
На занятия собирается вся лаборатория — человек двадцать; проходят они в большой соседней с нашей комнате. Забегаю к себе, сваливаю на стол все имущество, беру карандаш, тетрадку и с виноватым видом вхожу.
Говорит сам Зачураев, руководитель наш, отставной подполковник. Но как только я открываю дверь, он замолкает. Я прошу извинения и делаю попытку пробраться к Люсе Маркорян.
— Что вы так запаздываете? — сердится Зачураев. — Садитесь, вот же свободное место. — И он указывает на ближайший стул. — ...Давайте продолжим... — Зачураев вытаскивает платок из кармана и вытирает руки. — ...Рассмотрим это на конкретных примерах... Ну-с, прошу...
Все молчат. Так. Значит, это и есть мой вопрос. Что делать, спотыкаясь и запинаясь, начинаю говорить. Нащупываю тему. Противоречия антагонистические, неантагонистические... Отсутствие противоречий... Пережитки. Примеры: пьянство, хулиганство...
Барахтаюсь, тону, всплываю, опять тону. Поправляю сама себя. А потом меня поправляют и дополняют. Затем Зачураев подводит итоги. Я слушаю минуту-две и как-то незаметно перестаю слышать.
...Ужасно, что я так и не предупредила Диму о семинаре. Что он будет делать с детьми? Чем их накормит без меня? Ведь я утром ничего не успела заготовить к ужину... Как там Котька с его переживаниями... Я не уверена, что Майя Михайловна, если она «разбиралась», не причинила ему новых напрасных обид...
Занятия окончились. Бегом до комнаты, хватаю сумку и бегом же до раздевалки.
Часы в вестибюле показывали четверть восьмого. Такси бы схватить, не домой, конечно, но хоть до метро!
Но такси не попалось, и я бежала до троллейбуса, а потом бежала по эскалатору в метро, а потом до автобуса... И вся запыханная, потная, около девяти влетела в дом.
Дети уже спали. Гуленька у себя на кроватке раздетая, а Котька одетый у нас на диване. В кухне за столом, заставленным грязной посудой, сидел Дима, рассматривал чертежи в журнале и ел хлеб с баклажанной икрой. На плите, выкидывая султан пара, бушевал чайник.
— Что это значит? — строго спросил Дима.
Я сказала коротко, каким был сегодняшний день, но он не принял моих объяснений — я должна была дозвониться и предупредить. Он прав, я не стала спорить.
— Чем же ты накормил детей?
Оказалось, черным хлебом с баклажанной икрой, которая им очень понравилась, — «съели целую банку», — а потом напоил молоком.
— Надо было чаем, — заметила я.
— Откуда я знаю, — буркнул Дима и опять уткнулся в журнал.
— А что Котька?
— Как видишь, спит.
— Я вижу. Я о садике.
— Ничего, обошлось. Больше не плакал.
— Давай разденем его, перенесем в кроватку.
— Может, сначала все-таки поедим?
Ладно, уступаю. С голодным мужчиной бесполезно разговаривать. Поцеловав и прикрыв Котьку (он показался мне бледным, осунувшимся), я возвращаюсь на кухню и делаю большую яичницу с колбасой. Ужинаем.
В доме полный бедлам. Все разбросанное в утренней спешке так и валяется. А на полу возле дивана ворох детских вещей — шубки, валенки, шапки. Дима не убрал, очевидно, в знак протеста — не опаздывай.
После яичницы и крепкого горячего чая Дима добреет. Вдвоем мы раздеваем и укладываем сына, убираем детскую одежку. Потом я отправляюсь на кухню и в ванную — убирать, стирать, полоскать...
Я легла только в первом часу. А в половине третьего мы проснулись от громкого Гулькиного плача. У нее заболел живот, сделался понос. Пришлось ее мыть, переодевать, перестилать постель, вталкивать в нее фталазол и класть грелку.
— Вот она, икра с молоком, — ворчала я.
— Ничего, — успокаивал Дима, — это так, разовое.
Потом я сидела возле Гульки, придерживая грелку, мурлыкала сонно «баю-баю-баиньки, под кустом спят заиньки...», голова моя лежала на свободной руке, рука на бортике кроватки.
Легла я около четырех и, кажется, только закрыла глаза — будильник!
Пятница.
С утра меня песочат в нашей комнате за то, что я не подготовила вопроса, затянула занятия. Я покорно выслушиваю всех недовольных, прошу извиненья. А мысли мои вьются вокруг ребят. Мы отвели Гульку в ясли, хотя следовало бы оставить ее дома. Оставить на один день можно и без справки, но без справки не можем обойтись ни я, ни Дима. А вызвать врача — значит сказать, что было. Врач, конечно, пошлет на анализ, раз это желудочное. Анализ — значит несколько дней... И мы отвели Гульку.
Меня быстро прощают, даже Лидия смягчилась. Марья Матвеевна сообщает — «строго между нами», — что с нового года у нас будет новый руководитель занятий — кандидат философских наук.
Переходим к своим делам. Пятница — конец недели: забот у всех куча. Что-то надо закончить по работе, выписать в библиотеке книги и журналы, назначить деловые встречи на понедельник, личные свиданья на выходные, в перерыв сделать маникюр или набойки... Нам, «мамашенькам», предстоят большие закупки на два дня.
И еще — надо заполнить анкету. Все как будто ждали до последнего дня, у всех возникли вопросы, и все потянулись в кадры за сведеньями о больничных. Это решили провести организованно — командировали Люсю беленькую помочь в подсчетах.
Я знаю, ни у кого не будет столько дней по болезни, как у меня.
Но думать об этом некогда — и у меня, как у всех, полно дел. Надо разобраться в том, что я вчера сделала в механической. Все мое имущество, которое я вчера бросила на стол, так и лежит. Обидно, что я не использовала предложенное Валей время... Только бы не оправдалась Люськина информация насчет внеочередного заказа, которому дадут «зеленую улицу» по всем лабораториям. Или, по крайней мере, пусть это случится попозже. По расписанию на той неделе у нас в механической целый день. Будем работать втроем: я, их лаборантка, Люська. Может, и сделаем все, может, успеем?
Я переписываю в дневник результаты вчерашнего опыта, укладываю в коробку брошенные вчера образцы, рву и выкидываю черновики с расчетами. Распаковываем с Люськой свертки с готовыми изделиями. Выставляю на стенд для обозрения несколько кусков листового стеклопластика, короткие трубы разного сечения. Пишу к ним этикетки. Сейчас сяду за сводный график, надо сделать так, чтобы осталось внести в него только новые испытания.
Но где же он? Вчера я над ним не работала. Позавчера положила его в свой ящик — под дневник. Там его нет. Вытаскиваю все из ящика на стол: графика нет. Перебираю все по листку — нет. Говорю себе «спокойно!», перекладываю все с правой стороны стола на левую. Нет! Может, затащила его вчера с дневником в механическую? Бегу к Вале. Нет, она не видела. Неужели пропала работа нескольких дней?
На меня находит какое-то отупение — сижу, уставившись в стену. Ничего не вижу, ни о чем не думаю. Потом замечаю табель-календарь, смотрю на него, и вдруг до меня доходит, что пятница 13 декабря — это сегодня. Еще вчера у меня было ощущение — «вот начался декабрь», а тут пожалуйста — середина месяца и через две недели сдавать отчет. Успею ли я за эти четырнадцать дней... нет, за двенадцать, нет, даже за одиннадцать, закончить испытания в механической, в электролаборатории, обобщить результаты, составить новый сводный график, написать отчет...
Я сижу, опустив руки, вместо того, чтобы искать график, и думаю, что не могу успеть...
Вдруг мне на плечо ложится рука, и Люся черная, наклонившись, спрашивает:
— Где ты, Буратинка? Потерялась? Или что потеряла?
Люся? Как хорошо! Я чуть прикасаюсь к ее руке щекой. Все она понимает. Я действительно потерялась. Потерялась в туче дел и забот — институтских, домашних.
— Я потеряла сводный график результатов всех испытаний, такую таблицу. — Я показываю руками, какая она большая. — Все перетрясла, не понимаю...
— А это не она? — спрашивает Люся, прикоснувшись к белому листу, который лежит посредине стола.
Я беру лист, он раскрывается и превращается в мой график. Меня разбирает смех, я просто трясусь от смеха, закрываю рот руками, чтобы не было слышно, и смеюсь до слез. Смеюсь и не могу перестать. Люся хватает меня за руку, тащит в коридор, встряхивает и говорит:
— Перестань, сейчас же перестань!
Я стою, прижавшись спиной к стене, слезы текут у меня по щекам, и тихо постанываю от смеха.
— Оля, ты псих, — говорит Люся, — поздравляю, у тебя истерика!
— Сама ты псих, — отвечаю я ей ласково и прерывисто вздыхаю. — Истерика — это теперь не модно, теперь короче — стресс. И бьет наотмашь. А я просто смеюсь. У меня очень смешная жизнь. Одно за другим, не успеваешь ни на чем задержаться. Какой-то коктейль из мыслей и чувств. Нет, я не псих... А у тебя вон какие ямы под глазами. Ты что, опять не спишь? Вот ты и есть настоящий псих.
— Я-то давно псих. Но я старше тебя на шесть лет, и у меня дома, ты знаешь, всегда нервы... А ты держись: ты молодая, ты здоровая, у тебя чудесный муж. — Она стискивает мои руки своими худыми пальцами, мне больно от ее длинных ногтей, но я терплю. Она глядит остро прямо мне в зрачки, как будто гипнотизирует. — Ты умница, ты способная, ты полна сил... Ладно, — Люся отпускает мои руки, — давай закурим. Ах, да, ты не... — Она сжимает зубами сигарету, щелкает зажигалкой и затягивается. — А зря — помогает. Впрочем, не стоит связываться. Ну так: в перерыв мы с тобой идем в магазины, по дороге ты мне все расскажешь.
Мы идем по улице, я рассказываю про трудности с механической и Валей, про разговор с шефом, про Гулькин живот, про срок окончания испытаний — как я боюсь не успеть.
Люся слушает, кивает гловой, то суживает глаза, то раскрывает их широко и говорит «да-да-да...» или бросает певучее «да-а-а?». Мне от этого уже становится легче. Несколько минут мы молчим.
— Буратинка, ты помнишь, тебя интересовало, кто придумал наш стеклопластик? Я обещала сказать тебе.
— Да, рассказать «преглупую историю».
— Точно. Это даже не история, а просто анекдот. Коротенький. Идея была моя, я сама подарила ее Якову. Не потому, что я такая богатая. А потому, что я была беременна. И уже совсем решила родить второго... Не подумай, что Сурен меня допек. Сама решила, Маркуше так лучше. Работать потом я долго бы не смогла, я знала. Пусть, думаю, без меня делают. И подарила.
— Ну и?..
— Что?
— А ребенок? Что же случилось?
— Ничего. Испугалась в последнюю минуту. Сделала аборт. Как всегда, втайне от Сурена.
— Как — «втайне»?
— Так, «еду в командировку» на пять-шесть дней...
Я нахожу Люсину руку и не выпускаю ее. Так мы шагаем рядом. Шагаем и молчим.
В магазинах, где толчея и спешка сегодня больше обычного, мы нагружаем дополна четыре сумки и в три часа отправляемся в обратный путь. Я тащу довольно бодро, а Люся просто переламывается под своей ношей. Вдруг навстречу Шурочка:
— А я решила на подмогу.
Прошу ее взять сумку у Люси, Люся — у меня. Наконец ставим Шуру посредине и несем четыре сумки втроем. Приходится спуститься с тротуара, каждую минуту мы останавливаемся — пропустить машину.
— Девочки, примите нас в долю! — кричат нам двое встречных парней.
— У нас свои мальчики, — отвечаю я. Мне весело оттого, что день солнечный, что мы перегородили всем дорогу, оттого, что нас трое...
Оттого, что я не одна.
Приходим, и тут же появляется Люся беленькая с подсчетами «больных дней». Я, конечно, на первом месте, как я и думала. По больничным и справкам у меня пропущено семьдесят восемь дней, почти треть рабочего времени. И все из-за ребят. Все списывают свои цифры, значит, все видят, что у кого. Не пойму, почему мне так неловко. Даже стыдно. Я как-то сжимаюсь, избегаю смотреть на всех. Почему это так? Я ведь ни в чем не виновата.
— Вы заполнили анкеты? — спрашивает Люська. — Дайте посмотреть.
Но мы не знаем, как подсчитать время — на что сколько его идет. «Мамашеньки» совещаются. Решаем, что надо обязательно указать время на дорогу — все мы живем по новостройкам, на дорогу тратим в день около трех часов. «Занятия с детьми» никому не удается выделить — мы «занимаемся» с ними меж другими делами. Как говорит Шура: «Мы с Сережкой весь вечер на кухне, он за день наскучается, так и не отходит от меня».
— Так как же писать про детей? — недоумевает Люся беленькая.
— Какую же неделю подсчитывать — вообще или конкретно эту? — спрашивает Шура.
— Любую, — отвечает Люся черная, — разве не все они одинаковы?
— А я не каждую неделю хожу в кино, — у Люськи новые затруднения.
— Что голову ломать, — говорю я, — я беру эту неделю. Неделя как неделя.
Глупый вопрос — заключаем мы. Разве можно подсчитать время на домашние дела, даже если ходить всю неделю с хронометром в руках. Люся Маркорян предлагает указать общее время, что остается от рабочего дня и дороги, а потом перечислить, что на это время приходится. Мы удивлены — оказывается, для дома у нас есть от сорока восьми до пятидесяти трех часов в неделю. Почему же их не хватает? Почему столько несделанного тянется за нами из недели в неделю? Кто знает?
Кто действительно знает, сколько времени требует то, что называется «семейная жизнь»? И что это такое вообще?
Я беру свою анкету домой, Люся черная тоже. Надо успеть до конца дня провернуть разные дела.
Путь к дому сегодня нелегок. В руках две тяжеленные сумки — куплено все, кроме овощей. В метро приходится стоять — одна сумка в руках, другая под ногами. Толкучка. Читать невозможно. Стою и считаю, сколько истратила. Всегда мне кажется, что я потеряла деньги. Были у меня две десятки, а сейчас одно серебро. Не хватает трешника. Пересчитываю опять, вспоминаю покупки, что лежат в сумках. Второй раз уже выходит, что я потеряла четыре рубля. Бросаю это, начинаю разглядывать тех, кто сидит. Многие читают. У молодых женщин в руках книжки, журналы, у солидных мужчин — газеты. А вон сидит толстяк в шапке пирожком, смотрит «Крокодил», лицо мрачное. Молодые парни отводят взгляд в сторону, сонно прикрывают глаза, лишь бы не уступить место.
Наконец, «Сокол». Все выскакивают и бросаются к узким лестницам. А я не могу — пакеты с молоком, яйца. Плетусь в хвосте. Когда подхожу к автобусу, очередь машин на шесть. Попробовать сесть в наполнившуюся? А сумки? Все же я пытаюсь влезть в третий автобус. Но сумки в обеих руках не дают мне ухватиться, нога срывается с высокой ступеньки, я больно ударяюсь коленкой, в этот момент автобус трогается. Все кричат, я визжу. Автобус останавливается, какой-то дядька, стоящий у дверей, подхватывает меня и втягивает, я валюсь на свои сумки. Колено болит, в сумке наверняка яичница. Зато мне уступают место. Сидя, я могу взглянуть на коленку, на дырявый чулок в крови и грязи, открыть сумки и убедиться, что раздавлено лишь несколько яиц и смят один пакет молока. Ужасно жалко чулки — четырехрублевая пара!
Как только я открываю дверь, все выбегают в переднюю — ждут! Дима берет из моих рук сумки и говорит:
— Сумасшедшая!
Я спрашиваю:
— Как Гулькин животишка?
— Ничего, все в порядке.
Котька прыгает на меня и чуть не сбивает с ног, Гулька требует немедленно «ляписин», который она уже заприметила. Я показываю свою коленку и, прихрамывая, иду в ванную. Дима тащит йод и вату, все меня жалеют — мне очень хорошо!
Я люблю вечер пятницы: можно посидеть подольше за столом, повозиться с ребятами, уложить их на полчаса позже. Можно не стирать, можно сесть в ванну...
Но после бессонной ночи ужасно хочется спать, и мы, уложив ребят, бросаем все на кухне как есть.
Я уже легла. Дима еще в ванной. Уже сон тяжелит мое тело, но вдруг мне представляется, что Дима по привычке заведет будильник. Сую его под диван со словами «сиди и молчи». Но его тиканье пробивает толщу дивана. Тогда я выношу его на кухню и запираю в шкафчик с посудой.
Суббота.
В субботу мы спим долго. Мы, взрослые, проспали бы еще дольше, но ребята встают в начале девятого. Утро субботы — самое веселое утро: впереди два дня отдыха. Будит нас Котька, прибегает к нам — научился опускать сетку в своей кровати. Гулька уже прыгает в своей кроватке и требует, чтобы мы ее взяли. Пока ребята возятся с отцом, кувыркаются и пищат, я приготовляю громадный завтрак. Потом отправляю детей с Димой гулять, а сама принимаюсь за дела. Прежде всего ставлю варить суп. Дима уверяет, что в столовой суп всегда невкусный, дети ничего не говорят, но суп мой всегда едят с добавкой.
Пока суп варится, я убираю все три комнаты — вытираю пыль, мою полы, трясу одеяла на балконе (что, конечно, нехорошо, но так быстрее), разбираю белье, намачиваю свое и Димино в «Лотосе», собираю для прачечной, а детское оставляю на завтра. Провертываю мясо для котлет, мою и ставлю на газ компот, чищу картошку. Часа в три обедаем. Для ребят это поздновато, но надо же им хоть раз, в выходной, погулять как следует. За столом сидим долго, едим не спеша. Детям надо бы поспать, но они уже перетерпели.
Котька просит Диму почитать «Айболита», которого он давно уже знает наизусть, они устраиваются на диване, но Гуля лезет к ним, капризничает и рвет книжку. Надо Гульку все-таки уложить, иначе жизни никому не будет. Я ее баюкаю (что не полагается), и она засыпает.
Теперь мне надо заняться кухней — вымыть плиту и почистить горелки, убрать в шкафчиках с посудой, протереть пол. Потом вымыть голову, постирать намоченное, погладить детское, снятое с балкона, вымыться, починить колготки и обязательно пришить крючок к поясу.
Диме надо сходить в прачечную, Котька не отпускает его, приходится брать мальчика с собой (что нехорошо — очередь, духота, грязное белье, — но они берут санки, на обратном пути еще погуляют, продышатся).
Зато я остаюсь одна и могу развернуться с уборкой кухни и прочими делами. В семь «мужчины» возвращаются и требуют чая. Тут я спохватываюсь, что Гулька все еще спит (я про нее забыла). Бужу ее, она поднимает отчаянный рев. Передаю ее Диме, чтобы делать ужин. Хочу управиться пораньше, сегодня надо купать детей. Гулька за столом канючит — не хочет есть, она еще не проголодалась. Котя ест хорошо — нагулялся.
— Завтра целый день дома, — говорит он и смотрит на отца и на меня.
— Конечно, завтра же воскресенье, — успокаиваю его я.
Котька уже трет глаза, хочет спать.
Наливаю воду и мою Котьку первого, а Гулька ревет, лезет в ванную и раскрывает дверь.
— Дима, возьми дочку! — кричу я.
И слышу в ответ:
— Может, на сегодня уже хватит? Я хочу почитать.
— А я не хочу?!
— Ну, это твое дело, а мне надо.
Мне, конечно, не надо.
Я тащу Котьку в кровать сама (обычно это делает Дима) и вижу: в «кабинете», так мы называем изолированную комнату, в которой стоит письменный стол, Дима сидит в кресле, в руках у него журнал, он действительно читает. Проходя, я говорю громко:
— Между прочим, я тоже с высшим образованием и такой же специалист, как и ты...
— С чем тебя можно поздравить, — отвечает Дима.
Мне это кажется ужасно ядовитым, обидным.
Я мою Гульку губкой и вдруг начинаю капать в ванну слезами. Гулька взглядывает на меня, кричит и пытается вылезти. Я не могу ее усадить и даю ей шлепок. Гулька закатывается обиженным плачем. Появляется Дима и говорит зло:
— Нечего вымещать на ребенке.
— Как тебе не стыдно, — кричу я, — я устала, понимаешь ты, устала!..
Мне становится ужасно жаль себя. Теперь уже я реву вовсю, приговаривая, что я делаю-делаю, а несделанного все прибавляется, что молодость проходит, что за день я не сидела ни минуты...
Вдруг из детской доносится громкий крик:
— Папа, не бей маму, не бей маму!
Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую. Котька стоит в кроватке весь в слезах и твердит:
— Не бей маму!
Я беру его на руки и начинаю утешать:
— Что ты такое придумал, маленький, папа никогда меня не бил, папа у нас добрый, папа хороший...
Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу.
— А почему она плачет? — спрашивает Котя, проводя ладошкой по моему мокрому лицу.
— Мама устала, — отвечает Дима, — у нее болят ручки, болят ножки, болит спинка.
Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную, хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не знаю о чем — обо всем сразу.
Ко мне подходит Дима, он обнимает меня, похлопывает по спине, гладит и бормочет:
— Ну, хватит... ну, успокойся... ну, прости меня...
Я затихаю и только изредка всхлипываю. Мне уже стыдно, что я так распустилась. Что, собственно, произошло? Сама не могу понять.
Дима не дает мне больше ничего делать, он укладывает меня, как ребенка, приносит мне чашку горячего чая. Я пью, он закутывает меня, и я засыпаю под звуки, доносящиеся из кухни, — плеск воды в мойке, стук посуды, шарканье шагов.
Я просыпаюсь и не сразу могу понять, что сейчас — утро, вечер и какой день? На столе горит лампа, прикрытая поверх абажура газетой. Дима читает. Мне видна только половина его лица: выпуклина лба, светлые волосы — они уже начинают редеть, — припухлое веко и худая щека — или это тень от лампы? Он выглядит усталым. Бесшумно переворачивает он страницу, и я вижу его руку с редкими рыжеватыми волосками и обкусанным ногтем на указательном пальце. «Бедный Димка, ему тоже порядком достается, — думаю я, — а тут еще я разревелась, как дура... Мне тебя жалко. Я тебя люблю...»
Он выпрямляется, смотрит на меня и спрашивает, улыбаясь:
— Ну как, Олька, ты жива?
Я молча освобождаю руки из-под одеяла и протягиваю к нему.
Воскресенье.
Мы лежим, просто лежим, — моя голова упирается в его подбородок, его рука обнимает меня за плечи. Мы лежим и разговариваем о всякой всячине: о Новом годе и елке, о том, что сегодня надо съездить за овощами, что Котьке не хочется ходить в садик...
— Дим, как ты думаешь, любовь между мужем и женой может быть вечной?
— Мы ведь не вечны...
— Ну, само собой, может быть долгой?
— А ты уже начинаешь сомневаться?
— Нет, ты мне скажи, что, по-твоему, такое, эта любовь?
— Ну, когда хорошо друг с другом, как нам с тобой.
— И когда рождаются дети...
— Да, конечно, рождаются дети.
— И когда надо, чтобы они больше не рождались.
— Ну что ж. Такова жизнь. Любовь — часть жизни. Давай-ка вставать.
— И когда поговорить некогда.
— Ну, говорить — это не самое главное.
— Да, наверное, далекие наши предки в этом не нуждались.
— Что ж, давай поговорим... О чем ты хотела?
Я молчу. Я не знаю, о чем я хотела. Просто хотела говорить. Не об овощах. О другом. О чем-то очень важном и нужном, но я не могу сразу начать... Может быть, о душе?
— У нас в коробке последняя пятерка, — говорю я.
Дима смеется: вот так разговор.
— Что ты смеешься? Вот так всегда — говорим только о деньгах, о продуктах, ну, о детях, конечно.
— Не выдумывай, мы говорим о многом другом.
— Не знаю, не помню...
— Ладно, давай лучше вставать.
— Нет. О чем «о другом»? Например?
Мне кажется, что Дима не отвечает очень долго. «Ага, не знаешь», — думаю я злорадно. Но Дима вспоминает:
— Разве мы не говорили о прокуроре Гаррисонс? О космосе — много раз? О фигуристах — обсуждали, спорт это или искусство... О войне во Вьетнаме, о Чехословакии... Еще говорили о новом телевизоре и четвертой программе, — продолжает добросовестно вспоминать Дима темы наших разговоров. — Кстати, когда же мы купим новый телевизор?
— Так вот я и говорю: в коробке у нас одна пятерка...
— Есть же фонд...
Мы начали откладывать «фонд приобретений». Он хранится в моей старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы.
Нам много чего надо — Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам летние вещи. А телевизор у нас есть — старый «КВН-49», брошенный тетей Соней.
— До телевизора еще далеко, фонд растет у нас плохо, — говорю я.
— Мы же решили не проедать все деньги, что же ты? — укоряет меня Дима.
— Не знаю, вроде бы все, как обычно, а вот — не хватает.
Дима говорит, что так у нас никогда ничего не будет. А я отвечаю ему, что трачу только на еду.
— Значит, тратишь много.
— Значит, ешь много.
— Я много ем?! — Дима обижен. — Еще новости, давай начнем считать, кто сколько ест!
Мы уже не лежим, а сидим друг против друга.
— Прости, я говорю: мы, мы много едим.
— Что ж я могу с этим поделать?
— А я что?
— Все-таки ты хозяйка.
— Скажи, чего не покупать, я не буду. Давай молоко не будем брать.
— Давай лучше прекратим этот глупый разговор. Если ты не способна соображать в этом деле, так и скажи.
— Да, да, да, я не способна соображать. Я глупа, и все, что я говорю, глупо... — Я вскакиваю и ухожу в ванную.
Там я открываю кран и умываю лицо холодной водой. «Перестань, сейчас же прекрати», — говорю я себе. Сейчас я влезу под душ, сейчас приведу себя в норму. Отчего я злюсь? Не знаю.
Может, оттого, что я вечно боюсь забеременеть. Может, от таблеток, которые я глотаю. Кто знает?
А может, она вообще не нужна мне больше, эта любовь?
От этой мысли мне становится грустно, жаль себя, жаль Диму. Жалость и теплая вода делают свое дело — из-под душа я выхожу подобревшая и освеженная.
Ребята визжат и хохочут — расшалились с отцом. Достаю им все чистое, мы их одеваем.
— Вот какие у нас красивые дети, — говорю я и зову их на кухню накрывать вместе на стол, пока папа умывается.
Во время завтрака проходит короткая планерка. Что сегодня надо сделать: съездить в овощной, постирать детское, все перегладить...
— Бросай все, пойдем гулять! — заключает Дима. — Смотрите, какое солнышко!
— Мама, мамочка, пойдем вместе с нами, — упрашивает Котька, — посмотрим на солнышко!
Я сдаюсь — отодвину свои дела на после обеда.
Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся. Хорошо!
Возвращаемся домой заснеженные, голодные, веселые. Пусть уж Дима сначала поест, потом поедет. Варю макароны, подогреваю суп и котлеты. Ребята сразу же уселись за стол и смотрят на огонь под кастрюлями.
После прогулки я очень повеселела. Уложив детей и отправив Диму в овощной рейс, я берусь сразу за все — бросаю в таз детское белье, мою посуду, стелю на стол одеяло и достаю утюг. И вдруг решаю — подкорочу-ка я эту свою юбку. Что я хожу, как старуха, с наполовину закрытыми коленками! Я быстро отпарываю подпушку, прикидываю, сколько загнуть, остальное отрезаю. За этим делом и застает меня Дима, притащивший полный рюкзак.
— Видишь, Олька, как тебе полезно гулять.
Конечно, полезно. И, кончив приметку, я надеваю юбку. Дима хмыкает, оглядев меня, и смеется:
— Завтра будет минус двадцать, будешь обратно пришивать. А в общем, ножки у тебя славные.
Я включаю утюг — загладить подол. Потом подошью, и готово!
— Погладь мне заодно брюки, — просит Дима.
— Дим, ну пожалуйста, погладь сам, я хочу кончить юбку.
— Ты же все равно гладишь.
— Дим, совсем это не «все равно», я тебя прошу, дай мне кончить. Мне еще ребячье стирать, вчерашнее гладить.
— Так зачем же ты занимаешься ерундой?
— Дим, давай не будем обсуждать это, прошу тебя, погладь сегодня свои брюки сам, мне надо дошить.
— А куда ты завтра собираешься? — спрашивает он с подозрением.
— Ну, куда?! На бал!
— Понятно. Просто я подумал, что у вас там что-нибудь такое.
— Может быть, и «такое», — напускаю я туману (надо же мне спокойно подшить юбку и как-то отделаться от брюк). — Ты помнишь, я тебе говорила про анкету. Сегодня я должна ее заполнить: завтра придут демографы — анкеты собирать, с нами беседовать...
— А! (О господи, он, кажется, думает, что ради этой встречи я решила укоротить юбку!)
Я шью и рассказываю Диме, что подсчитали наши дни «по болезни», что у меня семьдесят восемь дней — почти целый квартал.
— А что, Олька, может, тебе лучше не работать? Подумай, ведь почти половину года ты сидишь дома.
— А ты хочешь засадить меня на весь год? И разве мы можем прожить на твою зарплату?
— Если меня освободить от всех этих дел, — Дима повел глазами по кухне, утюгу, рюкзаку, — я мог бы зарабатывать побольше. Уж двести — двести двадцать я бы наверняка обеспечил. Ведь фактически, если вычесть все неоплачиваемые дни, ты зарабатываешь рублей шестьдесят в месяц. Нерентабельно!
— Фигушки, — говорю я, — фигушки! Мы на это несогласные! Значит, всю эту скукотищу, — я тоже оглянула кухню, — на меня одну, а себе только интересное. Подумаешь, «нерентабельно»... Капиталист!
— Действительно, капиталист, — Дима усмехается, — не в деньгах только дело. Дети бы от этого выиграли. Детский сад — еще ничего, а вот ясли... Гулька же зимой почти не гуляет. А эта бесконечная простуда?!
— Дима, неужели ты думаешь, что я не хотела бы сделать так, как лучше детям? Очень хотела бы! Но то, что предлагаешь ты, это просто... меня уничтожить. А моя учеба пять лет? Мой диплом? Мой стаж? Моя тема? Как тебе легко все это выбросить — швырк, и готово! И какая я буду, сидя дома? Злая как черт: буду на вас ворчать все время. Да и вообще, о чем мы говорим? На твою зарплату мы не проживем, ничего другого, реального, тебе пока не предлагают...
— Не обижайся, Оля, ты, вероятно, права. Не стоит об этом говорить. Зря я начал. Просто мне примерещилась какая-то такая... разумно устроенная жизнь. И то, что я, если не буду спешить за ребятами, смогу работать иначе, не ограничивать себя... Может быть, это эгоизм, не знаю. Кончим об этом, ладно.
Он уходит из кухни, я гляжу ему вслед, и вдруг мне хочется окликнуть его и сказать: «Прости меня, Дима». Но я этого не делаю.
— Э-э, хали-гали, пора вставать! — кричит Дима из передней.
Это наши «позывные». Он поднимает Котю и Гулю, ребята пьют молоко, две минуты мы решаем, идти ли еще гулять, и — отказываемся. Если гулять, значит, от вечера ничего не останется. Дима находился, а у меня еще много дел.
Котька усаживается на полу с кубиками. Он любит строить, и у него получаются дома, мосты, улицы и еще какие-то нагромождения, которые он называет «высотный дворец». Но беда с Гулькой — она лезет к брату, хочет разрушать, хватает кубики, уносит и прячет.
— Мама, скажи ей! Папа, скажи ей! — то и дело взывает к нам Котя.
Никакие слова на Гульку не действуют — она смотрит ясно и прямо говорит:
— Гуля хотит бить дом.
Тогда я делаю ей «дочку». «Дочка» — это набитый тряпьем маленький комбинезон. В капюшон я вкладываю подушечку, обернутую в белое, рисую лицо. С куклами Гуля не ладит, а «дочку» таскает по всему дому, разговаривает с ней.
Воскресный вечер проходит мирно и тихо. Дети играют, Дима читает, я стираю и делаю ужин. «Не забыть бы пришить крючок к поясу», — повторяю я несколько раз. Остальное, кажется, все! Да, еще заполнить анкету. Ну, это когда дети лягут.
Поужинав, покапризничав — не хотят кончать свои воскресные дела, — ребята собирают разбросанные кубики. Находим те, что попрятала Гуля, — под ванной, в передней в моих сапогах. Моем руки, мордашки, чистим зубы, осуждаем Гульку, которая вырывается и кричит:
— Гуля хотит гязная.
И, наконец, укладываемся.
Время еще есть. Почитать? А может, посмотреть телевизор? Ах, да — анкета! Сажусь с ней за стол. Дима заглядывает через мое плечо и делает критические замечания. Я прошу его не мешать, я хочу поскорей кончить. Готово. Теперь возьму книгу и сяду с ногами на диван. Выбираю у книжного шкафа. Может, приняться наконец за «Сагу о Форсайтах»? Дима подарил мне эти два тома в позапрошлый день рожденья. Нет, не смогу я ее прочесть — как я буду возить с собой такую толстую книгу? Отложим еще раз до отпуска. Я выбираю что полегче — рассказы Сергея Антонова.
Тихий воскресный вечер. Сидим и читаем. Минут через двадцать Дима спрашивает:
— А что же мои брюки?
Сходимся на том, что брюки глажу я, а он читает мне вслух. Антонова Дима не хочет, а берет последний номер «Науки». Мы его еще не смотрели. Он начинает читать статью Вентцель «Исследование операций», но мне трудно воспринимать на слух формулы. Тогда Дима уходит из кухни, и я остаюсь одна с его брюками.
Я уже лежу в постели, Дима заводит будильник и выключает свет. Тут я вспоминаю: не пришила крючок. Ни за что не встану, фигушки.
Среди ночи я просыпаюсь, не знаю отчего. Мне как-то тревожно. Поднимаюсь тихонько, чтобы не разбудить Диму, иду взглянуть на детей. Они разметались — Котя сбил одеяло, Гулька съехала с подушки, высунула ножку из кровати. Укладываю их, закрываю, трогаю и поглаживаю головки — не горячие ли. Ребята вздыхают, причмокивают, и опять посапывают — спокойно, уютно.
Что же тревожит меня?
Не знаю. Я лежу на спине с открытыми глазами. Лежу и вслушиваюсь в тишину. Вздыхают трубы отопления. У верхних соседей тикают стенные часы. Мерно отстукивает время маятник наверху, и в это же время сыплет дробью, мельтеша и захлебываясь, будильник.
Вот и кончилась еще одна неделя, предпоследняя неделя этого года.
1969
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





