ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

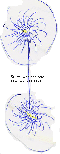

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Воронцова Елена 1988
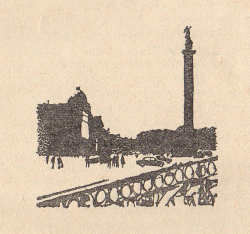
Поэт и адмирал
Читая о суде над декабристами,
я натолкнулась на факт, что на заседании
Верховного уголовного суда по делу декабристов
один из его членов высказался против казни
руководителей восстания. Он был единственным.
Остальные, их было 71, высказались за казнь.
Кто же этот государственный деятель,
который не побоялся царского гнева?
Я попыталась найти как можно больше
материалов об этом человеке.
Из реферата по истории
десятиклассницы 473-й ленинградской школы
Лены Ковалевой
О Лене мне рассказала ее учительница литературы, с которой мы были знакомы еще с тех пор, как она сама была десятиклассницей и тоже «собирала материалы». Ее, правда, интересовали не государственные деятели, а поэты. «Поэзия — квинтэссенция жизни, а жизнь, в свою очередь, — гениальная поэма», — писала тогда она. Виделись мы редко, потому что я жила в Москве, а она в Ленинграде, но зато, когда встречались, нам было о чем поговорить. В тот раз мы сидели у меня на кухне, пили кофе и беседовали о современных школьниках: действительно ли они трезвее и практичнее, чем были мы, или это только кажется? Марина вспоминала своих учеников, приводила примеры и вдруг, как указкой, взмахнув перед собой ложечкой, сказала:
— А вот Ленка! За девять лет работы в школе я никого из своих учеников так не уважала. Эта девочка — удивительный случай человеческой надежности. Надо только себе представить. Ленинград, общественный транспорт, с Гражданского проспекта в центр — как в другой город. И вот у Лены в классе заболела девочка. Болела долго, тяжело, а когда выздоровела — новая беда. Не может вовремя проснуться и приехать — жила она далеко — в школу. Понять это трудно, кому-то смешно, а Лена...
Марина поставила чашку.
— Каждый день в течение нескольких месяцев она встает на два часа раньше, едет к этой девочке в центр, будит и привозит к первому уроку. Причем учти: мама самой Лены находится в это время в длительной командировке, и на ней — дом, отец, сестренка-третьеклассница со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Допив кофе, Марина поднялась из-за стола и, автоматическим движением пустив в раковине воду, начала мыть чашку.
— Да, и вот именно эта девочка увлекается декабристами. В прошлом году написала для городской исторической олимпиады реферат «Пять братьев Бестужевых». Ей было интересно, как же так получилось, что все братья были замешаны в деле 14 декабря. Что тут сыграло главную роль? Семья? Друзья-офицеры? Почему именно Бестужевы? Почему они были одними из немногих, кто стойко держал себя на допросах, не говорил ничего лишнего?
Рассказывая, Марина теперь размахивала кофейной чашечкой.
— Она получила первое место? — спросила я.
— Да нет, второе. Плохое оформление. В тексте не было фотографий и прочего внешнего блеска. Лена, конечно, расстроилась, она очень самолюбивая. Но теперь она и фотографирует, и печатает. Этим летом, просидев полканикул в архивах, написала новую работу. О Мордвинове. Ты, кстати, знаешь, что это был за человек?
— Нет.
— Я так и думала. А удивительная, между прочим, фигура. Адмирал, член Верховного суда — и отказался подписать смертный приговор декабристам.
Пройдясь по кухне, Марина присела к столу и начала чистить апельсин. Под ее ножом на кожуре один за другим ложились тонкие сочные надрезы.
— Ленка даже нашла его могилу в Александро-Невской лавре и теперь носит туда цветы. Вот такая девочка. Правда, ей немножко не хватает женственности, кокетливости, игры.
Марина положила апельсин на блюдце, и он раскрылся: оранжевый цветок с лохматым белым плодом в середине.
— И тебя это печалит? — спросила я.
— Конечно. Одна моя ученица назвала ее синим чулком. Ужасно не люблю это слово!
— Странно, — сказала я. — Ты считаешь, что это возможно: всерьез заниматься декабристами и быть кокеткой?
— Естественно. Мы не должны забывать о своих природных качествах.
Выкинув в мусорное ведро остатки наших апельсинов, Марина поправила перед зеркальцем прическу.
— У меня ужасная профессия! Столько в них себя вкладываешь, а когда вложил, не успеешь полюбоваться, и вот — надо расставаться...
Девять лет назад Марина точно так же расстраивалась, что после института ее распределили в школу. Тогда она верила, что в ней есть таинственная сила, которая ведет ее по особому пути, и никак не допускала, что школа — это надолго. Но таинственная сила быстро превратила ее литературоведческие идеи в отличные уроки литературы и сделала из нее опытную, известную в городе учительницу. И какое совпадение! У Марины, как и у этой ее Лены, в юности был человек, которого она сама для себя открыла. Раскопала в журналах XVIII века «удивительные, драматичные, но почему-то почти никому теперь не известные» стихи и назвала их автора своим Поэтом.
У одной — удивительный поэт Ржевский, у другой — удивительный адмирал Мордвинов.
Когда я думала об этом, вместо модно одетой тридцатилетней женщины с острыми чертами лица и маленьким зеркальцем в руках на меня смотрела крупная, похожая на кудрявого юношу девушка. И я сказала ей об этом.
— Ну да, ты никак не можешь забыть свою повесть обо мне. Но я ведь на самом деле совсем не такая, какой ты меня там описала, — сказала Марина. — И эти маленькие пуговки, о которых я будто бы мечтала, — ведь это совсем не так. Я совсем не люблю платьев с маленькими пуговками. Единственное, что ты там правильно описала, — это мои уроки.
Да, с повестью у нас получилась целая история. Девять лет назад, когда Марина пришла в школу, мне захотелось написать о том, как одна интеллигентная, мечтавшая о грандиозных научных свершениях девушка вдруг взяла и стала учительницей — как это все получилось и с чего началось.
Я любила свою героиню и временами жалела, что сама не учитель и не могу, как она, входить в класс и рассказывать детям о вольнолюбивой лирике Пушкина. Но, описывая, как моя учительница, говоря про голубой цвет в поэзии Блока — цвет надежды, дороги, дали, цвет, который много обещает и мало дает, — дотрагивалась до воздушного, голубого, специально для этого урока выбранного шарфика на шее, я начинала улыбаться и думала, что сама бы, наверное, так не могла.
Я назвала свою повесть «Нейлоновая туника». Дело в том, что Марина собиралась сшить себе для урока по искусству Древней Греции греческую тунику из нейлона. А если есть туника, то почему для другого урока не быть и платью с маленькими пуговками? Мне казалось, что такое платье вполне могло бы быть. Тем более что мою героиню звали не Марина Смусина, а Лариса Мухина.
Однако в журнале, куда я отнесла повесть, сказали, что таких, как Лариса Мухина, учительниц не бывает.
Чтобы доказать, что такие, как Лариса Мухина, учительницы бывают, оставалось одно: назвать ее настоящую фамилию и адрес, а для этого — получить разрешение Марины. Недели две я колебалась, потом взяла рукопись и поехала в Ленинград. Я понимала, что Марину такая просьба может возмутить, но она — за что я ей чрезвычайно благодарна, — прочитав мое произведение, согласилась, раз другого выхода у меня нет, «снять маску». Целую ночь мы вычеркивали то, что печатать теперь было совершенно невозможно: например, Маринины сердечные дела. Но всего не вычеркнешь, да и жалко, повесть от этого становилась все скучней. И платье с маленькими пуговками осталось.
— Хотя между твоей героиней и мной дистанция огромного размера, в некотором роде мы родственники, и мне небезразлично, как она выглядит, — уже в который раз напоминала мне об этих пуговках Марина.
Она помолчала.
— Мне не хочется подвергать Лену тем душевным испытаниям, которые перенесла из-за тебя я, но все-таки попробуй. Интересную историю можно о ней написать! Я бы назвала это — «Девочка и футболисты».
— Почему футболисты? — спросила я.
— А ты разве забыла? Я же тебе рассказывала. У нас в десятом «Б» каждый день восемь уроков. Шесть обычных, а два: эстетика — для девочек, футбол — для мальчиков. Они у нас кандидаты в мастера спорта, резерв и надежда нашего распрекрасного «Зенита». И вот Ленка и не подозревает, что они все в нее влюблены, — сказала Марина.
Какая эстетика за неделю до экзаменов?
Разбирая архив Мордвинова, я поняла,
что этот гуманный судья видел в декабристах
людей, одаренных выдающимся умом и получивших
глубокое, разностороннее образование.
А это для него много значило.
«Просвещение есть начало народного богатства,
ум и науки суть орудия его», — писал, например, он.
Из реферата Лены Ковалевой
Прошло полгода, наш разговор почти забылся, и только весной, когда из соседних Лужников стал долетать стотысячный рокот стадиона, я вспомнила о девочке, которая нашла доброго царского адмирала и в которую влюбился целый класс футболистов.
Поеду в Ленинград, посмотрю на этих ребят, погуляю вместе с ними по площадям и набережным, отнесу цветы на могилу адмирала, схожу на футбольный матч, а потом вернусь и напишу о них, думала я. Все это может хорошо сложиться и связаться: прошлое и настоящее, одухотворенность и азарт, архив и футбольное поле...
В Ленинграде было пасмурно. Через слабую зелень деревьев сквозили небо и заводские трубы. Четырехэтажная школа терялась среди совершенно одинаковых высоких белых домов нового района. Возле подъезда большие длинноногие девочки гоняли футбольный мяч, длинноволосые ребята надевали друг на друга венок из одуванчиков. Прозвенел звонок, но в класс они — судя по росту, это были десятиклассники — не спешили.
— Надо было раньше приезжать! — холодно встретила меня на пороге учительской Марина. — Любой нормальный человек понимает, что за неделю до окончания школы никто по-настоящему не учится.
— Ничего. Посмотреть на них в момент, когда они прощаются со школой, тоже интересно, — успокаивала ее я.
— Ну да, конечно, лучше поздно, чем никогда. — Марина строго смотрела на меня. — Лены Ковалевой сейчас в школе нет, а на остальных можешь любоваться сколько угодно.
Сказав, что спешит на урок, она пошла по коридору — высокая, стройная, с книгой в руке.
Я прошлась по школе.
За одной дверью тоненькие детские голоса ответственно разучивали веселую песенку для десятиклассников, за другой звенели электрогитары, за третьей (она была открыта) яркая, лет тридцати учительница с колбой в руках диктовала что-то по химии: «Мальчики, имейте в виду, производство серной кислоты надо знать обязательно!», потом крикнула: «А теперь все, полная тишина!» — и грянул хор девочек: «Мы эстетику учили, а мальчишки мяч лупили». За девочками — громкими нестройными басами — мальчики: «Из чего же, из чего же, из чего же сделан наш спецкласс? Из футболистов и эстеток, из обычных взрослых деток сделан наш спецкласс!»
Пока я их потихоньку рассматривала, прозвенел звонок, отшумела перемена, потом снова прозвенел звонок, возле меня появилась Марина и, пригласив за собой — нечего стоять под дверями! — повела в класс. Быстро отправив мальчишек на тренировку, а девочек усадив за парты, она попросила сейчас же забыть обо всех репетициях, убрать из-под парт все «производства» и «удобрения» и все-таки послушать, что хотел сказать испанский художник Пикассо своей знаменитой картиной «Герника».
— На первый взгляд на ней изображен какой-то хаос. Рогатые, страшные звери вперемешку с искаженными, поверженными фигурами, с изуродованными частями тел. Но приглядитесь внимательнее и подумайте: а не соответствует ли эта странная форма содержанию, задаче художника — передать нечеловеческую суть фашизма?
Одетая в темно-зеленое, печально струящееся по ее худощавой фигуре платье, Марина говорила о маленьком испанском городке Герника, полностью стертом в 1937 году с лица земли. Это был ее последний, посвященный современному западному искусству урок эстетики.
— «Гернику» Пикассо принимают далеко не все, причем серьезные люди. Ее необычную форму они считают недопустимой, кощунственной, когда речь идет о таком содержании. Но, девочки, я очень хочу, чтобы вы были умненькими и, если встретите что-то необычное, думали сами, доверяли себе, своему сердцу.
Но девочки, хотя они и приглядывались, и ужасались, слушая о трагедии Герники, и удивлялись необычной картине Пикассо, одновременно (из противоположного конца класса мне хорошо было это видно) все-таки держали под партами тетрадки с «производствами» и «удобрениями» и листки с текстами куплетов.
Какая эстетика за неделю до экзаменов и последнего звонка?
На перемене я спустилась в школьную столовую. Туда же, чуть не сбив меня с ног, неслись после тренировки футболисты. Не выдержав их атаки, буфетчица побежала и привела классную руководительницу, ту самую учительницу химии.
— Ваших кормить не буду, опять грязи нанесли! — кричала буфетчица.
Голодные футболисты стучали ложками по столам. Стараясь изобразить гнев на лице, учительница говорила им что-то о паркете и мужском достоинстве.
Я наблюдала за ними и думала о девочке, которая не подозревает, что вся эта отчаянная команда в нее влюблена. Какими глазами смотрит на них она? Да и сама — какая она? Наверное, внешне все же такая, как и те ее одноклассницы, что гоняли у подъезда футбольный мяч? Высокая, раскованная, длинноногая, с набитой книгами модной тряпичной сумкой через плечо... Сумки вместо портфелей, джинсы вместо юбок — все это современное продолжение подстриженных волос и круглых мужских шапочек, которые носили сто лет назад курсистки.
Вот она, писал Глеб Успенский о картине Ярошенко «Курсистка», девушка лет пятнадцати-шестнадцати, в пледе и мужской шапочке, с книжкой под мышкой бежит на курсы, и самое в ней главное — это чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые, «если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли», «изящнейшее и притом реальнейшее» соединение женского и мужского, превращавшее ее в «новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».
Курсистки не признавали авторитетов, ездили на велосипедах, вместо сонников и лечебников читали Писарева и мечтали посвятить себя наукам и общественной деятельности.
— Ну и как они тебе нравятся? — подошла ко мне Марина.
— Думаю.
— О чем?
— О неженственной курсистке Ярошенко. Помнишь?
— Помню. Но почему тебе именно сейчас пришло в голову о ней размышлять?
— Так, может, именно юношеская одухотворенность и делает твою девочку некокетливой?
— Может быть. — Она посмотрела на сбежавшихся в столовую девочек. — Но эти-то у меня форменные кокетки. И никакой особой мысли в их лицах я сегодня не заметила, как, впрочем, и у окружающих нас юношей... Ты и не представляешь, насколько это грустно — чувствовать, как начинают рваться твои с ними связи.
Помолчав, Марина резко переменила тон.
— Итак, общее представление об этом столпотворении ты уже имеешь. А теперь пошли к Лене, она дома. Готовит для нас стол и очень волнуется. Ее мама уехала в Сочи.
— Стол? — удивилась я. — Зачем он нам? Разве мы так не сможем с ней поговорить?
— Конечно, сможем. Но она же хозяйка. Неужели ты не понимаешь, как это приятно — собрать хороший стол?
Для дополнения этого стола Марина предложила купить какой-нибудь торт, и, заскочив в учительскую, где она быстро шлепнула на голову большую, с напуском, шляпу-берет, мы скорей-скорей побежали в соседний универсам — к вечеру торты обычно кончаются.
— Я, как ты знаешь, люблю не покупать торты, а печь их в духовке, — уже на бегу говорила она. — Но что же делать? Скажи: когда у нас, женщин, будет на это время?
Видно было, что Марина совсем перестала на меня сердиться.
Образцовая семья
Чем дальше я занималась личностью Мордвинова,
тем больше он меня интересовал.
Он очень хорошо продвигался но службе:
был командующим Черноморским флотом,
министром военных морских сил, членом
Государственного совета и в то же время
был честнейшим человеком, умеющим думать
не только о собственном благе, но и о благе отечества.
Из реферата Лены Ковалевой
После школы и универсама в квартире Ковалевых казалось особенно тихо. Через открытые окна из парка, начинавшегося прямо под ними, пахло мокрой травой и первыми тополиными листьями. Знакомя меня с Леной, ее младшей сестренкой Настенькой и их папой Венедиктом Григорьевичем, Марина говорила, что, приходя в этот дом, сразу отрешается от своей сумасшедшей жизни.
— Марина Львовна, и я тоже очень люблю, когда к нам кто-нибудь приходит, — подскочила к ней Настенька. Она баюкала небольшую полосатую кошку.
— Нанка! — строго посмотрела на сестру Лена.
— Но я еще хочу, чтобы наши гости поздоровались с мадам Ю-ю!
— Ю-ю сегодня хандрит. Пожалуйста, опусти ее на пол и не мешай взрослым.
Несмотря на свою хандру, кошка вспрыгнула к Марине на плечо, и Настенька тотчас объявила, что Ю-ю без ума от таких, как у Марины Львовны, красивых зеленых платьев.
Венедикт Григорьевич улыбнулся, Лена, опять строго посмотрев на сестру, промолчала.
Рядом с подвижной розовощекой Настенькой она выглядела, пожалуй, чересчур сосредоточенной. Темные, просто подстриженные волосы, медленные движения, пристальный, немного исподлобья взгляд.
Надев передник, Лена достала из буфета скатерть, накрыла ею стол и ушла на кухню.
Мы остались разговаривать. Услышав, что речь зашла о времени — все-таки удивительно, сколько его требуется для поддержания даже минимального житейского уюта! — Настенька тут же бросилась на кухню. Она принесла маленькую, в несколько сантиметров, куклу. В куклу была врезана лампочка, а в лампочке бежали цифры.
— Это наш папа маме для кухни сделал. Электронные часы!
По профессии Венедикт Григорьевич военный инженер, полковник, преподает в академии связи и этим летом, когда на работе стало посвободнее, занялся вот интегральными схемами. Часы — побочный результат этих занятий, объяснила Марина. Он следовал системе Любищева, которым они все тут в последнее время заинтересовались.
Любопытная судьба — ученый-энтомолог, самобытный философ, а среди широкой публики стал знаменитым благодаря своему дневнику, в котором ежедневно, на протяжении полувека, записывал, сколько часов и минут на что и почему он тратит. В сущности, это уникальный и, с точки зрения обыденного сознания, жестокий эксперимент на себе: показать, что в самодельных ежовых рукавицах даже рядовые творческие способности (так отзывался о своих способностях Любищев) могут дать необыкновенные результаты.
— Марина Львовна уже о Любищеве рассказывает? — Лена принесла из кухни поднос с закусками.
— Но ты ведь, по-моему, тоже им увлекаешься, — сказала Марина. — В классе считают, что Лена в его систему просто влюбилась.
— Да разве она может влюбиться? — удивилась Настенька. — Марина Львовна, не знаю, как вам, а мне ее футболисты давно жалуются. Она их так мучает. Она Карпова побить обещала, если он что-то там не исправит! А с этим Корженцовым? Почему она до сих пор не приняла его в комсомол? Разве другие комсорги так придираются? Знай то, знай это...
— Зато Нанка у нас от футболистов без ума, — сказала Лена. — Когда кто-нибудь из них ко мне приходит, она даже выходное платье надевает.
Лена сосредоточенно расставляла по столу тарелки.
— Да, они совсем разные, — сказала Марина. — Ну-ка, Настенька, покажи, что ты писала в прошлом году о дружбе с мальчиками?
— Не о дружбе, а о том, бывает ли любовь в тринадцать лет, — поправила Настенька и побежала за газетой, в которой было напечатано ее письмо о любви.
— Вот, представьте себе. Одна семиклассница спросила редакцию, возможна ли сейчас любовь Ромео и Джульетты, и наша Настенька стала учить ее уму-разуму, — сказал Венедикт Григорьевич.
Взяв у дочки газету, он начал с выражением читать :
— «Вряд ли может быть любовь в тринадцать лет. Это скорее всего дружба. Хоть мне и девять лет, я считаю, что любовь приходит позже. Из книг я знаю, что любят по-разному: древнегреческий герой — юноша Нарцисс был влюблен сам в себя. Том Сойер, герой книги Марка Твена, думал, что влюблен в девочку, что впоследствии оказалось дружбой. В «Двадцать лет спустя» А. Дюма у Рауля, пятнадцатилетнего юноши, возникают любовь к семилетней Луизе. Но оказалось, и это была дружба. Ученица третьего класса Настя Ковалева».
— У Настеньки, между прочим, прекрасное, чисто женское чувство юмора, — смеясь, Марина подманивала к себе не сводившую круглых глаз с ее зеленого платья Ю-ю.
Я заметила, что в этой семье родителям, наверное, нелегко приходится со своими дочерьми. Одна без конца переодевает платья и пишет трактаты о любви, другая бьет футболистов и пишет трактаты о добрых царских адмиралах.
— Вы имеете в виду Мордвинова? — Лена серьезно посмотрела на меня. — Он был не просто добрый, он был умный и добрый.
— Леночка не любит, когда принижают ее адмирала. Работа о нем ей так трудно далась, — сказал папа.
Лена вздохнула.
Оказывается, в конкурсной комиссии поначалу недоумевали, почему она занялась этим адмиралом, если он не входит в программу. Лена сказала, что в школе много чего не изучают. Тогда ее спросили, почему она, например, не нашла для своей работы кого-нибудь из не входящих в программу декабристов. Пришлось взять себя в руки и подробно объяснить: именно декабристы и привели ее к Мордвинову. Ей хотелось понять, почему адмирал начал сочувствовать декабристам. У него была благополучная биография, но внешнее благополучие еще мало о чем говорит. Он помогал Рылееву и Пушкину. И Пушкин, обращаясь к нему, писал: «Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд равно священны пред тобою».
— И они, в комиссии, с нашей Леной согласились. Она им доказала! — заявила Настенька.
Лена молча поставила в середину стола вазочку с подснежниками и пригласила нас всех садиться.
— В ее работе, на мой взгляд, дан неплохой анализ среды, в которой возникло движение декабристов, — сказал папа. — Когда этот Мордвинов видел какую-нибудь особенно большую глупость или беззаконие, обязательно писал в правительство докладную записку. К его словам, конечно, не прислушивались, но зато потом многие из его докладных ходили по России в списках.
— Не случайно же Рылеев о нем писал: «Уже полвека он Россию гражданским мужеством дивит», — кивнула Марина. — Кондратий Федорович не раздавал просто так свои комплименты.
Мы разговаривали о несчастливой судьбе благополучного адмирала, который тяжело страдал от того, что меры, им предлагаемые, «всегда восхваляемы были, но никогда не было приступлено к исполнению по ним», — вспоминали в связи с этим генерала Раевского — как он провожал свою дочь Марию к мужу — декабристу Волконскому в Сибирь, вспоминали самих декабристов и тех, что пришли после них. Никто из нас не курил, на столе был только чай, из старого Политехнического парка под окном отчетливо тянуло запахом свежей зелени. Из угла, где стоял письменный стол, на нас легко смотрел Пушкин — гравюрный портрет, где он сидит, откинувшись на стуле с гусиным пером в руке. За окном светил и светил серебристо-белый вечер, и москвичка, я долго не могла заметить, что это уже не вечер, а белая ночь.
— Однако пора и честь знать. Тут все настолько вежливые, что, кроме меня, тебе никто не намекнет, — решительно, как это и положено учительнице, сказала мне Марина, вставая. Мимоходом нагнувшись и погладив Ю-ю, она прошла в коридор.
— Устала? — спросила я провожавшую нас Лену.
— Немножко.
Я предложила ей встретиться завтра, посидеть где-нибудь теперь уже вдвоем и поговорить, но только, конечно, не допоздна.
— Ничего, я привыкла. У меня еще в ванной белье, — сказала она.
— Но как же ты это все-таки успеваешь — белье, Мордвинов, уроки? Одной системы Любищева тут, наверное, мало? — спросила я.
— Сама не знаю. Года два назад научилась вязать и одновременно читать или, например, готовить уроки и варить суп.
— Ну ты прямо как Мария Кюри. Она тоже видела выход в одновременности. Хронометраж, расчет...
Я неожиданно попала в точку. Кюри была ее идеалом.
— А кто же тогда адмирал?
— Друг. Умный, интересный, но... Только великая женщина может помочь мне ответить на все мои вопросы, — наклонив голову, Лена принялась рассматривать клетки на своем платье.
— Леночке трудно сейчас приходится без мамы, — сказал папа.
— Зато потом пригодится в жизни, — откликнулась Марина.
Венедикт Григорьевич подавал нам плащи. Лена молчала.
Собираясь в Ленинград, я не ожидала увидеть девочку, которая умела одновременно вязать и читать и в поисках ответов на какие-то свои вопросы могла иметь идеалом только женщину.
— Моя беда в том, что я от природы очень сознательная, — открывая нам дверь, сказала Лена, и на ее замкнутом лице появилась мягкая, даже немножко беспомощная улыбка.
Она всегда была сознательной
Что же представлял собою адмирал
Николай Семенович как человек?
Его дочь вспоминает: «Отец мой всегда
был очень щедр для других; не только
не отказывал в помощи, но и сам
предупреждал нуждающихся».
Из реферата Лены Ковалевой
По словам Лены, в детстве она была полной, степенной девочкой, которая часто задумывалась над своим поведением и старалась поступать так, чтобы всем вокруг нее было хорошо. Теперь, когда к ним в гости приходят мамины подруги и у них начинаются разговоры о детях, мама любит рассказывать о том времени. Как и все, что мы часто вспоминаем, этот рассказ постепенно приобрел определенную форму и состоит примерно из одних и тех же подробностей.
Угощая подруг испеченным Леной тортом, мама говорит своим приятным, певучим голосом:
— Она была необычайно исполнительной девочкой. С ней не было совершенно никаких проблем, потому что уже в три года она понимала, как надо себя вести, чтобы не мешать маме. Настенька у нас совсем другая, а Лена просто была какой-то необыкновенный ребенок. Бывало, я читаю учебник, а она подойдет и начнет спрашивать: «А что там написано? А как это слово будет?» Я скажу: «Мне сейчас некогда, дружочек». И она возьмет карандашик или бумажку и тихо скажет: «Ты, мама, занимайся, а я поиграю».
Мама очень любит чистоту и порядок, и чтобы не расстраивать маму, Лена всегда убирала свои игрушки на место, а когда появилась Настенька, то как старшая стала убирать игрушки и за сестрой. Собственно, с появлением Настеньки и началась ее полная обязанностей жизнь. А до этого был Курск (когда Лена родилась, там преподавал папа); прогулки во дворе возле серой стены — почему-то эта пропитанная степной пылью стена лучше всего сохранилась в памяти. И конечно, Куба, куда отправили папу после Курска. Белые дома, синее море, пальмы, пляж с длинным-длинным молом, по которому она бежит в глубь моря, вкусный манговый сок и красная зеленка на разбитых коленках: на Кубе зеленка почему-то была красная.
Прилетев из тропиков, Лена должна была привыкать к зиме, которую она почти совсем забыла, и Куба постепенно превратилась в радужный сон. Теперь, когда к ним приходят гости и папа показывает им кубинские фотографии и фильмы, Лене трудно связать себя с той полнощекой коротышкой, бегающей среди пальм.
Появление на свет Настеньки, безвременная смерть строгой, трудолюбивой бабушки, маминой мамы, — все это стало рубежом между той жизнью и этой. Многие домашние обязанности легли на маленькую Лену.
— Девочки, не раскидывайте ничего по комнате, мама придет с работы и вас обеих расцелует, — по утрам говорила им с Настенькой мама, и Лена хорошо помнит, как восьми-девяти лет она переживала, когда не получалось убрать детскую комнату. Почему пыль, не успеешь ее стереть, опять садится на полки? Почему ее никак не удается собрать всю в тряпку? Уборка затягивалась, и пришедшая с работы мама устало говорила:
— Что же ты опять ничего не успела?
Было очень обидно, она ведь действительно хотела собрать всю пыль в тряпку!
— Ты же майор, а ходишь в уличных ботинках по комнате, — говорила она папе, когда тот прибегал на пятнадцать минут с работы пообедать.
А гуляя с Настенькой, учила ее:
— Девочка должна быть аккуратной.
Она ходила в магазин за молоком и хлебом, водила Настеньку в ясли и сад и так вошла в роль старшей, что часто сама напоминала родителям об их прямых обязанностях:
— Уже восемь часов, а Нанка играет. Почему вы до сих пор не уложили ее спать?
В те годы мама окончила медицинский институт и вся ушла в работу. Она хотела стать настоящим специалистом, помнила завет бабушки: никогда, ни при каких обстоятельствах не жертвовать своей работой. У бабушки было два высших образования, но она посвятила жизнь исключительно семье и не хотела, чтобы то же самое произошло с ее дочерьми. Мама страдала от перегрузок, но не жаловалась на это, а лишь становилась все требовательнее как к себе, так и к другим:
— У женщины должно хватать сил на все.
Она и теперь всегда успевает то, что назначила себе на день: стирает, гладит, готовит, ведет научную работу и при этом, как правильно говорит Марина Львовна, прекрасно выглядит. У нее большая светлая коса короной на голове, уверенный голос, легкая походка. Глядя на такую тетю доктора, малышам, наверное, ничего не страшно, а их родители сразу чувствуют, что ребенок попал в надежные руки.
Первая профессия, о которой мечтала Лена, — это детский врач. Она любила играть в больницу и учила своей игре Настеньку. А потом, когда она начала прикидывать к себе другие профессии, мамимо влияние продолжало сказываться в том, что она никогда не опаздывала в школу, получала только пятерки, была командиром звездочки, а когда в третьем классе ее приняли в пионеры, — председателем совета отряда. Видимо, это удел всех сознательных девочек — занимать руководящие должности в школе. Они не могут, как мальчишки, баловаться на уроках, не делать домашних заданий, рисовать пистолетики на полях дневников, драться...
— Драться я научилась поздно. Это случилось, когда к нам в класс пришла Марина Львовна, — рассказывала мне Лена.
Она стояла рядом с включенной в сеть вафельницей и помешивала тесто в кастрюле. Завтра должна была приехать с юга мама, и Лена хотела приготовить к ее возвращению вафли с вареньем.
Переходный возраст
Адмирал Николай Семенович одинаково
защищал права людей как сильных и богатых,
так и слабых и бедных, и, невзирая на личность,
судил по справедливости.
Из реферата Лены Ковалевой
Когда Лена перешла в четвертый класс, вместо одной Людмилы Александровны у них сразу стало много учителей и даже, как у больших ребят, своя классная руководительница — Марина Львовна. Лена ее немного знала. В третьем классе она однажды видела, как Марина Львовна репетировала с большими ребятами спектакль.
Над сценой было написано: «Я знал одной лишь думы власть», а на сцене взлохмаченный высокий старшеклассник читал стихи:
Нет, бил
барабан перед смутным полком,
Когда
мы вождя хоронили:
То зубы царевны над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.
Случайно заглянувшей в зал Лене не хотелось закрывать дверь. Одетая в светлую блузку и длинную черную юбку и оттого похожая на старинную девушку из взрослого кино про XIX век, Марина Львовна прохаживалась перед сценой, что-то помечала в блокноте, старшеклассник слушал ее замечания и продолжал читать:
Кого ж это так — точно воры вора
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.
Мальчик замолк, и Марина Львовна повернулась к ней:
— Девочка, у тебя есть ко мне какое-то дело?
А дела никакого не было.
— Не надо привыкать стоять под дверями, даже если ты маленькая. Тебе понравилось, как Вася читал стихи?
Лена молчала.
— Сейчас у нас репетиция, а на репетиции посторонним вход воспрещен. Актеры стесняются. Ты меня поняла?
— Поняла.
Марина Львовна улыбнулась, и Лене пришлось уйти.
Ей тогда очень захотелось поскорее стать большой, хорошо понимать стихи, которые она сейчас слышала, и вообще учиться у Марины Львовны.
И вот это случилось. В синем костюме, ворот которого был сколот большой брошкой с прозрачным камнем, Марина Львовна вошла к ним в четвертый «В» и сказала:
— Здравствуйте, ребята. Я буду вести у вас русский язык и литературу.
Повернувшись к доске, она крупными буквами написала ЛИТЕРАТУРА и подчеркнула это слово жирной чертой.
— А ну-ка, кто из вас может сказать, что это за предмет и чему он учит?
Лена тут же вскинула руку...
Раньше она не задумывалась, скучно ей в школе или интересно; все, что там происходило, было просто нужным, положенным, обязательным, как покупка молока и хлеба по утрам. А теперь все стало иначе. Их четвертый «В» был одновременно кабинетом литературы, и Лене до сих пор иногда снится, как она сидит после уроков в своем школьном фартуке на последней парте и оформляет классный уголок («Исполнять свой долг бывает иногда мучительно, но еще мучительнее не исполнить его», — написано на стене), а Марина Львовна в темном платье со стоячим воротником ведет в это время у десятиклассников факультатив по литературе.
— Почему Герцен написал свой мартиролог? Почему он писал: «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство, — едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью... Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли...»
Марина Львовна говорит, Лена приклеивает к ватману график дежурств, и ей ужасно завидно, что большие занимаются вот такими проблемами, а она возится с этим уголком, который и повесить-то некуда. Там на стене портрет Пушкина, тут — эскизы театральных декораций и рядом: «Ответственные за дисциплину: первое звено...»
— Куда его ни ткни, везде этот уголок торчит инородным телом! — в сердцах сказала как-то Марина Львовна.
Она начала читать с ними вслух «Короля Матиуша Первого» Януша Корчака, и в классе так полюбили эту книгу и ее автора, что назвали свой отряд его именем, а на стенде с уголком приклеили его портрет. Лена была очень довольна, что украшенный портретом такого знаменитого писателя и педагога стенд больше не выделяется на стене инородным телом.
Но ни «Король Матиуш», ни тем более диктанты на уроках все-таки не могли ей дать того, о чем она мечтала еще с третьего класса, когда услышала странные, до сих пор рокочущие в ней стихи об умнейшем муже России. Возникшее тогда желание все понимать, как Мария Львовна и ее большие ребята, продолжало расти с каждым днем, и все, что этому мешало, ее сильно расстраивало.
Допустим, диктанты нужно писать для того, чтобы стать грамотным, насупив брови, рассуждала она, но почему так, что у нее в классе сорок человек и ни один из них, уже проживших целых десять лет на свете, до сих пор не заинтересовался ни Герценом (она уже дважды бралась читать «Былое и думы»), ни другими умнейшими мужами России?! Взять хоть этого Андрея Мысливина, с которым ее недавно посадили (ее всегда усаживали с мальчишками, и этих мальчишек почему-то звали Андреями). Мало того, что он блондинистый и противный, с ним все время приходится делить парту — стопкой книг или проведенной в уме чертой. Иначе схватит у тебя тетрадь и будет как самый последний иждивенец списывать даже те простые вещи, которые они проходят на уроках.
Однажды Лена спросила Марину Львовну:
— Неужели все зависит от возраста? Почему нельзя стать большой до тех пор, пока не вырастешь?
— Не знаю. Но если и можно, я тебе не советую. Каждый период своей жизни человек должен испытать полностью, иначе потом будет очень обидно и жалко, — серьезно отметила она.
А как-то в апреле, когда в помутневшие за зиму окна стало заглядывать солнце, Лена открыла дверь пустой учительской и там, среди снопов теплого света, увидела одетую в воздушное пестрое платье Марину Львовну, которая сидела верхом на столе и уверенным голосом говорила кому-то по телефону:
— Все это мура! Мура и нервы... Пока мы с тобой ныли, из моих малышек начали подрастать очень интересные человеки. В сущности, их волнует то же самое, что и нас.
Заметив Лену, Марина Львовна спрыгнула со стола и, быстро закончив свой разговор, подошла к ней:
— Вот доказываю тут одному, что мне с вами весело. Между прочим, мой одноклассник. Сидел когда-то передо мной на первой парте, и я, как и ты на своих Андреев, не обращала на него никакого внимания.
Марина Львовна загадочно улыбнулась, а Лена с удивлением подумала: неужели и она мучилась когда-то с этими мальчишками? Это было странно.
— А что он читал? — спросила она.
— Не помню. Кажется, про спорт.
— А вы?
— Я? В четвертом классе я, по-моему, в первый раз попыталась прочесть «Вильгельма Теля» Шиллера. Там было много риторики, но я не позволяла себе пропускать ни одной страницы. Родные и знакомые говорили: «Девочка, милая, посуди сама, это еще не для твоего возраста!» Но я чем больше читала, тем становилась строптивее.
— Строптивее, — задумчиво повторила Лена. — Это как?
— Что хочу, что считаю нужным, то и делаю.
— Это значит, вы были несознательной? — уточнила Лена.
— Ну, в общем, так.
— Понятно, — сказала она и в самый последний день перед каникулами надела на голову Мысливина мешок, в котором носила в школу тапочки. Хватит быть маленькой и сознательной. Учебный год кончился, и теперь надо за все отквитаться!
Мысливин был на голову выше Лены и даже с мешком на голове дрался отчаянно. Но она вовсю махала руками и так вошла в раж, что их с трудом растащили.
— И не стыдно? Вас что, надо, как Жучку с кошкой, водой разливать? — сердито отчитывала их запыхавшаяся Марина Львовна. Она была недовольна обоими, но ругала в первую очередь Мысливина:
— Ты же мальчик!
А дома совершенно растерянная мама ругала Лену:
— Ты же девочка!
— Ну и что? Надо, невзирая на личность, судить по справедливости, — упиралась Лена.
С каждым днем она становилась все строптивее и ничего не могла с этим поделать...
— Переходный возраст — я испытывала его полностью. А это было только начало, — говорила мне Лена.
Как и полчаса назад, она продолжала стоять рядом с включенной в сеть вафельницей, наливала на ее тисненую поверхность тесто, прижимала его крышкой, а потом вынимала и аккуратно свертывала в трубочки широкие ребристые вафли.
— Лен, дай чего-нибудь поесть. Вы знаете, я ужасно спешу, — влетела в кухню Настенька.
— Теперь она такая. Четвертый класс, — сказала Лена. Она налила сестренке чай и стала быстро собирать в пакет бутерброды.
— Возьмешь с собой!
Настенька кивнула и убежала.
— Ну а она дерется? — спросила я.
— Еще как! — Лена улыбнулась. — У нее есть там одна Марина, с которой она периодически враждует. Недавно фартуки друг другу порвали.
— И что же говорит мама?
— Смеется. Девочки в Анастасии и так хватает. Пусть дерется. Потом пройдет.
— А в тебе, значит, девочки не хватало?
— Для мамы — да. Но дело тут было, конечно, не только в драках. Драчливый период у меня очень быстро прошел.
Сама по себе
Из десяти томов архива графов Мордвиновых
работы Николая Семеновича занимают восемь.
Это социальные, политические и экономические
статьи. Но, по-моему, самые интересные — его «мнения».
Их более пятисот. Вот одно из них: «Дайте свободу мысли,
рукам, всем душевным и телесным качествам человека;
предоставьте всякому быть тем, чем бог его сотворил,
и не отнимайте, что кому природа особенно даровала».
Из реферата Лены Ковалевой
Летом того года, когда Лена перешла в шестой класс, они всем отрядом ездили в палаточный лагерь на озеро Вуокса. Было шумно, весело, много разных праздников, походов, послеобеденный час назывался не тихим, а громким, но Лене запомнилось не только это.
Перед отъездом ее не выбрали председателем совета командиров. Получилось так потому, что на собрании все почувствовали: Марине Львовне хочется, чтобы в отряде командовали мальчики, — и выбрали Колю Тишуева.
Отряд под командой Тишуева стал плестись в хвосте, и опытная Лена хорошо понимала, отчего это. Тишуев боялся идти на конфликты с друзьями и, следовательно, был совершенно не способен принимать решения. Марина Львовна от этого страдала. После ряда неудач, собрав всех на лужайке возле озера, она учила Тишуева и других мальчишек:
— С тем, кто ничего не умеет потребовать, любое дело, во-первых, скучно, во-вторых, обречено. Мальчики, поймите, вы же будущие мужчины, вам надо привыкать быть во главе событий!
Мальчики молча переглядывались, а потом один за другим закричали:
— Давайте выберем девочку! Лену... Давайте Лену Ковалеву!
И выбрали.
Зачем все эти разделения? Давайте выберем мальчика, давайте выберем девочку...
— Разве дело не в способностях? — спрашивала потом Лена Марину Львовну.
— Вырастешь — поймешь. — Она дула в озябшие ладони. Три дня подряд перед этим лил дождь.
— Марина Львовна, но я сейчас хочу понять!
— Сейчас? Но что я могу сказать тебе сейчас? Мальчишкам гораздо важнее уметь руководить, чем нам с тобой. А я их люблю и хочу научить.
Научить, помочь — это Лена понимала. Она давно привыкла помогать тем, кто слабее ее. Но почему мальчишкам важнее уметь руководить? Было по-прежнему неясно. Если способности к этому зависят от природы, то при чем тут мальчик или девочка?
Шло время, их отряд стал побеждать в лагерных конкурсах и смотрах, но жизнь состоит не из одних общественных дел. В ней много личного или не разберешь какого: в палатке, которую занимали девочки, постоянно на кого-нибудь дулись, шли на принцип, обсуждали характеры, дружили и раздруживались, до слез страдали из-за всякой чепухи. Как-то все решили сделать красивые прически к ужину, а Лена позабыла, и на нее надулись. После отбоя, почувствовав себя особенно одинокой, она убежала на берег озера и долго сидела там одна под кустом.
— Лена, я все знаю, — подошла к ней Марина Львовна.
Она просила Лену не обижаться на девочек.
— Марина Львовна, я не могу жить, как они! Я устала разбираться во всей этой чепухе, которой они придают такое значение! — Лена всхлипывала.
— Ничего по поделаешь, Лена. Надо терпеть. У тебя другой характер, и ты должна привыкать к этому.
Над водой поднимался туман; окутанная этим туманом, Марина Львовна казалась печальной и очень усталой.
— И потом, ты далеко не во всем права. Нельзя, если все решили сделать модные прически, ходить белой вороной. Ты ведь красивая девочка, но совершенно не думаешь об этом.
— Хорошо, я не думаю! Но почему они только об этом и думают? Почему они все время ищут тех, кто должен ими восторгаться и что-то для них делать? Почему не хотят быть самостоятельными? Марина Львовна, скажите?
— Ну что я могу сказать? Двенадцатилетние девочки — это ведь такие сложные существа, и у них бывает столько пустяковых трагедий. Но потом все это проходит. Поверь, я тоже была такой. — Марина Львовна задумчиво кидала в воду камешки.
Лена тихо вытирала слезы.
Пустяковые трагедии не миновали и ее. Когда в палатке узнали, что Зоя Частополова потихоньку от других ест яблоки (у нее под кроватью заметили огрызки), все, в том числе и Лена, возмутились:
— Мы же договорились делить все поровну!
На громком часе стали выяснять отношения и довыяснялись до того, что на шум прибежала Марина Львовна. Узнав, о чем сыр-бор — какие-то огрызки! — она стала говорить, что они не принципиальные, а злые. Им стало обидно:
— Нас никто не понимает!
Тихоня Таня Мощина даже разревелась и захотела домой к своему хомячку Пушке: он там соскучился, бедненький.
— Домой, домой! Мы поедем домой! Мы хотим к Пушке! — стали кричать остальные.
Марина Львовна вспыхнула:
— Какой-то хомячок вам дороже нашей дружбы!
Она пила валерьянку, а они побежали из палатки к озеру — топиться. Добежали до большого камня на берегу, сидели и, обнявшись, ревели. Так их там Марина Львовна и нашла.
— Девочки вы мои милые, ну что же мне с вами делать?!
И они долго вместе и плакали и смеялись.
Двенадцатилетние девочки очень нервные существа! Но это еще не объясняет, почему они не хотят быть самостоятельными, ищут тех, кто должен ими восторгаться, придают значение каким-то прическам...
— Я мучилась этими вопросами впервые. А потом они уходили, возвращались снова, и каждый новый период жизни делал их сильнее, — говорила мне Лена.
— А сейчас с кем ты больше дружишь: с девочками или с футболистами? — спросила я.
— Это трудно сказать в двух словах. До футболистов у меня было два таких разных периода. — Лена подумала. — Без этих периодов в моей жизни, наверное, и футболистов бы не было.
— И какой же первый? — поинтересовалась я.
— Первый? Он начался, когда от меня впервые ушли те вопросы.
Она надавила на крышку вафельницы.
Под небом Счастливой Аркадии
Мордвинов предлагал составить
общество для перевода на российский
язык книг, служащих к нравственному
образованию народа, а для заведения
библиотек и музеев во всех губернских
городах внести в государственную роспись
специально на эти нужды 50 тысяч рублей.
Из реферата Лены Ковалевой
Вопросы, мучившие Лену в лагере, быстро ушли. И настало удивительное время. Оно пришло осенью, когда она вернулась в Ленинград и, забыв обо всем, начала ходить в античный зал Эрмитажа. Когда-то, еще в шесть лет, Лену привели в Эрмитаж родители, но тогда она занималась в кружке рисования, а теперь, как у большой, это были лекции по истории искусства. Белые скульптуры в музейной тишине. Древняя Греция с ее дворцами, храмами, городами-республиками, ее легенды и мифы — вот что принесло в душу двенадцатилетней девочки покой.
Каждый день Лена читала о тех далеких временах, когда мудрость еще не была седой, а была юной, как раннее утро, и когда жил в Счастливой Аркадии титан-исполин, брат Прометея Атлант. Было ему тысяча лет или еще и еще тысяча — о том не знали ни боги, ни люди. Годы и века скользили по нему, словно мимо него, а он оставался в расцвете сил, бессмертный, как каменная гора. Так начиналось сказание о титане Атланте и о Счастливой Аркадии, под небо которой, читая, каждый день улетала теперь Лена.
Она знала там всех. И смешливых дочерей Атланта Плеяд, которые стали потом звездными девушками неба, и сына Золотого Дождя Персея, и кентавра Хирона, подарившего свое бессмертие живой жизни. Ей нравилось, что греческие боги покровительствуют людям и умеют пошутить — Гермес, например, покровительствовал ворам, — что у них на Светлом Олимпе порядок и за каждое дело отвечает какой-нибудь определенный бог, с которого можно, если что, спросить, что там есть законы, которые все боги обязаны соблюдать, а строже всего карается клятвопреступление. Было очень жалко, что на самом деле греческих богов не существовало, а их выдумали люди, но какими божественными были эти люди!
Лене казалось прекрасным, что в Древней Греции была демократия и все граждане были образованными людьми, а то, что, кроме этих граждан, были еще рабы, у которых не было никаких прав, и женщины, у которых прав было совсем мало, тогда куда-то уплывало. Видимо, для двенадцатилетнего человека это естественно — видеть то, что хочется. А может, и не только для двенадцатилетнего? Во всяком случае, Лене настолько хотелось, чтобы все в ее греческой мечте было красиво, что некрасивого она просто не замечала.
Так она и жила под небом Счастливой Аркадии. А дома тем временем подрастала Настенька и шли уроки в школе.
— Ну как поживают твои богоподобные греки? — время от времени интересовалась Марина Львовна. Лена рассказывала, но только ей — у одноклассников были свои мечты и, как она вскоре узнала, свои фантастические страны.
Зимой ее опять пересадили, и опять к Андрею, теперь уже не Мысливину, а Рахманову, или просто Рахмаше.
Сначала она не обратила на него никакого внимания: маленький, толстенький мальчик с самостоятельным лицом — вот и все. Но случилось несчастье: машиной задело собаку Тимку, верного Лениного друга. Целый день они всей семьей его лечили, но сделать ничего не смогли, собака погибла. В двенадцатом часу ночи Лена с папой вынесли из дома останки бедного Тимки и повезли хоронить (собак положено хоронить за городом), а утром Лена пришла в школу не спавшая, осунувшаяся. Говорить о своем горе не хотелось. Да и кому? Девчонкам только заикнись — вся школа узнает. Лучше перенести все в себе. И вдруг...
— Лена, что с тобой случилось? — тихо спросил Рахмаша.
В его голосе чувствовалась тревога.
— У меня была ужасная ночь.
Лена начала рассказывать, как принесли домой Тимку, как он, несчастный, страдал, как она, подавленная, ехала с папой по пустому шоссе. Рахмаша сочувственно кивал. Оказывается, у него тоже была собака.
Так они подружились, и вскоре Лена узнала, что у Рахмаши и его лучшего друга, тоже Андрея, Шемилина, или попросту Шемили, есть своя страна. Она называется УРА, а полностью Универсальная Рациональная Автоматизированная. Никому другому говорить об этом не надо — секрет! — а ее решили посвятить. Они достали из портфелей тетрадки с чертежами. Рахмаша все, до деталей, объяснял: вот это самолет на электрической тяге — он не загрязняет атмосферу, синтезатор-экскаватор — достает полезные ископаемые, не разрывая почвы, а это просто шутка: робот играет с кошкой.
— Я тоже люблю кошек, хотя собак, конечно, больше, — кивала Лена. — А еще я два раза паяла с папой приемник.
— Я тоже умею паять, — говорил Рахмаша.
Он выписал ей в УРА пропуск — действителен для посещения всех без исключения автоматов. В стране УРА абсолютно все делают машины.
— А что же там делают люди? — удивилась она.
— Не знаю. У них развитый социализм.
— Ну нет, у меня будет только коммунизм. — Лене захотелось не только иметь пропуск в их страну, но и придумать свою. Пусть будет две страны: у них — страна машин, а у нее — страна людей, Ванландия, от английского слова «вантефул» — прекрасная.
Изо дня в день Лена придумывала и рассказывала своим Андреям, что это за божественная страна. Там нет денег и никто никого не обижает. Дети, чтобы не скучать в этих детских садах, идут в школу в пять лет. Взрослые занимаются только любимой работой, а чтобы им было интереснее друг с другом, селятся по занятиям — город скульпторов, город физиков, город кондитеров. Ванландцы верят в Ичела, то есть в идеального человека. Это самый лучший гражданин, который проповедует, что надо постоянно работать над собой, не останавливаться на достигнутом, уважать себя и каждого человека, не обращая внимания на возраст. Дети такие же люди, как и взрослые, а главное в человеке — его душа!
Лена нарисовала карту своего государства.
Как и положено, в этом государстве было много городов, и один из них в память древних греков назывался Счастливой Аркадией. Были и моря, самое большое — море Ласки, и острова: самый доступный — архипелаг Друзей, самый недоступный — атолл Уединения. А с другой стороны, за скалистыми горами, как у греков за многими-многими реками, за многими-многими горами, на последних рубежах запада — пролив Смерти.
— Человек живет очень мало, поэтому должен экономить время. Во имя духовного надо отказываться от материальных излишеств, — так проповедовала увлеченная мечтой о богоподобных людях Лена. У нее в столе и сейчас лежит пропуск в страну УРА и карта Ванландии, и она и сейчас, натыкаясь на эти бумажки, не может сказать, была у нее тогда с Рахмашей просто дружба или уже что-то немножко большее. В тринадцать лет все это перепутано так же, как в семнадцать и даже, наверное, в тридцать.
Кончался седьмой класс. Лена уже стала такой большой, что Марина Львовна делилась с нею своими личными делами. Как-то они шли от школы к метро, Марина Львовна рассказывала о своем детстве, о сказках, в которые она тогда верила, и вдруг без всякого перехода сказала, что выходит замуж.
— Не ожидала? Да я и сама... Думала ли я, что моим принцем будет парень, который сидел передо мной на первой парте и на которого я не обращала никакого внимания?
Лена вспомнила, как два года назад Марина Львовна, сидя верхом на столе, учила кого-то по телефону, и подумала: значит, это тот.
В классе долго ничего не знали. Лена никому не говорила, даже Рахмаше. Но вот в конце мая Марина Львовна пришла на урок с кольцом на пальце и как-то не очень ловко, пряча эту руку за спину, начала урок. Вскоре в классе поднялся ропот.
Кольцо... У нее кольцо!
Девочки одна за другой начали выбегать в коридор.
— Ребята, он мой одноклассник! Очень хороший, добрый человек, в прошлом спортсмен...
Марина Львовна была совершенно растерянна. Вернув девочек, она говорила:
— В наших отношениях ничего не изменится. Я вам обещаю. Мы будем так же дружны.
Но они продолжали нервничать. На перемене прибежали торжествующие девочки из седьмого «Д». У них была замужняя классная руководительница, и они уже давно пугали: вот выйдет ваша Марина Львовна замуж, вы ей тоже будете не нужны. Девочек прогнали, но сами раскисли. Замужество — это все, конец. Нельзя любить нас и кого-то!
С высоты своей мечты о счастье для всей вселенной Лена пыталась возражать: когда-то надо человеку и замуж выйти, нельзя быть эгоистами, и только дома, когда она открыла «Сказания о титанах» и стала читать о том, как кентавр Хирон подарил свое бессмертие живой жизни, ей захотелось плакать. Еще не было на земле такого часа, когда бы вся живая жизнь скорбела. Всегда сочетались в ней смех и слезы, радость и грусть. Но когда Хирон ступил на тропу, ведущую в аид, охватила всю природу горесть...
— Да, удивительное было тогда время. Теперь я его называю светлым, или греческим, периодом, — рассказывала мне Лена.
Мы по-прежнему сидели у нее на кухне, и она, свернув все вафли в трубочки, теперь наполняла каждую из них малиновым вареньем.
— Все вокруг казалось загадочным и одновременно гармоничным. Вы знаете, я даже Нанку тогда как будто снова для себя открывала. И было так интересно видеть, как складывается человек со своими привычками, влиять на него. У меня с тех пор осталось одно сочинение.
Отставив в сторону банку с вареньем, Лена принесла на кухню два тетрадных листка. Сочинение называлось «Случай, который заставил меня задуматься».
«Теперь у нее поморожены щеки... А началось все с того, что, переехав на новую квартиру, Настенька, не найдя друзей — ребят, нашла друзей в кошках. Каждый день она кормила кошек, которые ходили за ней по пятам, встречая и провожая ее. Шло время. Постепенно к нам на четвертый этаж стали прибегать и котята, которые только-только открыли глаза, и Настенька с еще большим старанием кормила их. А когда она болела, мы всей семьей кормили кошек. Однажды в школе отменили уроки (было около 30 градусов мороза), и Настя пошла домой. До дому ей надо было идти быстрым шагом 10—15 минут, но Нанка шла около часа. Ведь надо было рассмотреть все снежинки, сосульки, веточки, стеклышки. Но вот и дом. На лестнице она встретила своих друзей и, войдя в квартиру, первым делом бросилась к холодильнику. Она вытащила на лестницу колбасу, разделила ее между всеми поровну, а когда хотела вернуться, оказалось, что дверь захлопнулась. И Нанка осталась на лестнице. Достав из ранца «Родную речь», она принялась читать. Когда читать ей надоело, она играла с кошками или выходила гулять. Только в час пришел на обед папа. Настенька была обмороженная, но веселая: ведь это время она провела с друзьями...
Дети такие же люди, как и взрослые. И Настенька в свои семь лет уже может дружить и заботиться о друзьях (пусть это котята). Любому человеку необходимо иметь друга (не обязательно человека), и Настеньке он необходим. Каждый день я нахожу в Настеньке новое, а в этот день открыла очень много. Настенька — это человек с огромным сердцем. Очень интересный и глубокий человек, что нельзя сказать, увидя ее один раз. Да, человек — это загадка, и каждый человек — это клад, который надо постараться найти и увидеть. А какую испытываешь радость, когда в человеке открываешь новое и неожиданное? По-моему, общение с людьми и сами люди есть самое замечательное».
Под сочинением рукой Марины Львовны было написано: «Умница!» — и стояла пятерка.
— А какое отношение этот период имеет к тому, что в твоей жизни появились футболисты? — спросила я.
— Ну, во-первых, если бы Марина Львовна не вышла замуж, я бы не попала к ним в школу. — Лена загнула палец.
— А во-вторых?
— Наверное, то, что, придя туда, я на все смотрела как бы с высоты...
— Своего Светлого Олимпа?
— Да. Правда, к тому времени он стал уже не таким «светлым». В восьмом классе у меня начался другой период...
Неси свой крест и веруй!
Адмирал Н. С. Мордвинов был
убежденным противником смертной казни.
22 декабря 1825 года, через семь дней
после восстания декабристов, он писал:
«Человек, будучи существо, подвластное
страстям и подверженное ошибкам ума,
может ли по природе своей иметь право
отнять у подобного себе то, чего, при раскаянии,
не в силах он возвратить?»
Из реферата Лены Ковалевой
«Эта ужасная жизнь — зебра. За хорошим обязательно идет плохое. Человеку то очень хорошо, то невыносимо тяжело. Когда-то прыгал от радости, а теперь хочется прыгать с девятого этажа от неудач, боли, угрызений совести. Можно, конечно, жить, зажав себя в тиски, без эмоций. Жить одним умом. Но сердце все-таки вырывается наружу, и ему больно», — писала в дневнике Лена.
Так начался другой период. Ей тогда исполнилось четырнадцать лет, она разочаровалась в себе, в друзьях и мучительно думала, в чем смысл жизни.
Об этом она спрашивала себя и в школьных сочинениях, которые часто в подражание древним имели форму диалога.
« — Для чего живет человек?
— Для того, чтобы нести людям добро.
— А если для этого надо отдать свою жизнь?
— Надо отдать.
— И тебя больше не будет? Совсем?
— Зато о тебе будут помнить, с тебя будут брать пример.
— А потом люди, которым ты принес добро, тоже умрут.
— Ну и что? От нас останется след. Из всего хорошего, что мы делали, когда-нибудь сложится что-то очень хорошее.
— А я? Что будет со мной, когда я умру? Почему то, что человек мучился, радовался, ненавидел, дружил, думал внутри себя, должно пропасть вместе с ним? Неужели это было только для тебя? Для чего ты жил?
— Чтобы стать человеком. Чтобы думать, мучиться, любить, чтобы делать людям добро.
— Но об этом мы уже говорили. А я хочу понять, как смириться с тем, что меня не будет? Как это понять?»
Темой этого сочинения был роман Фадеева «Молодая гвардия». Под ним стояла четверка и рукой Марины Львовны было написано красными чернилами: «Леночка! Фадееву, наверное, твое сочинение много сказало бы о тебе и твоем поколении. Думал ли он, что у юного читателя конца семидесятых годов «Молодая гвардия» будет вызывать мысли и о том, почему люди смертны?.. Но наш предмет — наука о литературе. Я ведь должна оценивать твои знания, а не только твое душевное состояние. Понимаешь?»
Лена понимала. Пытаясь взять себя в ежовые рукавицы, она даже стала, как Любищев, подсчитывать, сколько времени и на что тратит, но...
«7.20. Меня будит мама. Вставать не хочется, вчера до часу читала «Люди или животные?» Веркора, но все же встаю. Делаю зарядку, умываюсь, убираю постель.
7.45. Завтракаю, надеваю форму, помогаю Нанке собрать портфель и собираю свой.
8.30. Пожелав родителям: «Не скучайте без меня!», вылетаю из квартиры. Бегу до метро. В метро, как и вчера и позавчера, про себя повторяю: «Как часто, пестрою толпою окружен...»
9.00. Первый урок начался — это физика, движение тела по наклонной плоскости. Перемена — опять урок — перемена — урок... После занятий собралось комсомольское бюро. Главный из вопросов — сбор макулатуры.
14.35. Вышла из школы. Метро. В вагоне опять повторяю: «И скучно, и грустно, и некому руку подать... А годы проходят — все лучшие годы!..»
15.05. Пришла домой. Настенька уже там и голодная. Подогрела суп, помыла посуду, сажусь за уроки. Математика, география, история, домашнее сочинение о «Горе от ума». Я пишу, а их никого уже нет, ни Грибоедова, ни Лермонтова, ни Пушкина. Почему жизнь так коротка?
17.15. Сделала все, а сочинения так и не написала. Вместо него опять получился диалог на вольную тему. Но надо бежать на дополнительные занятия по английскому. По дороге захожу в магазин купить хлеба, масла, крупы.
18.00. Занятия: слова, текст, перевод, пересказ, грамматика. Скучно.
19.05. Ушла от англичанки. Читаю в автобусе «Горе от ума» и наконец придумываю план сочинения и эпиграф: «Правда глаголет устами безумцев». Луначарский.
22.30. Наконец кончила сочинение. Пришлось прерываться на ужин, и еще меня дважды перебивал Рахмаша, звонил и болтал о всякой чепухе. Но все! Иду купаться и спать. Спать уже очень хочется... И так каждый день, семь раз в неделю. Вот это — жизнь?!»
Диалог, приложенный к сочинению о Грибоедове, звучал так.
« — Что такое счастье?
— Счастье — это когда хорошо тебе и окружающим, иначе — жестокость.
— Но возможно ли, чтобы человеку было постоянно хорошо?
— Возможно. Это будет при коммунизме.
— А нужно ли это? Может, постоянное счастье не нужно даже при коммунизме? Может, оно вообще не нужно?
— Почему?
— Потому что из страдания рождается сострадание.
— Но зачем оно, если все будут счастливы?
— Не знаю. Наверное, для самосовершенствования. Но это далекое будущее. А я думаю о том, что делать сейчас, когда в мире еще очень много несправедливостей и ужасов: голод, война, эксплуатация... Должна ли я брать на себя всю ответственность за происходящее в мире?
— По-моему, должна.
— Но как это делать?
— Думай. А пока будь верной себе.
Марина Львовна, но скажите, зачем быть верным себе, если потом тебя не будет? И как быть с мировой несправедливостью и страданиями?»
Ответ Марины Львовны:
«О Грибоедове очень интересно. А вот диалог... Твоя мысль вертится здесь на холостом ходу. Может, мешает форма диалога? Попробуй то же самое, но проще. Леночка, милая! Ты сейчас утопаешь в риторике и схоластике. Это свойственно всем, кто в четырнадцать лет думает о смысле жизни. А вообще ты большой молодец. 5».
За сочинения Марина Львовна ставила четверки и пятерки, а в устных разговорах хваталась за голову.
— Погоди, не все сразу. Ты слишком пылкая.
— А вы? Разве вы не такая?
— И я тоже. Быть в аду нам, сестры пылкие...
Она шутила! А Лене хотелось плакать.
Как быть?
Уставшая за день мама только разводила руками:
— Всех занимает учеба, а тебя? Зачем люди умирают? Что за проблема для четырнадцати лет?
— Но, мама, я же действительно от этого страдаю. Вспомни, неужели ты в моем возрасте никогда об этом не думала?
— Ну почему же, думала, наверное. Но я, честно говоря, давно жду от тебя другого вопроса.
— Какого?
— А сама ты не догадываешься?
— Нет.
— О первой любви, — мягко и даже чуть смущенно сказала мама. — Леночка, я готова говорить с тобой на любые темы, но только не о смерти.
— Но почему?
— Потому что как врач я хорошо знаю, как труден этот вопрос для пожилых людей. А у тебя все впереди. Давай, дружочек, быстро постираем белье и спать. У меня завтра тяжелый день — приезжает комиссия.
Что делать, чтобы тебя все уважали и понимали? Об этом спросила Лена папу, у которого, как ей казалось, тоже был какой-то кризис. Он жил радиоэлектроникой, писал о ней книги и вдруг стал ходить в архив Пушкинского дома. Одно время мама была просто в растерянности. Зачем инженеру литературный архив? Когда по вечерам, прохаживаясь по кухне, папа стал читать маме лекции о Пушкине (с другом-филологом он писал исследование «Адресаты лирики Пушкина»), она говорила: «Вадим! Такими вещами должны заниматься специалисты». Но потом увлеклась. Бакунина, Ризнич, Керн, Оленина — одна любовь, вторая, третья... А почему? А дальше?
— Так говоришь, что делать? — переспросил Лену папа. — Главное — научиться ни от кого не зависеть.
— То есть не преклоняться перед авторитетами?
— Не только. Зависимость часто начинается с мелочей. Вся наша жизнь, Леночка, упирается в мелочи.
— Ты имеешь в виду быт?
— И быт, и вообще законы общения. Кто-то пришивает за тебя пуговицу, несет пальто в чистку, ты привыкаешь к этому, а потом... Тому, от кого ты зависишь по мелочам, приходится уступать и по крупному счету.
— Но почему? Из благодарности? Но ведь настоящие люди не требуют за свою помощь благодарности.
— Конечно, специально они не требуют. Но, видишь ли, человеку свойственно не принимать мнения зависимых от него людей всерьез. Зависимых не уважают. На них смотрят сверху. Помнишь, я учил тебя паять. А зачем?
— Чтобы я не просила чинить приемник своего будущего мужа?
— Ну до этого тебе, к счастью, далеко, — улыбнулся папа. — Но, в общем, да, и для этого тоже. Я хочу, чтобы ты была абсолютно самостоятельным человеком. Понимаешь?
— Да... Пап, а какие, по-твоему, черты характера помогают стать самостоятельной?Трудолюбие? Разносторонность интересов? Еще?
Конкретные черты Лене нужны были для дневника, в котором она завела раздел «Комплексный идеал человека».
«Я составляю свой идеал постепенно, — писала по ночам она. — Прибавляю к безусловно нужным каждому человеку чертам: честности, доброте, целеустремленности, трудолюбию — такие, которых не хватает именно мне. Как я это делаю? 1. Где-то прочитаешь. 2. Формулируешь и приходишь сам. 3. К идее подходишь близко, а сформулировать ее не можешь, тогда приходится задавать вопросы другим людям».
Дальше в дневнике были перечислены черты, которые Лена хотела взять у молодогвардейцев (бесстрашие), Любищева (независимость ума, стойкость), своего папы (любознательность), Марины Львовны (артистичность, азартность, раскованность). Шло незаконченное рассуждение об умении общаться с людьми и фраза: «Но чтобы понять смысл жизни, всего этого мало, все это — не то».
— Марина Львовна, что то? Ну что же все-таки мне делать? — спрашивала она. — Ведь никто не может ответить.
— Ну раз никто, значит, и я не смогу. Подожди. Когда-нибудь все будет нормально, и ты поймешь все радости жизни. А пока... Умей нести свой крест и веруй.
— Кто это сказал?
— Это сказала девушка, которая поняла, в чем смысл жизни. Читай Чехова, «Чайку».
Лена прочитала.
«НИНА. … Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слова, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.
ТРЕПЛЕВ (печально). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».
Призвание. Да, конечно, надо узнать свое призвание. Но как любить жизнь, если не понимаешь, для чего она? Как древние греки? Однако в греках Лена в последнее время тоже начала разочаровываться.
«Языческие боги. Вечно юные, статные, красивые, высокие. В детстве я представляла их тем поэтическим идеалом, к которому стремились греки. Но что же это за идеал? И какого уровня люди могли к нему стремиться? Боги бессильны перед начертанной им судьбой. Прекрасная, рожденная теплым, ласкающим Адриатическим морем Афродита была женой самого нелюбимого сына Зевса Ареса. Они страдают от одиночества, а заботиться друг о друге совершенно не умеют. Громовержец Зевс, да и не только он, забывает все хорошее, что делали ему. Прометей навечно приговорен к мучениям за то, что пошел против воли Олимпа, чтобы помочь людям, и никто из богов ему не помогает. Каждый из них покровительствует какой-то области жизни, но в остальном беспомощен и недалек, как простой ремесленник. А какие у многих из них вкусы? Дворцы, колесницы, троны — все это на Светлом Олимпе золотое. Как будто главное — жить в золоте! Но самое, на мой взгляд, обидное то, что греки слишком уж славят физическую красоту...»
Как жить?
Вокруг стоит огромный город. Он раскинулся на земле, под землей, над землей. Но обязательно наступит день, когда его не будет, когда вообще ничего, даже Земли, не будет. Так почему же люди живут так, как будто этот день никогда не наступит? Почему в свободное время одни до потери сознания пляшут, другие едят, третьи торчат на стадионах, четвертые меряют какие-то дурацкие платья?.. Аккуратность — да, но все эти кружавчики на форменных воротничках, мохеровые шапочки, тулупчики, выкрашенные под дубленочки! Зачем они? Ведь главное в человеке его внутреннее содержание. Почему в классе совершенно не думают о духовной красоте? Особенно девочки. Чем они заняты? В школу пришли два новых дуба, Кикнадзе и Лиманов, и пятнадцать из двадцати дур в них перевлюблялись. Умирают: «Лена, посмотри, у Лиманова такие глаза красивые! Как у бабочки... А у Кикнадзе — у него такие брюки! Я посчитала: целых десять карманов. А какая фирменная строчка!» Ну ладно глаза, а штаны?
Просто балаган какой-то, а не восьмой класс. И скучно, и грустно, и жалко их.
— Лена, не преувеличивай! — говорила Марина Львовна.
— Марина Львовна, понимаете, тошно... Почему у меня нет подруг?
— Потому что тебе четырнадцать лет, и ты очень тонкокожая. Потом кожа станет толще.
— Но когда?
— Когда у тебя кончится этот жуткий переходный возраст. Ты сейчас как Чацкий: карету мне, карету!..
Они шли к остановке трамвая, рядом с которой был большой продовольственный магазин. Выглядела Марина Львовна в последнее время что-то неважно. Бледность, на которой теперь резким контуром выделялись подкрашенные губы, синева под глазами...
— Ничего, бывает хуже. — Она вынула из своей кожаной сумочки матерчатую и, махнув на прощание рукой, повернула к магазину.
Безвыходность была крайняя, полная, окончательная... А человеку, желающему жить, в таком случае остается только одно: успокоение. И оно явилось. Тишина после месяцев бури и натиска. Однажды к утру, когда за ночь Лена перебрала в памяти все, что читала о жизни и ее смысле, когда перед нею, впервые собравшись вместе, один за другим прошли со своими исканиями и ответами все известные ей великие люди — Сократ, Аристотель, Джордано Бруно, Радищев, Герцен, Толстой, Карл Маркс, Ленин... — она вдруг сказала себе: «Ну, господи, чего я? Умей нести свой крест и веруй. Веруй в то, что ответишь на все вопросы, и не спеши. Будь чуткой, потому что нормальный человек, если он не строит никаких искусственных теорий, чуток. И учись. Ведь только глубокие знания помогут тебе ответить...»
— Неси свой крест и веруй, — задумчиво повторила, глядя на меня, Лена.
Пока мы разбирали тетради с ее старыми сочинениями, опять прибежала Настенька. Она только что до крови разбила коленку, и Лена споро промывала ей рану борной кислотой и заливала йодом.
— Больно?
— Нет. Совсем немножко, — до слез наморщив нос, отвечала Настенька.
— У нас в семье все легко относятся к болячкам. Может, потому что мама доктор? — сказала мне Лена.
Попросив зря сегодня не бегать, она отпустила Настеньку на улицу.
— Вы знаете, я тогда поняла, что мы должны просто жить. А почему именно тогда, не знаю. Может быть, потому, что на вопрос о смысле жизни нельзя однозначно ответить — от него можно только устать. А может, просто пришло время остановиться. Хотя я и сейчас думаю и о смерти, и о смысле. Но все-таки это не так болезненно.
— На меня тоже иногда накатывает, — сказала я. — А как Настенька? У нее еще не началось?
— Рано. У нее все на уровне мифов. Какие они красивые!.. — сказала Лена.
И наш разговор перешел к тому, как, побывав на Светлом Олимпе и перешагнув через пропасть под ним, Лена встретилась с футболистами.
С праздничком вас...
Особенно велика была популярность
Мордвинова в кругах «Вольного общества
любителей российской словесности»,
почетным членом которого он являлся
с осени 1820 года. На одном из заседаний
общества возникла идея написать в его честь оду.
Ода была написана, и не одна, а две.
Их написали Рылеев и Плетнев.
Вот что пишет Плетнев в «Долге гражданина»:
И мы не зрим ли пред собою,
Как в красоте своих седин
Покорный долгу гражданин
Отважно борется с судьбою?
Из реферата Лены Ковалевой
Когда к середине восьмого класса от своих философских вопросов Лена повернулась лицом к прозе жизни, Марина Львовна ушла в декретный отпуск.
Все те же уроки, все те же лица, но нет среди них одного, и все уже не то...
Новый классный руководитель, он был учителем черчения, хотел только хорошего, но был уверен, что без команды ничего хорошего не может быть.
— Между прочим, вы не комсомолец и сначала должны попросить собрание, чтобы вам дали право голоса, — как комсорг была вынуждена объяснить ему Лена. Но он краснел и не понимал.
В марте у Марины Львовны родился сын. Все почему-то считали, что она назовет его в честь кого-то из мальчишек класса, и очень удивились, когда стало известно, что выбрано совершенно постороннее имя: Костя.
— Ну да, конечно, ни одного Кости у вас нет. А то, что моего отчима зовут Константином, вам, естественно, не приходило в голову, — смеялась она, заглянув к ним на минутку.
Посмеялась, поговорила о том о сем и убежала. Котофейчик есть хочет.
Ребята вздыхали: ну вот, она от нас уже отвыкает...
Лена часто заходила к Марине Львовне домой.
— Марина Львовна, как вы сегодня?
— Да как обычно. Тут недавно доктор Спок говорил по телевизору, что до года — самое счастливое время у родителей. Мы с Бобом только переглянулись.
Бобом она называла своего мужа, видимо, еще с тех пор, когда они, не думая ни о каких временах «до года», сидела на соседних партах.
— Ну что, будем чистить картошку? — Она доставала два хорошо отточенных ножа, и, выкатив на балкон коляску, они принимались за работу.
Чистили картошку, грели для Котофея молоко, гладили пеленки, за работой разговаривали, и — ребята вздыхали не зря — Марина Львовна действительно все чаще заговаривала о своих новых, далеких от их класса, планах. Речь шла о другой школе. Их завуч Ирина Васильевна была назначена туда директором, а Марина Львовна с ней очень дружила.
— Представь себе презабавное соединение: мальчики — футболисты, а девочки — воздушные создания, у которых, кроме обычных уроков, каждый день танцы, пение, эстетика. И все это будет у Ирины Васильевны с осени, — говорила она Лене. — Ужасно интересно сделать из этих футболистов глубоких и образованных людей!
— Значит, вы решили?
— Нет, пока нет, не знаю, Леночка, пойми, быть у вас классным руководителем я уже не смогу. На мне Котофей. И далеко не всякий директор, даже такой умница, как наш Адольф Иоганесович, может понять, что значит маленький ребенок. — Отложив в сторону нож, Марина Львовна выглядывала на балкон.
Лена видела, какие невыспавшиеся, с красными ободками на веках, у нее глаза, знала, что с момента рождения Котофейчика она уже в третий раз ушивает свою джинсовую юбку сорок шестого размера и все чаще шутит: «Мне кажется, что доведенное до такой степени изящество называется каким-то другим словом...»
— Марина Львовна, идите!
— Ужасно хочется. Но я не смогу там без вас.
— А если мы пойдем с вами?
— Все не пойдут. Да это и невозможно. Во-первых, будет грандиозный скандал. А во-вторых, реально пойти со мной могут только девочки. Ваши мальчики ведь, к счастью, не футболисты.
К несчастью, думала Лена о Рахмаше. В фантастические страны они уже не играли, но у него была такая хорошая улыбка...
Однако сейчас надо было думать о Марине Львовне.
Когда она узнала, что, кроме Лены, вместе с ней идут в другую школу еще пять девочек, ужасно обрадовалась.
— Конечно, заниматься литературой с оравой футболистов — задачка еще та. Но с вами, я уверена, мы положим их на обе лопатки. За этим мы туда и идем!
Классный руководитель, наоборот, обещал Лене плохую характеристику. Ковалева, мол, не только дезертировала сама, но и склонила к дезертирству других. Но почему склонила и почему дезертирство? Ведь дезертиры помогают врагам, а они вместе с любимой учительницей хотят помочь футболистам.
Дома тоже было не все гладко. Папе нравилась идея с эстетикой и футболистами, а мама боялась, что в таком классе хороших знаний не получишь. Уж если Леночке приспичило уходить, то пусть идет в математическую школу.
Но в конце концов все утряслось, и наступил новый учебный год в новой школе.
Здесь все было обычно: доска, парты, наглядные пособия, шкафы с приборами. И все было не так, как в той школе. Даже воздух был другой. Как всегда в начале года, в классе пахло краской, но и еще чем-то: кожаными бутсами с мячами, разогретыми телами, потом? В общем, чем-то таким неуловимым, что осталось с прошлого года, когда тут учились одни мальчики.
Девочки толпились двумя кружками: в одном — пришедшие с Мариной Львовной, в другом — остальные, попавшие сюда по специальному танцевально-музыкальному конкурсу. Футболисты, крепкие, в натягивающихся при движениях форменных куртках, подчеркнуто не обращали внимания ни на кого, кроме себя. Только самый низкорослый из них, в маленьких, обмотанных с одного бока синей изоляционной лентой очках, подошел к девочкам.
— С праздничком вас, с первым сентября!
Футболисты громко засмеялись.
— Меня зовут Игорь Фюлюшков, нападающий. А вас?
Девочки молчали.
— Очень рад был познакомиться.
Одна из конкурсных, точеная брюнетка с артистически нежным пучком, сделала кислую гримаску:
— Вы, значит, и будете с нами учиться?
— Нет, это вы с нами, — насмешливо ответил ей высокий светло-рыжий парень, стоявший возле двери. — Игорь, пошли.
По классу разнесся тяжелый топот ног и масса нечленораздельных звуков, с которыми, подталкивая друг друга, футболисты устремились в коридор. Через несколько минут у них должна была начаться утренняя тренировка, а у девочек — эстетика.
И так, как сегодня, пойдет теперь каждый день. После эстетики будут начинаться обычные уроки, а на уроках...
Яркая, лет тридцати учительница — ее звали Людмила Ивановна — стремительно вошла в класс, повесила на спинку стула сумку и пошире открыла окно.
— С девочками мы будем знакомиться на классном часе, а сейчас урок. Азот... «Азот» в переводе на русский язык значит «безжизненный», а жить без него нельзя.
...Без конца будет открываться дверь, и в нее будут тянуться опоздавшие с тренировки: один, два, сразу трое, потом еще двое...
— Людмила Ивановна, можно?
— Может, вы еще пол-урока будете ходить? Откройте по-быстрому тетради.
Опять стук в дверь и громкий топот по классу.
— Ну что это такое? В первый учебный день и то не могут вовремя являться.
— Черт возьми, действительно, урок уже давно!
— Это ты, Плотников, совершенно правильно заметил. Азот входит в состав белковых веществ.
— Людмила Ивановна! Фюлюшков хочет вам что-то сказать, — это светло-рыжий.
— Потом, Карпов, я дам ему слово, и он все скажет. Фюлюшков, садись и в темпе открывай тетрадь. Садись, я же сказала!
— Людмила Ивановна, тише! К чему такой напор?
— Это тебе, Плотников, надо быть тише, а не мне. А я не буду молчать. Фюлюшков, что ты хотел сказать?
— С праздничком вас, Людмила Ивановна. С первым сентября!
— И тебя также! А теперь все, полная тишина. Поюморили уже. «Азот» в переводе на русский язык значит «безжизненный», а жить без него нельзя.
— Людмила Ивановна, а можно перепасоваться от Килограмма к Слонам? За ними на третьей парте свободно.
— Давай, только в темпе. Хватит отнимать время. Ну, елки же, тихо. Слоны, я вам говорю! Тихо! Азот входит в состав белковых веществ, при его недостатке желтеют листья растений и процесс фотосинтеза прекращается.
Через несколько дней Лена в новой школе совершенно потерялась. Идут уроки, футболисты орут и чертыхаются, девочки танцуют и поют, а что делать ей?
«Сентябрьской тихой ночью очень интересно рассматривать на небе звезды и их созвездия. Ночное небо напоминает мне все человечество. Разве не так? Разве человек — это не звезда? Созвездие — группа звезд, но и люди живут в коллективе», — писала она в дневнике.
В конце сентября девочек из девятого спецкласса пригласил к себе поговорить директор спортшколы Бесов.
Эта школа находилась в пяти минутах ходьбы, но Лена сюда еще ни разу не заглядывала и теперь с любопытством рассматривала развешанные в гулком вестибюле плакаты: «Умей думать на поле!.. Не надейся, что противник глупее тебя... Понять — значит победить...» Такое глубокомыслие, и всего лишь для того, чтобы научить людей отнимать друг у друга мяч!
Но вот и кабинет Бесова.
— Давайте, девочки, знакомиться. Меня зовут Дмитрий Николаевич, а вас? — Все еще по-летнему одетый, в пестрой рубашке и больших темных очках, Бесов сидел за огромным полированным столом с несколькими телефонами и вертел в руках связку ключей с блестящим брелоком.
— В прошлом я был вратарем, а теперь, сами видите, какое большое у меня хозяйство. Спортивная школа существует уже девять лет, но на такой прекрасной базе мы всего два года. Вы обратили внимание? Наше здание похоже на дом с крыльями. В центре, где мы находимся, тренерские комнаты, душевая, зал общефизической подготовки, а в стеклянных крыльях — зимние футбольные манежи, раздевалки и выходы туда, к нашим летним точкам. — Ловким, пружинистым движением Бесов раздвинул шторы на широком, во всю стену, окне.
Оттуда в глаза снопами ударило прорвавшееся из-за темных туч солнце, стало видно большие клетки ярко-зеленых футбольных полей, белые перекладины ворот, клетчатые флажки, полоски трибун и сосновый лес за ними.
— Нравится?
— Красиво, — сделала кислую гримаску брюнетка с пучком, ее звали Зина Канторович.
— Ну, теперь вы поняли, где проходит основная жизнь ваших мальчиков?
— Да, сразу хочется попрыгать или в мячик поиграть, — улыбнулась самая подвижная и разбитная из конкурсных девочек Юлька Сотникова. — Но только непонятно, почему эти мальчики, пользуясь такой прекрасной базой, остаются ужасными грубиянами.
— А что? Они при вас выражаются? Вот, елки зеленые, а ведь обещали. — Бесов растерянно вертел ключи. — Наверное, Хареев? Или, может быть, Слоны? Девочки, я вас прошу, не судите их строго. Ребята у нас замечательные, настоящие парни с мужским началом. Подонства в них нет. Но — специфика силовой игры. А потом, у нас же тренеры... Есть замечательные специалисты, но иногда увлечется, а потом спрашивает ребят: «Выражался?» — «Да». «С концами?» — «И с началами». Мы, конечно, проводим с ними работу, но, как видите, с переменным успехом.
— А какую работу вы проводите с мальчиками? Что в них, по-вашему, есть, кроме этого самого мужского начала? — спросила Лена.
— Ну, главное, что я могу отметить, — это умение думать на поле. Специфика игры дает возможность комбинировать, учит быстро понимать друг друга и разгадывать противника. Девочки, я очень надеюсь на эксперимент Ирины Васильевны с эстетикой. Вы должны отесать наш мужской коллектив. А для этого вам надо хорошенько понять, что у нас за ребята. Многие из трудных семей...
Лене вспомнился Фюлюшков.
— Мой папаша поддавальщик, но только по выходным. А твой? Что он, например, делает в воскресенье?
— Читает Пушкина.
— Вот это молоток. Папаша что надо!..
— Ну и с успеваемостью тоже, сами знаете, — продолжал Бесов. — Футбол — это ведь не теннис и не фигурное катание. Гоняли во дворах мяч, а потом пришли сюда, не бабушки привели, а сами... Футбол — это, девочки, пролетарский вид спорта, и ребята у нас — рабочий класс. Ради футбола эти парни готовы на все, некоторые из пригородов по полтора часа сюда ездят.
Увлекшись, Бесов запер дверь и отключил телефоны, чтобы не мешали с хозяйственными вопросами.
— А какие есть таланты! Вот, например, Плотников, кандидат в мастера, а Фюлюшков, если бы не очки... Пройдет несколько лет, и вы многим из своих одноклассников аплодировать будете, сидя у телевизоров!
Бесов опять говорил о специфике игры, умении думать. Но все это на поле, для поля... А что они читают? Что знают, кроме своего футбола? Об этом ничего. Такое многословие — и всего лишь о том, как отнимать друг у друга мяч. Было скучно.
Вечером Лена зашла к Марине Львовне.
— Значит, разочаровалась, — сказала та.
— Нет. Скорее расстроилась. Помните анекдот? У матери было три сына: два умных, а третий футболист.
— Да, но потом он стал мастером спорта.
— А потом он стал тренером и поставил себе стол с тремя телефонами.
— И с кнопкой для вызова секретарши. — Марина Львовна улыбнулась. — Ты разве не заметила кнопки?
— Нет, кнопки у него нет. Он при нас секретаршу так вызывал, голосом... Марина Львовна, зачем для футбола нужно три телефона?
— Ну, во-первых, наверное, дело требует. Хозяйство там большое. А во-вторых, приятно. Но дядька этот Бесов, по-моему, неплохой и неглупый, очень неглупый. Иначе бы он вас, воздушные создания, к себе не позвал. Да, это могло прийти в голову только настоящему педагогу. Ленка, не кисни! Между прочим, меня футболисты уже слушают, ты сама видела. А для ребят, которые никогда по-настоящему не учились, — это достижение.
— Марина Львовна, но вам действительно интересно с ними?
— Как человеку, пока не знаю, но как учителю — безусловно. Приходится искать новые ходы, приемы. На уроках я выкладываюсь, а это ощущение многого стоит... Кстати, постарайся изучить их язык. Почитай что-нибудь о футболе. Мне некогда, да и не мой это стиль — интересоваться футболом. А тебе пригодится. Ну что, будем чистить картошку?
Придя домой, Лена взяла энциклопедию. «Футбол (англ. от football: foot — нога и ball — мяч) — спортивная командная игра, в которой спортсмены, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам ногами или любой другой частью тела, кроме рук, стараются забить его в ворота соперника наибольшее количество раз в установленное время» — и не в силах читать дальше, расхохоталась. Хохотала долго, до слез...
— Вы еще не устали меня расспрашивать? — спросила Лена.
— Нет. Чем дальше, тем мне интереснее, — сказала я.
— Со мной тоже так было, — кивнула она. — И все из-за этих футболистов. Они стали для меня такой загадкой... Почти как смысл жизни. А началось у нас с истории.
— С какой?
— Девятнадцатого века. Я решила написать реферат для городской исторической олимпиады. На уроке дали темы, они были посвящены трем этапам освободительного движения, и я поняла, что должна написать о декабристах. Я давно хотела написать, еще с тех пор, как в шестом классе Марина Львовна нам рассказала про Александра Бестужева — как 14 декабря он точил саблю о постамент Медного всадника.
Хорошо живете!
Мордвинов очень ценил в людях трудолюбие.
«Сам жертва беспокойств труда, не знает неги никогда», —
писал о нем в 1801 году поэт. А вот что спустя почти
сорок лет, в 1835 году, писала бабушка М. Ю. Лермонтова,
Е. А. Арсеньева: «Мордвинову 80 лет и нониче часто
прихварывает, мало и его слушают, а как он умрет —
и говорить никто не станет». Говорить — значит
за кого-то заступаться, писать особые мнения, кого-то
убеждать, что-то организовывать. И это в 80 лет!
Из реферата Лены Ковалевой
Итак, на дворе октябрь, рано наступают сумерки, тает первый снег, на улице жуткая грязь. Холод.
Каждый день, вернувшись из школы и приготовив обед (мама уехала на два месяца в командировку), Лена садится за уроки, а после уроков погружается в историю. Ее интересует восстание декабристов и все, что связано с ним. По стеклу сечет ветер с ледяной крупой, а в доме тихо и тепло, на столе горит лампа под зеленым абажуром. Уютное одиночество среди книг и стопок бумажных карточек (все, что нельзя прочитать дома, Лена выписывает в библиотеках на карточки) длится иногда до поздней ночи.
Разве это не счастье?
Ее работа называется «Пять братьев Бестужевых». Уже найден эпиграф. «Нас было пять братьев, и все погибли в водовороте 14 декабря. М. А. Бестужев», есть общий план, но самое интересное происходит сейчас, когда, разбирая свои наброски и карточки, Лена начинает видеть живые лица и ту жизнь.
После того как Александр Бестужев познакомился с Кондратием Федоровичем Рылеевым и они выпустили первый номер «Полярной звезды», они так сдружились, что Александр поселился у Рылеева. И все равно им даже лестница между этажами казалась досадным препятствием. Однажды Бестужев вошел в комнату к Рылееву, тот начал читать ему «Стансы»:
Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.
Страшно дней не ведать радостных —
и, отбросив в сторону перо, припал к широкой груди Александра. «Друг мой, друг единственный, — шепнул Рылеев, рыдая, — все ли поймешь ты?»
Вот как в то время люди выражали свои чувства.
Почему Бестужевы становятся членами тайной организации? Что их привело? Во-первых, человек живет в обществе. А в обществе происходит такое, что невольно задумываешься о России.
«Многие губернии обнищали, и правительство медлительными мерами или скудным пособием дало им вовсе погибнуть, — вспоминал Александр. — Дожди и засухи голодили другие края... Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые — на то, что им не дают учить, молодежь — на препятствия в учении. Словом, во всех углах виделись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом... В казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал. Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались...»
Страшная картина! Каждому нормальному человеку было не по себе. Почти каждому приходят мысли: «Зачем? Почему так плохо?» На братьев Бестужевых, кроме того, влиял отец — последователь Радищева. И воспитание, образование. Ведь чем человек больше знает, тем труднее ему живется, потому что он больше понимает.
Так, пытаясь связать в своем реферате картины прошлого, рассуждает Лена. История — удивительная штука и еще загадочная!
В школе все по-прежнему. Девочки утопают в эстетике, ходят на выставки и в филармонию, футболисты переживают, что разломали их мужской класс, и держатся особняком. Но Марину Львовну — они зовут ее Марина Тигровна — действительно все больше слушают, а она радуется, когда Слава Усачов, размахивая руками, — он всегда ими размахивает, — говорит :
— Прототип «Чудного мгновения» — мадам Кёрн...
— Керн, — поправляет Марина Львовна.
— Ну да, она. Так вот, Кёрн Пушкин полюбил, чтобы написать стихи. Это была его сто шестая любовь, но он не был несерьезным человеком. Он влюблялся, чтобы писать стихи.
— Что ж, коряво, но в целом правильно, — серьезным голосом замечает Марина Львовна и поворачивается в сторону заглянувшей на урок Ирины Васильевны. — Вы со мной согласны?
— Да, несколько неожиданно, — Ирина Васильевна сдерживает улыбку. — Но зато своими словами.
Марина Львовна считает, что Усачов вполне мог бы хорошо учиться, но ему пока не хватает воспитания и знаний.
— Ленка, подумай, им ведь совершенно некогда делать домашние задания. Посмотри на их расписание: с девяти до половины одиннадцатого тренировка, с одиннадцати до пяти занятия в школе, потом с шести до полвосьмого опять тренировка, потом дорога домой, — говорит она после урока.
Но Лену все эти выкладки пока как-то не очень впечатляют. Человек сам выбирает, чем ему заниматься. В юнкерском формуляре восемнадцатилетнего Александра Бестужева значится: «По-российски, французски, латынски и немецки читать и писать умеет, высшей математике, физике, истории, зоологии, ботанике, минералогии, политической экономии, статистике, правам, мифологии, архитектуре, фехтованию и танцевать знает...»
В последнее воскресенье октября футболисты приглашают девочек на свой матч. Поле — совсем не то, которым они любовались в сентябре из широкого окна в кабинете Бесова. Вместо свежей зеленой травы — что-то черное, наподобие шлака, смешанное со снегом, вместо солнца — дождь и ветер. Через несколько минут мальчики стали грязными; раскрасневшиеся было лица скоро осунулись. Перед финальным свистком мяч перелетел через ограду стадиона и оказался далеко в болоте. Фюлюшков бросился на ограду, разорвал, перелезая, футболку, исцарапался, чуть не увяз в болоте, но мяч достал.
— Как можно валтузиться в такой грязи? — говорит после игры Зина Канторович.
— Тебе во всем подавай эстетику! — возражает ей Юлька Сотникова.
Неожиданно для себя Лена становится на сторону Юльки.
— По-моему, истинно прекрасное заключается не в форме, а в содержании наших поступков, — говорит она Зине. — Девочки, вы только вспомните, как Фюлюшков полез за мячом! Он не думал о себе. Он знал, что противники специально закинули мяч в это ужасное болото, чтобы протянуть время!
Правила игры Лена тогда по энциклопедии все-таки выучила.
— Но в чем же тут эстетика? — удивляется Зина.
— В том, что Игорь делал это ради своих друзей! Глядя на него, я поняла, что он очень хороший друг. Жаль только, что он...
— Такой неуклюжий, — смеется подружка Зины Таня Акатова.
— При чем тут это? Беда в том, что с таким жаром они посвящают себя делу, которое не приносит людям серьезной пользы.
Лена собирает и по минутам расписывает детали восстания и видит, что Бестужевы сыграли одну из самых главных ролей. Они привели на площадь более половины всех восставших: Александр и Михаил — Московский полк, Николай — Гвардейский, экипаж... Ее интересует, как они вели себя на допросах, она изучает азбуку, которой перестукивались сидевшие в соседних камерах Николай и Михаил. Во-первых, просто интересно, а во-вторых, может быть, когда-то пригодится. Кто знает, в какие обстоятельства можно попасть в течение жизни? И так увлекается всем этим, что однажды замечает: за целый день в школе она не произнесла ни одного слова, и при этом ей совершенно не было скучно, и она совершенно ни в ком — ни в друзьях, ни в подругах — не нуждалась.
Вечером пятого ноября они всем классом мыли пол в школьной столовой. Работа была непростая и нелегкая. Пол в столовой — некрашеный паркет, и мыть его просто так тряпкой было нельзя. Оттирали щетками с порошком, а потом окатывали водой. Разделились на бригады, одни терли, а другие носили воду. Потом, устав, поменялись местами, те, кто носил, начали тереть, а те, кто тер, — носить. Длилось все это долго, часа четыре, и что поразительно: в отличие от школы, где Лена училась раньше, мальчики здесь не сачковали, а спокойно, без лишнего шума принялись за работу.
Часу на третьем в столовую зашла Галима Наримановна; недавно она начала вести у них практику по радиоэлектронике, а в этот день дежурила по школе.
— Хорошо живете! — обратилась она к девочкам.
— Почему? — откликнулась носившая ведра Лена.
— Ну как же, мальчики моют у вас пол.
— А что же нам — соседку Олю звать? — спросил ее Фюлюшков. Закатав к коленям намокшие брюки, он сгонял грязную воду щеткой.
— Нас в классе мало, а их много, — чуть виновато сказала Юлька Сотникова.
— Но мыть-то вы все-таки умеете лучше, — сказала Галима Наримановна.
— Кто? Они? Вы посмотрите, какие они квелые. Как больше метра, на физкультуре никто взять не может. — Фюлюшков ткнул в сторону девочек щеткой.
— Они же эстетки, — сказал сыпавший в ведро порошок Плотников.
— Да нет, конечно, это хорошо, что вы помогаете девочкам, — согласилась Галима Наримановна. — Но только в школе, где я работала раньше, мальчики всегда носили воду, а девочки мыли. И на вид это было как-то красивее.
Когда собирались домой, Лена спросила Фюлюшкова:
— Игорь, а где ты научился так профессионально мыть пол?
— Я? — протирал он заляпанные мылом очки. — Да у меня мать все время выигрывает. Сядем вечером всей семьей в лото или в карты, а кто проиграет, на следующий день убирается. Ну а если получишь двойку или что-нибудь натворишь, сам идешь, без игры.
— А это у тебя, естественно, часто, — не удержалась Лена.
— Да нет, папаше с сеструхой чаще приходится. Им в игре не везет, а мне в любви. Но зато уж как пойдет полоса: все шишки на тебя. Мать у меня такая юмористка. Когда я в прошлом месяце разбил новые очки, мусорное ведро на голову опрокинула, — потирая свою несчастную макушку рукой, Фюлюшков улыбнулся.
— А кто у тебя мама по профессии? — спросила Лена.
— Продавец.
— А папа?
— Шофер на «Скорой».
Любопытно, перебирая в памяти впечатления дня, думает Лена о Галиме Наримановне. Современная женщина, специалист в области радиоэлектроники, а дома у нее муж, наверное, полов не моет, и для нее это красиво. Правда, папа тоже помыл недавно окна, а мама пришла и написала на стекле пальцем: «Вадим». Интересно, умели ли мыть окна декабристы? Наверное, нет. Представить себе Рылеева за таким занятием как-то трудно. А Фюлюшкова совершенно невозможно представить читающим «Стансы» и потом плачущим на широкой груди Плотникова. Двадцатый век...
Симпатичный парень этот Фюлюшков, хотя и некрасивый. А Плотников — красивый? Да нет, тоже не очень. На кого же он похож? На утенка Тима из мультипликации, вот на кого! Впрочем, внешний вид — это не главное, это чепуха...
Когда восстание было уже окончательно подавлено, идя по Адмиралтейскому бульвару, Михаил увидел, как ведут арестованного товарища, и решил «добровольно предать себя Пилату». Явившись во дворец, он прошел в комнату кавалергардского офицера — тот, развалившись в кресле, читал французский роман — и попросил доложить о себе.
— Бестужев? — переспросил кавалергард.
— Да. Что же тут удивительного?
Через несколько минут в комнате появился преображенский полковник.
— Господин штабс-капитан Бестужев! Я вас арестую, пожалуйте свою шпагу.
— Извините, полковник, что лишаю вас этого удовольствия. Я уже арестован.
— Кто вас арестовал?
— Я арестовал себя сам, и вы видите, что шпаги при мне нет.
Бестужева привели на дворцовую гауптвахту и, не снимая полного гвардейского мундира, связали ему руки толстой веревкой.
Даже после поражения они еще оставались романтиками, листая воспоминания Михаила, думает Лена. Но вот прошло полгода в Алексеевском равелине, в руках коменданта Сукина, и начались десятилетия каторги, ссылок. Что стало с Бестужевыми там?
Попав рядовым на Кавказ, в условиях, при которых не только от пуль, но и от климата, пищи и муштры гибли целые батальоны, Александр пишет матери: «Я почти здоров, хожу в караул, или, лучше сказать, не схожу с караула и между часов неутомимо пишу». Под псевдонимом Марлинский (под своим именем печататься ведь невозможно!) к нему приходит литературная известность, а он гибнет у мыса Адлер, того самого, где теперь курорт, завещав свои гонорары братьям, когда они выйдут на поселение.
А Михаил? Он тоже пишет — морские повести, которые, к сожалению, не дойдут до читателей, погибнув во время одного из обысков, а кроме того, выйдя на поселение, учит и воспитывает маленького мальчика, сына своего домохозяина купца Наквасина, и разделяет большинство занятий брата Николая.
А чем же занимается Николай? Он серьезно изучает географию и этнографию Забайкалья, особенно его интересуют быт и хозяйство бурятов, пишет портреты декабристов. Когда в Чите возникает «каторжная академия», читает товарищам лекции по истории русского флота и, прожив тридцать лет в Сибири, умирает как герой. Проезжая по льду Байкала, он увидал двух замерзавших старушек-странниц и посадил их в свою коляску, а так как коляска была двухместная, сам сел на козлы, в результате простудился, заболел двусторонним воспалением легких и умер.
Что же делало этих романтиков, которые плакали на груди друг у друга и гордо отдавали себя в руки всяких сукиных, такими сильными? Передовые взгляды? Научные знания? Литературные способности? Конечно, рассуждает Лена, но надо еще уметь все это душевное богатство, всю эту духовность сохранить в условиях сибирской каторги и Кавказа, где Александр «не сходил с караула». Самое главное в Бестужевых, делает она вывод, — это умение трудиться не только умственно, но и физически. «Под руководством брата мы сделались искусными слесарями и золотых дел мастерами, токарями и литейщиками», — пишет Михаил о годах, проведенных с Николаем на каторге в Петровском заводе. «До сих пор в Сибири хорошо известен бестужевский способ уборки хлеба, кладки печей и т. д.», — сказано в «Русском биографическом словаре»...
Зря она думала, что Рылеева трудно представить с тряпкой в руках. Если бы он остался жив, то, возможно, как и Николай Бестужев, сделался бы искусным слесарем, токарем, литейщиком. А если бы жил в наше время, когда не только в ссылках, но и дома каждый должен обслуживать себя сам, то, наверное, так же, как Фюлюшков, без лишних разговоров взял бы в руки щетку.
Сделанные папой электронные часы на кухонной полке показывают половину первого, и она уже совершенно сонная...
— Значит, думая о декабристах, ты все чаще вспоминала футболистов? — спросила я Лену.
— Да. И мне было это так странно. Почему они вспоминаются?
Совсем простые люди
Современники любили и уважали
Мордвинова за то, что больше
всего он ценил в людях не
производимый ими блеск,
а их душевные качества.
Из реферата Лены Ковалевой
Прошел месяц. Грязь пополам с мокрым снегом за окном сменилась настоящей белой зимой, и когда, ложась спать, Лена выключала лампу, в комнату с улицы проникало бледное сияние. Прекрасное время года!
Работа о Бестужевых была закончена, но все мысли в сорок страниц текста, конечно, не поместились. Однажды после уроков, когда, весело двигая стульями и убирая со столов свои вещи, девочки собирались домой, Лена, слово за слово, начала рассказывать им, какие это были люди. Удивительное семейство! Сколько они успели сделать, а сколько не успели?..
— Но зачем они все-таки вышли тогда на площадь? Из долга чести перед друзьями? — Таня Акатова сосредоточенно затягивала «молнию» на своей переполненной книгами сумке.
— Действительно. Они же были умными людьми и должны были видеть, что время упущено и восстание обречено. — Рассматривая себя в зеркальце, Зина Канторович быстрыми движениями подкалывала пучок.
— Да, они видели, — согласилась Лена. — Хотя Александр Бестужев говорил: «Или мы ляжем на месте, или принудим Сенат подписать конституцию». Он все-таки надеялся принудить Сенат.
— Естественно. Загорелся идеей. Художественная натура. — Юлька Сотникова обматывала шею длинным полосатым шарфом.
— Наверное, насчет Александра ты права. Он и загорался, и остывал, а перед восстанием вообще собирался жениться и, по некоторым данным, уже хотел выйти из Северного общества. Но послушайте, что говорил в это время Рылеев!
Лена достала из сумки свою работу.
— «Каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян...» Он знал, что идет на смерть, но не видел другого выхода.
— Значит, он был большим романтиком, — застегнув наконец «молнию», сказала Таня.
— Допустим. А разве это плохо?
— Это мило, но непрактично, — продолжала рассматривать себя в зеркальце Зина.
— Правда, я где-то читала о декабристах. Их беда в том, что они слишком галантно вели себя со своими противниками, — поддержала ее Юлька.
— А может быть, беда не в этом, а в том, что их противники были недостойными? — начала горячиться Лена. — Декабристы всех мерили по себе, и для них было большим потрясением, что их противники оказались такими. Подумайте, самый младший из Бестужевых, Павел, в восстании не участвовал, членом тайного общества не состоял, а наказан был. Как же так?
— Естественно, — убрала в сумку зеркальце Зина.
— Естественно?
— Конечно, он ведь был братом декабристов.
— Но это же логика великого князя Михаила! Выводя его на чистую воду, Павел так и сказал: «Ваше высочество, я сознаюсь! Я кругом виноват, я должен быть наказан, потому что я — брат моих братьев».
Да ладно, Ленка, ты права на все сто. Это были великие люди, — сказала Юлька. — Вот бы родиться нам, девочки, во времена декабристов. Кружева, бархат, как на картинах Брюллова. А какими красивыми были тогда дети! Как ангелочки...
— А я не люблю Брюллова. Импрессионисты гораздо лучше, — тут же возразила ей Таня.
— Но это разные школы! — воскликнула Зина.
— Вальсы, мазурки, — продолжала свое Юлька. — Нет, все-таки это было бы очень здорово — родиться тогда. Помните вальс Грибоедова? Та-ра-ри-ра-ра, — стала напевать она.
Слова, слова, собственные настроения, и ничего больше!
Убрав в сумку свою тетрадь, Лена вдруг услышала голос Фюлюшкова.
— А от декабристов лошадьми пахло!
Разговаривая с девочками, она совершенно не заметила, что вокруг собрались и слушают футболисты.
— С чего ты это взял? — перестав напевать, оживилась Юлька.
— Но они же были военными, — невозмутимо объяснил Фюлюшков.
— Вся армия была тогда на лошадях, а лошади, как известно, потеют, — так же невозмутимо поддержал его Плотников.
Футболисты засмеялись. И Лене почему-то тоже сделалось ужасно весело.
— Выйдя на поселение, Николай Бестужев даже написал специальное исследование о сибирском конном экипаже, а Михаил изобрел «сидейку», или «бестужевку». Это особый род тележки для двух человек, — сказала она. — Бестужевы вообще были очень изобретательными людьми. Николай еще до ссылки изобрел особую спасательную лодку — «бестужевку», а Павел изобрел особый пушечный прицел, который тоже назывался «бестужевским».
— А как этот прицел выглядел? У тебя нет чертежей? — заглянул в ее тетрадь Усачов.
— Нет.
— Жалко.
— В энциклопедии прочитаешь, — хлопнул Усачова по плечу Фюлюшков. — Марина Тигровна его допекла. Три тома энциклопедии уже одолел!
Девочки стали расходиться по домам.
— Давай еще, — сказал Фюлюшков Лене.
— Что?
— Читать тетрадку.
— А тебе интересно?
— Любопытно. Хорошая была команда.
— Когда они выходили на площадь, наверное, ни о чем, кроме победы, не думали, даже о смерти, — сказал Усачов.
— Похоже, — отозвался Ладейников.
— Точно, — подтвердил Корженцов.
— Святая Троица верно говорит. Даже мы на поле, когда хотим победить, обо всем забываем. По ногам ударят — не чувствуешь, а потом болит, — сказал Лене Фюлюшков.
— А они — Святая Троица? — показала она на стоящих рядом Ладейникова, Корженцова и Усачова.
— Ага. Всегда заодно.
— В футболе тоже думать надо, — сказал самый модный и неуспевающий из футболистов Хареев.
— Бывает, такая лихорадка находит, что мозг работает, как двигатель на высоких оборотах, — это Плотников. — А Сотникова говорит, что Александр увлекся, потому что художественная натура.
— Дело не в художественности, а в азарте, — это уже Фюлюшков. — В футболе тоже иногда, сколько ни говоришь себе: надо, — бежишь не в полную силу. Но вдруг решающий момент — и такой подъем! Поля под собой не чувствуешь.
Удивительно, футболом они пытаются объяснить такие вещи!
— Ну, так почитать? — открыла тетрадь Лена.
— Давай. Как это у них все было? — кивнул Фюлюшков.
— «Шумно и бурливо, — начала она, — было совещание накануне 14-го в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения, слова без дела, за которые многие дорого поплатились. Зато как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собой, говорил просто, не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к Родине, — физиономия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно...» Это из воспоминаний Михаила Бестужева.
— Ну так, — сказал Плотников, усаживаясь на стол. — А кто их научил все это изобретать — коляски, печки? Ведь они же были дворяне.
— И причем столбовые! — сказала Лена. — Род Бестужевых очень древен. Но к началу девятнадцатого века у их отца, Александра Федосеевича, было всего восемнадцать душ, и приходилось Александру Федосеевичу служить...
Она рассказывала футболистам о том, как Александр Федосеевич воевал со шведами — он был артиллеристом, как потом управлял бронзовой фабрикой, которая, как и первая в России фабрика холодного оружия, была построена по его проекту. О его литературных опытах — один из них назывался «Чтение, нравственность и правила честного человека», о дружбе со скульпторами, музыкантами, художниками и одновременно с известным литейщиком Екимовым.
Вот откуда это у Бестужевых пошло: и возвышенная душа, и золотые руки!
Говорила о матушке декабристов Прасковье Михайловне... Долгие годы она добивалась позволения поехать к сыновьям в Сибирь. Узнав о том, что позволение воспоследовало, продала имение, снарядилась в путь, но тут получила бумагу, что по воле государя ей и ее дочери опять не рекомендуют ехать в Сибирь «собственно для их же пользы».
Это надо себе только представить: позволение добровольно отправить себя в ссылку сопровождалось такой нескончаемой процедурой и устрашениями, как будто дело шло о величайшей милости!
Рассказывала и рассказывала. А потом, по дороге домой и еще много дней и в школе и дома думала, почему же так получилось, что слушать ее стали футболисты. Почему им было интересно с ней (а ведь было — это точно!), а ей — с ними?..
— Ну и ты поняла почему? — спросила я Лену.
Мы по-прежнему сидели у нее на кухне и ждали, когда же вернется с улицы Настенька. Ведь уже шесть часов, и пора готовить для нее ужин.
— Поняла, но не сразу. История с декабристами была первым толчком. А потом у нас начались такие сложные отношения. Особенно с Плотниковым...
— А я думала с Фюлюшковым, — сказала я.
— И с Фюлюшковым тоже! — Лена улыбнулась. — Но потрясение у меня было тогда огромное. Совсем простые люди, а с ними интересно разговаривать. В чем-то даже интереснее, чем с начитанными...
Ты не эстетка!
Наступит день, когда Мордвинов
отпустит на волю тех своих людей,
чей стаж крепостной службы ему
превышал десять лет, простит
все недоимки своим крестьянам
и все долги небогатым знакомым.
Он вернет им долговые расписки,
надорвав их.
Из реферата Лены Ковалевой
После того случая Лена уже не смотрела на футболистов сверху. Узнавать, чем живут окружающие тебя люди, оказалось так же интересно, как и собирать материалы об исторических личностях.
Они любят придумывать друг другу прозвища. Заквасина и Ходулина, например, зовут почему-то Слонами. Эти ребята маленькие, крепкие, когда на них пристально смотришь, смущенно улыбаются. Бывает, по целым дням молчат, но если уж начнут рассуждать, то это тоже на целый день. Хареева прозвали Килограммом. Он самый упитанный (толстых среди них нет) и тщательно следит за своей пышной, наверное, как раз в килограмм весом шевелюрой. У Карпова сразу два прозвища: Солнышко — он рыжий, в конопушках, и Лектор — весь день, не переставая, может с серьезнейшим видом болтать о каком-нибудь пустяке. Фюлюшков — С праздничком, Плотников — Самостоятельная Личность, он у них лучший защитник.
Они часто зовут друг друга по номерам: «Четвертый, тебя к доске!», «Седьмой, ты сегодня дежуришь!» Как мечтающие стать кинозвездами девочки знают все об актерах, так они — о знаменитых вратарях, нападающих, защитниках. Почему перешел в другую команду? Когда ему делали операцию на коленном мениске? Любит или нет рок-музыку? Отстраняли ли его когда-нибудь от игр за неспортивное поведение?
Неспортивное на их языке — значит драка на поле или вне его, употребление спиртного и прочие нарушения режима, к которым здесь, в школе, относят, например, двойки. Когда у кого-нибудь этих проклятых двоек набирается жутко много, тренеры начинают зудеть, не пускают на поле или переводят в другую команду. Команд у них две. Первая — «Смена», вторая — «Арсенал». В прошлом сменовцы с арсенальцами в классе враждовали и дрались, а теперь они уже выросли, и между ними осталось лишь здоровое соперничество. Самое интересное, когда «Смена» играет с «Арсеналом», говорят ребята.
У них жесткий график. Каждую среду — игра на кубок Ленинграда, каждое воскресенье — на первенство Ленинграда; кроме того, они ездят в другие города. Только за последнее лето и осень побывали в Сухуми, Кишиневе, Ростове, Каунасе, а некоторые (в составе сборных) — в Польше, Болгарии, ГДР.
В общем, жизнь у мальчишек чрезвычайно напряженная, и если парни из нефутбольных классов (их в школе половина) часто топчутся во дворах с гитарами, то футболистов там не увидишь: им все время некогда. Они и о декабристах долго рассуждали с Леной потому, что в тот день Бесов отменил тренировку.
Близился Новый год. В магазинах над прилавками сверкали игрушками елки, в метро и автобусах пахло хвоей, на промерзших сухих тротуарах под ногами хрустели иголки. Кругом люди несли домой елки, все перезванивались, закупали подарки и продукты. И они в классе тоже решили: купить чего-нибудь вкусного и в последнее воскресенье перед Новым годом поехать в лес. Лена предложила — к ней на дачу. Девочки согласились, Людмила Ивановна тоже, а футболисты в это время уехали на несколько дней играть в другой город, и о них забыли.
День выдался морозный, но очень солнечный. Деревянная дача утопала в пушистом, удивительно чистом снегу. В городе он никогда не бывает таким белым. Из сарая вытащили санки, катались на них с поросших соснами и елками горок, стряхивали друг на друга потоки снега с веток. Было много смеху и шуму. К полудню все изрядно устали, замерзли, проголодались и решили истопить печку. Дров на даче было запасено много, топор был острый, но колоть им никто, кроме Лены, толком не умел. Дело подвигалось медленно.
— Вот бы сюда наших мальчишек, — сказала Людмила Ивановна.
И вдруг как в сказке!
— С праздничком вас, с наступающим...
Фюлюшков, Плотников, Карпов, Усачов — вся классная команда, притопывая ногами, вошла во двор и встала перед ними.
— Вы?! Откуда? — обрадовались девочки.
— Из солнечной Грузии, — сказал Плотников, беря у Лены топор.
— Выиграли? — это Людмила Ивановна.
— Разумеется. Три-два в нашу пользу, — сказал Усачов. — А еще топор не найдется?
Топоры нашлись, печка быстро разгорелась, и после макарон по-флотски и чая с халвой начались танцы. На даче была старенькая радиола и с десяток пластинок, на одной из которых даже оказались записи ансамбля «Тич-Ин», под несусветные ритмы которого могли танцевать не только обученные хореографии девочки, но и футболисты.
Лена сидела в углу на табуретке возле печки, и ей было так тепло и хорошо, так нравилось просто сидеть и ни о чем не думать, что она не заметила, как к ней подошли Плотников с Фюлюшковым.
— А ты почему тут сидишь?
— Нравится.
— Что?
— Смотреть на вас.
— А почему же ты тогда нас не пригласила? — спросил Плотников.
— А вы обиделись?
— Если бы обиделись, нас бы здесь не было, — сказал Фюлюшков.
— Но как вы нас нашли?
— Марина Львовна сказала. Сначала на электричке, потом пешком через лес, поворот налево, поворот направо... В общем, совсем просто.
— Ребята, я так рада, что мы тут сегодня все вместе и вообще, что я пришла в эту школу и познакомилась с вами, — сказала вдруг она.
— И ты нам тоже сразу понравилась, — сказал Фюлюшков. — Ты не примерная, хотя и с примерным поведением.
— То есть? — обрадовалась она.
— Мы тебя и за эстетку не считаем, — сказал Плотников.
— Даже так? А почему?
— У них живопись, композиторы...
— Но я тоже очень люблю живопись.
— Все равно, — сказал Фюлюшков. — Ты не эстетка. Ты... — запнувшись, он нагнулся и открыл печную заслонку. — Надо дров подложить.
— Сейчас принесу, — пошел за дровами Плотников. Наступила пауза, в которую ворвались шум танцев и возбужденные голоса девочек, ребят, Людмилы Ивановны.
— А почему ты всегда такая хмурая? — поднял голову Фюлюшков. — Если тебе кто-то нужен, ты только скажи. Я весь город переверну, но разыщу пария, который тебе понравится.
— А ты знаешь, какой мне нужен?
— Скажи. — На его очках смешно играли отблески огня из печки.
— Раньше моим идеалом был человек, который много читает. Я считала, что общаться интересно только с тем, кто разбирается в науке, искусстве, философии. В общем, как говорит Марина Львовна, полный джентльменский набор. А теперь я и сама не знаю. — Лена пристально смотрела на огонь.
— А дрова у тебя хорошие. Настоящие, березовые, — с охапкой пахнувших морозом поленьев подошел к печке Плотников.
— Андрей, скажи честно, — повернулась она к нему. — Почему вы тогда стали расспрашивать меня о декабристах? Для того, чтобы просто поболтать со мной, или из-за них самих?
— Кто его знает? Это надо еще подумать. — Он сосредоточенно засовывал в печку поленья.
— Смешно было, — сказал Фюлюшков. — Девчонки такую кутерьму развели. У кого была художественная натура да у кого нехудожественная. Вальсы какие-то, мазурки. Разве Грибоедов писал вальсы?
— Писал, — улыбнулась Лена. — Иногда,
— Ну неважно. Я в этом мало разбираюсь. Учебник за полугодие раз двадцать в руки взял. Но говорили они чепуху — это точно.
— А когда ты начала про все эти коляски, печки, которые твои Бестужевы изобретали, эстетки домой ушли, заметила? — сказал Плотников.
— Да. Они, наверное, расстроились, что разговор ушел от них к вам, — сказала Лена. — Мне ведь тоже поначалу было странно. Вы все стали переводить на футбол.
— Это верно, без футбола мы не можем, — сказал Фюлюшков. — Иногда думаешь: все, хватит, буду жить, как все люди. Но стоит неделю не потренироваться — и опять тянет к мячу.
— Мы, бывает, по два-три кило за игру сбавляем. Устаешь так, что даже спать не можешь, — добавил Плотников.
— Такое физическое напряжение? — спросила она.
— И нервное тоже. В футболе весь участвуешь. Кому отдать мяч? Куда потом сам денешься? Тут у одного не пошла игра — и всем плохо. На игрока столько всего действует. Взять, например, чужое поле. Его всей своей личностью чувствуешь: и головой и телом!
— А кем ты, Андрей, хочешь быть? Лет в тридцать, когда сойдешь с поля?
— Естественно, тренером.
— Я тоже, — сказал Фюлюшков. Сняв очки, он протирал их полой толстой вязаной куртки. — Буду возиться с пацанами и никогда не постарею. Я очень люблю маленьких пацанов.
— Они тебя очкариком будут звать, — сказал Плотников.
— Не будут. Я к тому времени контактные линзы в глаза вставлю. Я читал, с ними даже на истребителе один летает. Мне бы только институт закончить.
— Физкультурный? А разве туда трудно поступить? — удивилась Лена.
— Любой. Чтобы быть тренером, надо обязательно высшее образование, а какое — неважно.
— Куда ни ткнись, везде это высшее. Как ты думаешь, зачем тренеру какой-нибудь, политехнический институт? — спросил ее Плотников.
— Для солидности. — Фюлюшков выпятил вперед живот и заложил за спину руки.
— А может, для кругозора? Любая учеба приучает к умственной работе, делает человека культурнее, — сказала она.
— Ты это серьезно? — не поверил ей Плотников.
— Конечно. — Лена улыбнулась. — Выражаться на поле будете меньше. Бесов говорил, что у вас в этом смысле не очень...
— Ну и что? У нас же силовой вид спорта. Когда по ногам ударят, мало ли что можно сказать, — обиделся Плотников.
— Правильно. Тренеры говорят: то ли мы от вас учимся, то ли вы от нас, — поддержал его Фюлюшков. — А вообще, это все чепуха, Ленка, не стоит внимания.
— А что не чепуха? Что ты считаешь главным в жизни?
— Самым главным я считаю, — Фюлюшков сделал очень серьезную мину, — ну, во-первых, это, конечно, вкусно поесть... Знаешь, я такие безе научился печь, сеструха пальчики облизывает.
— Значит, еда. — Лена загнула палец. — Еще?
— Еще? — Он опять сделал серьезнейшую мину. — Одеться как следует. Фирменные джинсы, свитерок-кенгуру, замшевая куртка с «молниями». Хареев обещал мне по дешевке достать.
— Джинсы? — спросил Плотников. — Жди после дождичка в четверг.
— Да нет, тряпку, а сеструха сошьет.
— Попроси лучше Топорова.
— Сергея? — удивилась Лена. — А он умеет шить джинсы?
— Рубашки тоже. Он все себе сам шьет, — сказал Фюлюшков. — На машинке.
— А я думала, почему он такой нарядный? Но мы, Игорь, отвлеклись от темы. Еда, одежда, — улыбаясь, загнула она два пальца, — а еще?
— Продолжать наборчик?
— Валяй, — кивнул Плотников.
— Ну тогда, естественно, хорошая квартира. Мы как переехали из коммуналки в двухкомнатную, такой кайф начался. Мать с сеструхой в одной комнате, мы с отцом в другой. У нас с ним телевизор стоит. Ложись на диван и смотри, никто не зудит... Хочешь, приходи ко мне в гости. Придешь?
— Приду, — смеялась Лена.
— А я к тебе приду. Хочешь? — сказал Плотников.
— Хочу.
— Честно?
— Честно.
Пока они так болтали, Людмила Ивановна дважды выключала проигрыватель, но ободряемые эстетками футболисты включали его снова:
— Людмила Ивановна, еще минуточку!
— Все! Минуточка уже была. Ну, елки, мы же на последнюю электричку опоздаем! — Она решительно в третий раз выдернула из сети шнур. — Быстренько расставьте все по местам и одевайтесь. Вещи свои никто не забыл? Это чья шапка?
Проверяя, хорошо ли завязаны у ребят шарфы, и ругая тех, кто опять щеголяет без головных уборов, Людмила Ивановна выпроваживала взбудораженных футболистов и эстеток на улицу.
— Ей бы в детский сад воспитателем, — заливая печку, сказал Плотников.
— Не нравится?
— Кому как. Такое ощущение, как будто она обо всем за тебя думает.
— То смеется и ласкает, а то садись — «два балла», — сказал Фюлюшков.
Они догнали шумную, растянувшуюся по лесной дороге компанию, которую, быстро перебегая из авангарда в арьергард, пасла Людмила Ивановна.
В ту ночь Лена, как футболисты после игры, долго не могла заснуть. Почему ей все больше нравятся эти ребята? — думала она. Получалось, самое симпатичное в них как раз то, что они футболисты. Но почему? В конце концов она взяла листок бумаги и стала записывать свои мысли в форме диалога. Это ей всегда помогало лучше разобраться. Итак:
— Почему их украшает и обогащает футбол? Потому что это все-таки интересное занятие?
— Нет, не только поэтому. Футбол не просто занятие. Это каждодневный физический труд, причем не менее тяжелый, чем у рабочих за станком или на стройке.
— Но тогда получается, что остальные ребята в школе только учатся, а футболисты работают и учатся?
— Да, они трудолюбивые, и потому, когда за что-то берутся, на них приятно смотреть.
— Но ведь они почти ничего не читают, получают двойки. Куда же девается их трудолюбие, когда дело касается учебы?
— Трудный вопрос. Но все-таки, я думаю, что все могло бы быть иначе.
— Ты в этом уверена? Почему?
— Потому, что на тренировках они привыкли к труду, который сам себе задаешь и в котором перед собой отчитываешься. А такой труд — неважно, физический он или умственный, — учит человека самостоятельно мыслить.
— Так вот, оказывается, за что ты уважаешь этих ребят? Тебе нравится их самостоятельность.
— Да. Трудолюбие и самостоятельность ума. Коллективизм и солидарность. Эти качества делают нашу жизнь духовной, какому бы из занятий мы себя ни посвящали.
Перевернув листок на чистую сторону, Лена задумалась.
— Я уважаю этих ребят, и, несмотря на все их отрицательные стороны, мне не нравится, когда окружающие относятся к ним как к обыкновенным троечникам или как к маленьким деткам.
— Ты имеешь в виду Людмилу Ивановну?
— Да, и ее тоже. Она жизнерадостная, веселая, симпатичная, отдает нашему классу очень много сил и времени, но почему она их так чрезмерно опекает и не замечает, что задевает этим их самолюбие? Ведь есть же, наверное, какие-то другие способы заставить этих ребят быть собранными? Конечно, мне еще надо хорошенько подумать над ее отношением к мальчишкам. Но то, что оно теперь меня не совсем удовлетворяет, — это факт...
— Да, с Людмилой Ивановной мы все ужасно ошиблись, — сказала мне Лена.
— Но пока, по твоим рассказам, она выглядит очень приятным человеком, — удивилась я.
— И все-таки конфликт, который у нас с ней произошел, был для всех — и для нее, и для футболистов, и для меня — огромным уроком.
Посмотрев на часы, Лена поставила на плиту чайник — ужин стынет, а Настеньки все нет — и продолжила свой рассказ дальше.
Отдохните от нас, пожалуйста!
Мордвинов был одним из первых
людей своего времени, предложивших
действенную программу преобразования
страны. «Всегда ли будет существовать
рабство крестьян в России? Нет!
Закон природы, даровавший человеку
при рождении его свободу, неистребим
никакими мерами, против оного
человеками предприемлемыми; никто и
никогда не уничтожит действия и
конечного успеха сего закона.
История всех в Европе народов
сию истину утверждает», — было написано
в одном из его мнений.
Из реферата Лены Ковалевой
В начале учебного года, разговаривая с Леной о Людмиле Ивановне, Марина Львовна сказала:
— Ну теперь я за вас спокойна. С классным руководителем вам повезло!
Лена кивнула.
Веселая, темпераментная, постоянно занятая тем, что происходит в классе, Людмила Ивановна казалась очень симпатичным человеком. Правда, после пяти лет с Мариной Львовной было непривычно видеть классного руководителя, который больше, чем искусством, интересуется химией, но, с другой стороны, она же химик, это ее специальность.
Однако постепенно Лена начала замечать, что ее смущает и другое.
Как-то в октябре Плотников получил у Людмилы Ивановны двойку и, видимо, желая показать, что это ему нипочем, стал насвистывать во время объяснения нового материала какую-то песенку.
— Плотников, мы тебя ждем, — повернувшись от доски, сказала Людмила Ивановна. — Мало того, что сам ничего не делаешь, но еще мешаешь другим.
— Вы уверены?
— В чем?
— В том, что я мешаю.
Людмила Ивановна швырнула на стол мел:
— Ну как тебе не стыдно! Сейчас же успокойся и положи перед собой тетрадь.
— По-моему, это вам надо быть спокойнее.
— Что? Ну хороша Я буду совершенно спокойной. Но имей в виду: на уроке тебя для меня больше не существует!
— Ну и прекрасно!
Пока Людмила Ивановна объясняла материал, Плотников, пересаживаясь с одного свободного места на другое, бродил по классу и продолжал, правда, теперь уже тихо, насвистывать.
— Наш Плотников хочет всегда оставаться победителем, но на этот раз у него не получится, — сказала Людмила Ивановна в конце урока. — Андрей, имей в виду: в Пушкинские Горы ты не поедешь!
В ближайшие дни класс должен был ехать туда на экскурсию.
В субботу вечером им подали автобус. В сетки над окнами летели сумки с вещами и продуктами. Ехать предстояло всю ночь, и от этого было весело. Последним в автобус залез одетый по-походному Плотников.
— А вот и я. Пришел. Вы на меня больше не обижаетесь? — неуверенно, громким голосом спросил он, подойдя к Людмиле Ивановне.
Она вскочила и, вытянувшись как свеча, выпалила:
— Сейчас же покинь автобус!
— Людмила Ивановна, пощадите, — басил он.
— Ни за что!
— Но я больше не буду. Я хочу с ребятами.
— Раньше надо было думать. Сию минуту вылезай! Я же сказала: выходи. Если ты не выйдешь, уйду я!
Людмила Ивановна двинулась к выходу.
— Ладно, оставайтесь. Не буду вам мешать приятно провести время. Чао, — сдерзил напоследок Плотников.
В окна им было видно, как понуро шел он прочь в темноту улицы. Настроение у всех упало. Тяжело видеть, как человека выгоняют из автобуса, в котором ты сам поедешь. Заурчал мотор, но все сидели, опустив головы.
— Ребята, мы отправляемся в дальний путь и должны чувствовать себя дружной семьей, — сказала несколько растерянная Людмила Ивановна.
— Одного друга уже выгнали, — заметил Фюлюшков, и Людмила Ивановна, опять вытянувшись как свеча, вспыхнула.
— Ну если он твой друг, то можешь идти за ним следом!
Фюлюшков молча вышел, остальные поехали. Настроение у них постепенно поднялось, но в целом экскурсия прошла все-таки вяло.
Нужно ли было не прощать Плотникова? Трудно сказать. Но выгонять Фюлюшкова, тем более зная, что он живет за городом и может опоздать на последнюю электричку?
Каждый день Людмила Ивановна то добродушно шутит с футболистами (она называет их «мои мальчишки»), то вдруг как свеча вспыхивает. А ведь у человека должна быть какая-то определенная линия, рассуждала Лена. Зачем было не брать Плотникова в Пушкинские Горы, если потом они с Людмилой Ивановной еще с неделю подергали друг друга и помирились? «У тебя, Андрей ужасно дерзкая натура», говорила она, а он с обезоруживающей улыбкой отвечал: «Это правда, я люблю поиграть на нервах».
Иногда хотелось вмешаться и все наладить. Но Лена сдерживала это желание, пока, подружившись с футболистами, она не поняла, что нужна им, а у них не начался громкий конфликт с Людмилой Ивановной.
Это произошло вскоре после Нового года.
В каникулы ребята и девочки несколько раз ездили к Лене на дачу. Им запомнился тот прекрасный декабрьский день, когда они топили печку и до упаду танцевали (они называли его теперь «первой дачей»), и хотелось все это опять и опять повторять. А Людмила Ивановна беспокоилась (ездили-то теперь без нее!) и обзванивала родителей: «Все в порядке? Ваш уже вернулся?» Было очень обидно, что даже в таких пустяках им не доверяют.
Дальше — больше. После каникул Людмила Ивановна предупредила:
— Мальчишки, того, кто еще хоть раз явится в школу без дневника, сменной обуви и галстука, я не пущу на уроки и буду вызывать родителей.
По тону было видно: на этот раз не пустит. И на перемене в классе поднялся ропот.
— Хватит нами командовать!
— Дома: надень тапочки, в школе опять тапочки.
— Футболку тащи, бутсы тащи, учебники тащи.
— Дневник — это я еще понимаю. Но тапочки?
— Парни, что мы — ишаки, что ли?
— Во-во! Ишак Ладейников в клетчатом галстуке.
— Людмила Ивановна больше однотонные любит.
— Тогда пусть и учителя ходят на уроки в тапочках!
— А может, еще бантик на голову прицепить?
— Молодой парень — и уже с галстуком. Как балбес!
— Почему, если мне, допустим, жарко, я не могу ходить с расстегнутым воротом?
— Мальчишки, имейте в виду: у нас школа, а не пляж.
— Однотонный галстук, однотонный пиджак, однотонные носки...
— А ты опять пришел с этой холщовой сумкой? Купи портфельчик!
Они расстегивали воротники и, срывая неуклюже повязанные мужские галстуки, подкидывали их в воздух. Было решено, что с этого часа все будут ходить без галстуков и без сменной.
— Объявляется восстание! — смеялся Фюлюшков.
Но кто скажет об этом Людмиле? Возникло легкое замешательство.
— Придется мне, — решил Плотников. Выйдя из класса, он направился к Людмиле Ивановне в лаборантскую. Футболисты двинулись вслед за ним.
— Я должен сообщить вам пренеприятное известие!
— Какое же? — Людмила Ивановна улыбнулась. — И застегни, пожалуйста, воротник.
— А если не застегну?
— Тогда я не буду слушать твое известие. — Она продолжала улыбаться.
— Будете.
— Нет, не буду.
— Придется.
— Андрей, если ты не прекратишь этот тон, я не стану с тобой разговаривать.
Людмила Ивановна растерянно смотрела на обступавших ее футболистов.
— Мальчишки, вы что — сговорились? Где ваши галстуки? Почему расстегнуты воротники? Сейчас же застегнитесь. Если вы будете так себя вести, я от вас откажусь!
— И хорошо сделаете, — сказал Плотников.
Футболисты молчали. Людмила Ивановна побледнела, потом покраснела.
— Ну что ж, раз так, я согласна.
Следующим уроком была литература.
— Я повернулась от доски и вдруг увидела, что на меня надвигаются парты. Ощущение было жуткое, — любила позже вспоминать Марина Львовна.
Она тщательно протерла глаза, но видение не исчезло. Парты продолжали двигаться. Как улитки свои домики, их волокли поближе к ее столу футболисты. Но вот шорох подошв стих.
— Ребята, что с вами? Зачем вы меня окружили? Произошло что-нибудь серьезное?
Они начали рассказывать.
— Галстуки, обувь... Но это ведь, в сущности, чепуха! Стоит ли из-за них парты двигать? А чем вы недовольны по крупному счету? Пока я не уловила.
— Мы хотим знать, можно ли к нам так относиться? — обобщил наконец Плотников.
— Нельзя. — Марина Львовна улыбнулась.
— Но наши мальчики совершенно издергались! — воскликнула Юлька Сотникова и посмотрела на Карпова.
— Я понимаю. Они у вас очень нежные создания. Но давайте говорить серьезно. — Марина Львовна переменила тон. — Конечно, я считаю, что звонить родителям надо поменьше, что вам надо доверять, что вы личности и уже сами с усами. Но все-таки я вам сочувствую только с одной стороны. В принципе вы правы, а по-человечески нет. Мальчишки, ну неужели вы не понимаете, что Людмила Ивановна вас любит? Подумайте, ну какой другой учитель будет часами торчать на ваших дурацких матчах? Она дергает вас, как несчастная мамаша своего оболтуса, из которого так хочется сделать приличного человека.
— А зачем она все повторяет: уходи и больше не приходи или я тебя больше знать не хочу? — как-то совершенно по-детски спросил Фюлюшков.
— Видишь ли, любовь — это очень неровная штука. Тот, кто любит, легко обижается...
Всю оставшуюся часть дня они, сидя на уроках, машинально отвечали что-то учителям и думали, думали... На переменах шел обмен мнениями.
— А если она действительно нас любит? Что тогда?
— Ничего не любит!
— Она хочет, чтобы мы ее любили.
— Этого все учителя хотят.
— Правильно, для этого она и на матчи ходит.
— Марина Львовна ни на одном матче не была, а ее я все равно уважаю.
— И я тоже.
— Слоны верно говорят.
— Мы не просим, чтобы к нам ходили.
— Обойдемся!
— Болельщиков у нас и так хватает.
— Мы Людмиле не уступим! Мы всегда будем против.
— И на матчи пусть не ходит. Не нуждаемся!
— Мальчики, вы только держитесь! А мы не дадим вас в обиду, — это Юлька Сотникова. — Девочки, ведь правда?
— Любит! А мы ее просили? — Плотников, расстегнув ворот, возбужденно прохаживается по классу. — Пусть она из других оболтусов делает приличных людей. А я не хочу быть приличным!
— Значит, решено? Восстание продолжается? — Фюлюшков весело протирает очки. И вдруг подходит к Лене:
— А ты чего отмалчиваешься? Какое твое мнение? Любит она нас или нет?
— Не знаю. Но дело, по-моему, не только в этом. Всякая любовь должна быть разумной. И надо это Людмиле Ивановне объяснить. Я считаю, что мы обязаны поговорить с ней. Вы должны ей сказать не только про галстуки. Главное не в этом, Людмила Ивановна все замыкает на себе.
Говоря, Лена чувствовала, как внимательно слушают ее ребята.
— Вспомните Пушкинские Горы. Я тоже сначала считала, что Плотникова не надо было туда брать. Но почему Людмила Ивановна решила это сама? Почему она нас не спросила? Прежде чем считать себя нашим классным руководителем, она должна научиться демократично нами управлять.
— А если она нас не поймет? — спросил Усачов.
— Тогда, — Лена задумалась, — тогда мы попросим, чтобы нам разрешили учиться без классного руководителя!
Разойдясь наконец по домам, они стали ждать наступления завтрашнего дня.
Третьим уроком в этот день была химия. Людмила Ивановна закрыла за собой дверь, медленно подошла к своему столу, оперлась на него руками.
— Ребята, я должна знать, в чем я не права. Что вы обо мне сейчас думаете и как объясняете свой поступок?
Они молчали.
— Ну что же вы не отвечаете?
Они продолжали молчать.
— Единственное, что я сейчас хочу, — это понять вас. Иначе я ведь не смогу вас учить. — Людмила Ивановна села за стол и стала что-то чертить на листке бумаги. — Скажите мне открыто, что у вас назрело. Ну, кто первый?
Футболисты смотрели на Лену.
— Я понимаю, что разговор у нас будет неприятный, но мы должны пройти через него, потому что в таких случаях нужна предельная ясность. Скажите, что вы обо мне думаете. В любой форме. Я не обижусь.
— Мальчики, ну говорите же! — вертелась, как на иголках, Юлька.
— Я совсем не хочу, чтобы ваш футбольный класс стал каким-то институтом благородных девиц. Но есть же все-таки мера. Взять, например, эти галстуки. Да я их сама не люблю! Но когда Плотников ходит расстегнутый чуть не до пупа...
— Людмила Ивановна, не преувеличивайте, — поднялся со своего места Плотников. — А то я вообще приду в футболке.
Это подстегнуло остальных.
— Ну что за манера — чуть что, звонить тренеру? Мальчик не носит в школу сменную обувь!
— Дома тапочки, в школе опять эти дурацкие тапочки!
— Что мы — ишаки, что ли, все это с собой таскать?
— Парни, дело не в тапочках! — сказал Фюлюшков и посмотрел на Лену. — Дело в том, что вы, Людмила Ивановна, все замыкаете на себе.
— Игорь правильно говорит. Вы, Людмила Ивановна, недемократичный человек, и поэтому мы не хотим, чтобы вы были у нас классным руководителем. Отдохните от нас, пожалуйста! А мы отдохнем от вас, — сказал Плотников.
— Ясно. — Людмила Ивановна глотнула воздух. — Хорошо. Я постараюсь дать вам такую возможность. Я вам обещаю! Я попрошу Ирину Васильевну, чтобы вам дали другого классного руководителя, а может, и другого учителя химии...
— Да нет, как к химику у нас к вам претензий нет, — сказал Плотников.
— Спасибо. — Людмила Ивановна поправила стопку тетрадей на столе. Она выглядела очень осунувшейся, и голос ее звучал как из глубокого колодца.
— Ребята, но это же... Она одна, а вы все! — вскочила со своего места Ира Георгиева. — Разве можно так ополчаться на человека? Вы же сами ничего не хотели делать в классе, а потом сваливаете свою вину на другого.
Ира разревелась. Класс притих.
— Парни, а может, мы повременим с этим отдыхом? — громко сказал Усачов. — Я не могу видеть, когда девчонки плачут.
Все молчали, только Ира продолжала всхлипывать. Она была у них комсоргом — милая, тихая девочка, которая с сентября не могла собрать у ребят комплексные планы.
— Ира, возьми себя в руки, — сказала Людмила Ивановна. — Мы же всё решили. У вас будет другой классный руководитель.
— Не надо нам другого, — перебил ее Фюлюшков.
— А что же вам тогда надо?
— Самоуправление! Мы сами хотим все решать на собрании.
— Хорошо. Я скажу об этом Ирине Васильевне. Время покажет, кто из нас был прав...
Вечером Лена часа три разговаривала с мамой. «Меня просто ужасает ваша жестокость», — повторяла мама, начисто забыв о белье, которое мокло в ванной. Сначала из уважения к ее чувствам, а под конец уже и от души Лена соглашалась, но, странно, препятствовать ходу событий ей не хотелось...
— И долго длилось это самоуправление? — спросила я ее.
— Около двух месяцев.
— А потом? Вы помирились с Людмилой Ивановной?
— Помирились не то слово. Мы ее поняли, — сказала Лена.
— А что же открыло вам глаза? Произошел какой-то особый случай?
— Нет. Самоуправление. Если бы нам его не разрешили, все могло бы быть иначе.
Тетрадь в переплете
Умению пользоваться свободой
«во благо себе и обществу» закон
обучить не может, считал Мордвинов.
«В сем соображении, — гласит одно
из его мнений, — дарование
свободы только тогда не сопровождается
никакими ощутительными неудобствами,
ни вредными последствиями, когда
располагаемо бывает с некоторой степенностью...»
Из реферата Лены Ковалевой
Людмила Ивановна выполнила свое обещание. В тот же день она сообщила директору, что девятый «Б» требует полного самоуправления. Она держала себя в руках, не плакала и не жаловалась. Ирина Васильевна выслушала и в том же деловом мужественном тоне согласилась:
— А что? Это идея. Пусть попробуют. Конечно, класс без классного руководителя — это хулиганство. У школы могут быть неприятности. Ну да пускай. Без риска нет настоящей педагогики.
Она подумала.
— Впрочем, это еще не риск. Идти надо до конца. Классного руководителя у них не будет, а вот что касается его обязанностей — извольте, дети, исполнять сами. Ходите на педсоветы, слушайте, как мы там ругаемся, составляйте текущие сводки успеваемости, проводите родительские собрания — ничего из этого для девятого «Б» не отменяется.
— Пожалейте их, — попросила Людмила Ивановна.
— Ничего. Пусть соберутся завтра после уроков и хорошенько подумают, как они будут это за вас делать. Что-либо подсказывать мы им будем, только когда они сами попросят. Итак, до завтра.
Но ребята завтрашнего дня не дождались. Вечером в квартире Ковалевых раздался звонок, и, открыв дверь, Лена увидела на лестнице толпу мальчишек.
— Вы хотите прекратить восстание? — вырвалось у нее.
— Наоборот, оно вступает в новый этап, — заявил Плотников.
В гостиную притащили все стулья, кто-то забрался на подоконник. Устроившись, приступили к делу. Они ищут человека, который бы мог подчинить себе класс. Восстание продолжается, но руководить им должен кто-то один.
— И поэтому вы пришли ко мне?
— А к кому же еще идти? — сказал Фюлюшков. — К соседке Оле, что ли?
— Нам нужен лидер, а ты по натуре настоящий нападающий, — сказал Плотников.
— Значит, вы предлагаете меня? — Сдерживая волнение, Лена встала со стула.
— Так ты согласна? — обрадовался Плотников.
— Да. Но... У нас должна быть полная демократия. Я не хочу монархии.
— Принято, — закричали ребята.
— Объявляется бесклассовое, то есть без классного руководителя, демократическое государство Девятый «Б», — прохаживался Фюлюшков.
Немного поспорили о механизмах власти (не всем было ясно, как увяжется с демократией такой привычный им принцип единоначалия), и Лена приступила к главному.
— Какие будут в нашем государстве законы? Какие мы дадим нашим гражданам права и какие у них будут обязанности?
Как настоящий нападающий, она тут же дала общую установку:
— Мы должны продемонстрировать всей школе, что при нашем управлении в классе может быть хорошая успеваемость и дисциплина.
— Принято!
Футболисты решили как следует учиться, отменить прогулы и опоздания и даже носить сменную обувь и галстуки — черт с ними!
— Раз так, хорошую успеваемость надо будет возвести в Основной закон нашего государства, — рассуждал Фюлюшков.
Лена достала чистую тетрадь потолще, и они с подъемом, перебивая друг друга, стали формулировать права и обязанности граждан Девятого «Б». Конечно, это была игра, но почему и не поиграть, если это идет на пользу делу. Лена чувствовала, как ее несет какая-то веселая волна, и уже не могла и не хотела останавливаться.
Кончилось тем, что футболисты выбрали Лену премьером своего государства, а ей в помощь дали двух министров: Фюлюшкова — внутренних дел, Плотникова — внешних. С правительством будет еще увлекательнее!
— Итак, с завтрашнего дня начинаем самостоятельную жизнь, — сказал Плотников.
Перед уходом футболисты катали на закорках Настеньку, играли с ее кошкой и пили чай с мармеладом.
Утром «правительство» в полном составе явилось в кабинет директора.
— Интересно. Очень интересно, — слушая об отмене прогулов и возведении в Основной закон хорошей успеваемости, кивала головой Ирина Васильевна.
— Значит, вы согласны? — спросила Лена.
— Не знаю, не знаю. Ваша игра чем-то напоминает мне «Швамбранию» Льва Кассиля. Но там маленькие, а вы уже девятый класс. Не будет ли у вас двоевластия? У вас уже есть одно правительство — ваше комсомольское бюро. Что же останется теперь делать комсоргу Ире Георгиевой?
Наступила пауза.
— Мы ее в начале года выбрали как отличницу, — сказал Плотников.
— Она ничего, хороший человек, но в лидеры совершенно не годится. Характера нет, — объяснил Фюлюшков.
— Мы выберем Ковалеву. Ты согласна? — повернулся к Лене Плотников.
— Идея, — обрадовался Фюлюшков, — соберем собрание, обсудим. Я уверен, за тебя все парни проголосуют, а парней у нас большинство.
Это уже была не игра. Еще год назад, в восьмом классе, Лена на собственном опыте поняла, что хорошим комсоргом быть трудно.
— Что ж, попробуйте. Если ребята проголосуют за Лену, я буду рада. Только учтите: на нее лягут еще и все обязанности классного руководителя.
С большим удовольствием Ирина Васильевна стала подробно рассказывать об этих обязанностях. Знать родителей и домашние обстоятельства каждого ученика. Поддерживать тесные контакты с тренерами и учителями. Внимательно выслушивать все их просьбы, советы и жалобы. Это наиболее деликатный и трудный момент в работе классного руководителя. Быть посредником в конфликтах педагогов с ребятами и быстро принимать действенные меры. Раз в месяц отчитываться на педсоветах об успеваемости, посещаемости, прогулах — как по уважительным причинам, так и в особенности без оных. Представлять, буде понадобятся, различные справки, сводки, характеристики. Проводить воспитательные беседы по соответствующему плану.
Говоря, Ирина Васильевна прихлопывала ладонью по столу.
— Ну как, сможешь? — обратилась она к Лене.
— Попытаюсь. Но только с одним условием. Плотников и Фюлюшков должны заниматься всем этим со мной на равных, — сказала она.
И вот после собрания, на котором не только футболисты, но и большинство девочек проголосовали за Лену, началась работа.
Первым испытанием был подоспевший по утвержденному школьным комитетом комсомола плану Ленинский урок. Футболисты превзошли себя. Урок длился четыре часа. Бубнежка по бумажке не допускалась. Перед этим все работали с первоисточниками: «Очередные задачи Советской власти», «Три источника и три составных части марксизма», «О кооперации». Взявшись за эти статьи, футболисты были потрясены. Оказывается, первоисточник и понимать и запоминать намного легче, чем учебник! (Ничего удивительного, объясняла им она. Ленин есть Ленин.) Более того: давным-давно написанные первоисточники как-то сами собой связываются с сегодняшним днем. (Еще бы...) Особое внимание уделили проблеме демократии при социализме, а на четвертом часу перешли к значению физической культуры для развития личности. Фюлюшков сделал доклад. Усачов подкрепил его сообщением о футболе как самом демократичном виде спорта.
— Молодцы, девочки. Так преобразить мальчишек! — сказала Лене завуч Галина Павловна. Вместе с опальной Людмилой Ивановной она провела на их уроке последних три часа.
Лена была с такой точкой зрения категорически не согласна. Мальчишек преобразил не кто-то, а самостоятельный труд над первоисточниками!
В школе в это время проходил конкурс «Ты ленинградец». Готовясь к нему, ребята должны были хорошо изучить свой новый, раскинувшийся за Выборгской стороной район. В классе эту работу контролировало комсомольское бюро. Когда на собрании стали заслушивать первые отчеты, Лена была совершенно счастлива. Девочки, конечно, блистали знаниями культурной жизни, исторических мест, всевозможных памятников. Юлька Сотникова, например, утверждая, что Блок, бродя по соседним Озеркам и Шувалову, обдумывал «Незнакомку», как настоящая актриса, на память читала не только стихотворение, но и куски из одноименной пьесы. Но самым неожиданным было то, что показали мальчишки. Готовясь к конкурсу, они взяли на себя промышленность, и Лена сначала побаивалась, что эта часть разговора может получиться скучноватой — заводы, станки, тонны, кубометры...
Но вот с места встает Карпов и начинает рассказывать о заводе «Светлана», где, совсем близко от их школы, делают настольные вычислительные машины и много других сложных электронных приборов. Он упирает на технологию. Точность взаимного расположения деталей в интегральных микросхемах измеряют до сотых долей микрона, чистота при их изготовлении требуется такая, что по инструкции в кубометре окружающей среды должно быть не больше трех пылинок. Затем переходит к рабочим — их профессии, заработки, конфликты, премии, что такое тринадцатая зарплата... После Карпова встает Плотников, за ним Фюлюшков, Заквасин. Они тоже рассказывают не в общем и целом, а конкретно о том, как на соседнем заводе «Красный выборжец» работают с медью и алюминием, а на Металлическом делают огромные турбины для электростанций. Объясняют названия профессий и станков, ругают устаревшее оборудование и бюрократические порядки в цехах. Звучит это просто, как рассказ приятелю, а в результате получается картина набитого электроникой, рокочущего моторами, гудящего станками, гремящего прессами района.
Ходишь по улицам, занят какими-то своими, кажущимися тебе важными мыслями, а в это время, приглушенная стенами и оградами, где-то в глубине кварталов или совсем рядом течет, ни на минуту не прекращаясь, другая, созидающая цивилизацию твоего сегодняшнего и завтрашнего дня жизнь, размышляла, слушал футболистов, Лена. И самым важным ей теперь казалось не допустить, чтобы возникшее сейчас острое чувство уважения к людям, живущим этой жизнью, когда-нибудь забылось, притупилось.
— Я как-то раньше не задумывалась, сколько в нашем районе рабочих. То есть я, конечно, знала, что их очень много, но не задумывалась, — призналась она после собрания.
Футболисты пожимали плечами: ничего особенного, рассказали, что знают с детства. Карпову, например, пришлось только сесть возле мамаши (она у него контролер ОТК на «Светлане») и кое о чем подрасспросить для уточнения.
Когда подошел срок сдавать Ленинский зачет, Лена уже не удивлялась, что мальчишки на все вопросы отвечали по существу, принесли с собой конспекты ленинских работ. Сложнее оказалось с девочками. Выступать против формализма они любят, а когда доходит до дела... Юльке было предложено рассказать, что написано об учительстве в «Страничках из дневника». Она тряхнула головой и залилась колокольчиком: учитель — это фигура, учитель — это очень важно... Лена, покраснев, посмотрела на Карпова.
— Общие слова, — прервал он Юльку. — Давай конкретно. В то время Ленина очень беспокоило материальное положение учителей. Что он говорил об этом?
Юлька молчала.
— Ты же собираешься в педагогический. Если ты сейчас привыкнешь к общим словам, что будет потом? — сказал Фюлюшков. — Тебя дети слушать не будут.
— Какие вы все-таки жесткие, — сказала она им потом.
Через две недели Юлька отлично сдала зачет, но в тот день должна была уйти ни с чем.
При подведении итогов комсомольской работы группа девятого «Б» заняла второе место по школе.
А могла бы и первое — если бы не успеваемость.
Сразу после переворота класс был в приподнятом настроении. Футболисты изо всех сил зубрили формулы и правила, в школу ходили, как и было условлено, в сменной обуви и при галстуках. По утрам на них прибегали смотреть с других этажей.
— Опять все в сменной? В галстуках? Никто не опоздал?
— Само собой.
— Ого! Даже Хареев эту удавку надел!
Но постепенно эта волна начала спадать, и галстуки большинству мальчишек стали приносить в школу девочки. Сначала Юлька для Карпова (он такой рассеянный!), потом остальные. У каждой к тому времени появилась своя симпатия.
— Народ подустал, — констатировал на очередном заседании правительства Фюлюшков.
— Людям нужна передышка. Иначе они перестанут нас слушать, — согласился с ним Плотников.
— Значит, на отсутствие галстуков смотрим теперь сквозь пальцы? — спрашивала Лена.
— Пора. А то уже отец с меня пример берет. На все наши воскресные матчи в галстуке ходит. Я ему говорю: ты же шофер, отец футболиста, в свитере бы пришел. Не понимает, — разводил руками Фюлюшков. — Белая рубашка, черный костюм — как пингвин!
Они, как и было договорено, работали за классного руководителя втроем. Лена посещала педсоветы, вела переговоры с учителями, держала при себе разную цифирь — для этого она завела специальную тетрадь, а справляться с двадцатью футболистами ей помогали министры. Плотников давил на них в основном морально, а Фюлюшков морально и, случалось, физически. Он был слабее Плотникова, но получить от него затрещину боялись почему-то больше.
А самой Лене все-таки больше нравился Плотников. Неужели это потому, что он красивее? Нет, не может быть! Она тут же подавляла в себе эти глупые мысли и склонялась над толстой, в коленкоровом переплете тетрадью, страницы которой были испещрены такими записями:
«За 1,5 месяца пропущено 256 уроков, из них по болезни 44. В среднем без уважительных причин пропущено примерно 2 учебных дня на каждого футболиста. Больше всех прогуливали: Корженцов — 24, Усачов — 18, Ладейников — 17... Типичные объяснения: ездил домой за футболкой, болела голова, третий день не могу купить кеды (нужен сорок шестой размер), простоял в очереди к хирургу... Обратить особое внимание на предметы: Корженцов по английскому — 2, 4, 2, по биологии — 4, 3, 2, Усачов по литературе — 4, 2, по геометрии — 3, 2, Ладейников по химии — 2, 3, 2, по физике — 3, 2, 3, Карпов по геометрии — 4, 3, 2, Плотников по истории — 4, 2, по литературе — 2, 4... Помогают: Сотникова — Карпову, Георгиева— Корженцову, Канторович — Усачову, Акатова — Ладейникову, Ковалева — Плотникову и Фюлюшкову...»
Да, к сожалению, в учебе ее министры хромали, как и все. От двойной нагрузки самоуправление их не избавило, а застарелые пробелы в знаниях, к сожалению, штурмом не ликвидируешь.
Сидя на педсоветах, Лена записывала в свою тетрадь и выводы учителей:
«Математика. Особенно плохо с геометрией. Нет претензий к Заквасину — без блеска, но делает все, что может. Ходулин тоже подтянулся. (В общем, со Слонами порядок!) А остальные неважно. У Корженцова, Усачова, Ладейникова, Карпова нет учебников. (Интересно, куда они их дели? Потеряли?) Фюлюшков — неаккуратность в решениях, отсюда дополнительные ошибки. (Может, нужны новые очки?) История. У Бориса Яковлевича претензии к мальчикам в целом. Все плохо готовят домашние задания. Недостаточное внимание при объяснении нового материала. Дисциплина удовлетворительная. (Да она хорошая, а не удовлетворительная. Если бы, как у Бориса Яковлевича и Марины Львовны, они вели себя на других уроках, это был бы такой прогресс.) Лучше других Заквасин, Ходулин (молодцы Слоны!), Карпов. Хуже: Усачов, Плотников. Последний может хорошо отвечать, но по-настоящему готовится к уроку редко. А Усачов все время опаздывает, объясняет тем, что в столовой большая очередь, не успевает как следует поесть. (Вот обжора!) Физика. Ольга Леонидовна просит обратить особое внимание на порядок в классе. Слишком много разговаривают. Фюлюшкову надо поменьше шутить и побольше заниматься. У Плотникова очень большое самолюбие, часто спорит с учителями по пустякам. (А разве лучше, если бы у него было маленькое самолюбие?) Усачов должен сидеть один и подальше от своих дружков Ладейникова и Корженцова. (Значит, надо как-то разъединить на уроках Святую Троицу. А вот как? Задачка еще та...) Карпов все время списывает. Хареев совершенно погряз в двойках. Предлагает сделать Карпову внушение, а Хареева освободить от тренировок. (Не слишком ли?) Иначе по физике ему не подтянуться. Пробелы и неважные способности. Вообще, он думает не о том, больше занят тряпками. Бесов предлагает пока не отстранять, но предупредить. Тренеры поддерживают. Такие, как Хареев и К0, обманывают всех и в первую очередь себя... Просьба Ирины Васильевны. Обобщить итоги олимпиад по истории, химии, математике. Попросить девочек подготовить стенд, посвященный последним выставкам в Эрмитаже. NB. Нужны характеристики в военкомат. Будем обсуждать на бюро...»
— В целом-то ведь стало несравненно лучше. Но как еще плохо! — говорила после этого педсовета Лена своим министрам.
— У нас большинство талантливые, — потирал руки Плотников. — Еще немножко надавить, и все пойдет как надо.
— А кто будет давить, если вы с Фюлюшковым сами с физичкой спорите, историю не учите, задачи решаете плохо?
— Не хуже других, — обиделся Плотников.
— Борис Яковлевич в спорте совсем не сечет, — сказал Фюлюшков. — После игры с Ереваном мы все еле ноги волочим, а он меня в понедельник спрашивает: доктрина Бисмарка. Нельзя, что ли, дня подождать с этой паршивой доктриной?
— У него, Игорь, программа. Он, как и вы из своего календаря игр, не может из нее выходить.
С каждым днем Лена теперь все больше сочувствовала учителям, лучше понимала в них то, что ребятам обычно кажется предвзятостью. Краснея на этих педсоветах за свой класс, так заводишься, что временами начинаешь нести совершенную околесицу. Может, и Людмила Ивановна от этого бывала взвинченной? У одного двойки, другой безбожно дерзит, третий списывает...
— Итак, Хареева берет на себя Фюлюшков, — возвращалась она к делу. — А что будем делать с Усачовым? Во-первых, обжора, во-вторых, нет учебников, в-третьих, болтун.
— Не болтун, а юморист, — поправил ее Фюлюшков.
— Хорошенький юмор. Мне вчера Галима Наримановна жаловалась, что он посоветовал ей идти в отпуск. Ваш, говорит, цвет лица внушает опасение.
— Да, он может сказать кому угодно и что угодно, — констатировал Плотников.
— Ты тоже можешь, — сказала Лена. — Даже Марине Львовне.
— Марина Львовна — это особый случай. Она нас понимает, хоть и не ходит на матчи, — заметил Фюлюшков. — У нее спортивное мышление!
Опозданий и прогулов после таких заседаний правительства становилось меньше, но успеваемость изменялась туго. Надо было принимать какие-то дополнительные меры, но какие?..
— Я думала, что если есть демократия, то все остальное сразу же изменится к лучшему. А оказалось, кроме демократии, еще столько всего нужно, — прервала свой рассказ Лена.
В комнате звонил телефон.
— Фюлюшков. Просит почитать книжку о Кюри, — вернулась она на кухню.
— Значит, его тоже интересуют великие женщины? — сказала я.
— Это после моего спора с девочками. В классе сейчас такие дебаты идут о роли женщин. Даже не верится, что скоро разбредемся кто куда...
Помолчав, мы вернулись в прошлое.
Страшное дело
В 1824 году, когда в Академии
художеств был выставлен бюст
Мордвинова, «Отечественные записки»
писали, что скульптор сумел увидеть
в нем не только убеленное сединами
чело сановника, но и его непоколебимый
к пользам отечества ум и исполненное
любовью к ближним сердце.
Из реферата Лены Ковалевой
Пока Лена думала о дополнительных мерах воздействия на футболистов, ей без конца звонили мамы. Узнав, что Ковалева исполняет обязанности классного руководителя, они быстро стали относиться к ней как ко взрослой. Выходит, все дело в роли, которую ты исполняешь?
Вопросы и просьбы у мам были разные. Некоторые (это самое неожиданное) жаловались на мужей — пьет, мешает сыну заниматься. Другие — трудно воспитывать одной: хоть какой, а отец нужен. (Лена обнаружила, что восемь из двадцати футболистов живут без отцов.) Но самое неприятное было, когда та или иная мама начинала говорить, что ее сыну надо найти другого товарища (этот невежливый, не о том думает, с девочками гуляет), подробно расспрашивала, была ли у них вчера игра, а позавчера собрание (откуда знаешь, что сказал он ей?), или они начинали жаловаться друг на друга: карповская мама на корженцовскую, корженцовская — на карповскую... Чтобы оставаться со всеми честной и не подводить ребят по мелочам, Лена старалась заминать такие вопросы, переводила разговор на другое, но все равно было трудно, а когда речь заходила о семейном, личном, женском — и очень больно. Она хотела помочь каждой маме, но, окунаясь в их проблемы, обнаруживала, что это ей еще не по плечу.
— Не расстраивайся. Иногда помогает просто хорошее слово. Дай человеку возможность выговориться, и ему станет лучше, — успокаивал ее отец.
— Папа, но я же маленькая! Я не могу всего этого переварить, — отвечала она ему чуть не со слезами.
Ей нужен был душевный опыт взрослого человека, а она по-настоящему разбиралась только в том, что касалось их собственной детской жизни. И ее министры тоже!
— Страшное дело — эта наша республика, — признался на одном из заседаний правительства Плотников.
— Занимаемся тем, чего не умеем, — кивнул Фюлюшков. — Одного пушечного удара тут мало.
Но что же в таком случае делать? Как не развалить класс? Попросить помощи у Марины Львовны? Но тут нужна не помощь — нужен полноценный классный руководитель, профессионал.
— Вот именно. Учитель — профессия очень серьезная. Я тоже когда-то думала... Раз школьницей я умела устраивать вечера, раз студенткой была вожатой в лагере и дети были от меня в восторге: «Ура! Уходим в путь. От штампов мы решили отдохнуть» — значит, стать учителем для меня пара пустяков. Ан нет, — говорила ей Марина Львовна. Как обычно, они разговаривали по пути домой.
— Я теперь понимаю. Наверное, так с каждой профессией. Видишь в ней романтику или, наоборот, скуку, а это всегда труд, которому надо специально учиться.
— Учиться на учителя я тебе не советую, — остановившись, Марина Львовна взяла в другую руку сумку с продуктами. — А вот Людмила Ивановна прирожденный учитель. Подумай, вы сделали ей так больно, а у нее на вас ни грамма обиды. Пришла к вам на Ленинский урок, каждый день беспокоится, спрашивает: «Как там мои?» Меня это потрясло! Я бы так, наверное, не смогла. Самолюбие...
Помахав Лене рукой, Марина Львовна медленно пошла к своей остановке.
«Действительно, они совсем разные, — записывала Лена в тот день в дневник. — С Людмилой Ивановной мне часто хотелось спорить, а с Мариной Львовной спорить трудно. Впрочем, на уроках, говоря о своих предметах, они обе совершенно преображаются. Марина Львовна становится мягче и улетает в какой-то другой мир, а Людмила Ивановна делается строгой и непреклонной: оксиды, кислоты, соли — кажется, что на свете нет ничего важнее. Да, они разные, но обе прирожденные учительницы, и теперь я понимаю, что Людмилы Ивановны мне тоже очень не хватает. Но почему только теперь? Перешагни через самолюбие и скажи себе прямо: потому что я еще очень маленькая и очень самонадеянная. Надо с этим бороться!»
Вместе со своими министрами Лена начала заходить в лаборантскую: там Людмила Ивановна проводила перемены — проверяла тетради, готовила опыты. Они рассказывали ей, что происходит в классе, советовались и в один прекрасный день обнаружили, что Людмила Ивановна опять стала их классным руководителем.
— Вы научили меня бороться с моей вспыльчивостью, — сказала она ребятам на классном собрании.
— Можете не бороться, — ответили они ей.
— Но почему?
— У вас, когда вы кричите, все равно не те интонации, — объяснил Плотников. — Признайтесь честно, вы ведь никогда не ругались с нами на полном серьезе.
— Значит, ты это заметил? Мальчишки, ну какие вы у меня все замечательные...
И Плотников и Фюлюшков радовались, что тяжкий груз наконец упал с их плеч, а Лене было и радостно и грустно. Радостно за Людмилу Ивановну и грустно за себя. Ведь быть классным руководителем у нее не получилось!
— В чем моя главная ошибка? — спрашивала Лена Людмилу Ивановну, помогая ей перемывать пробирки для лабораторной.
— Трудно сказать. У меня, как видишь, тоже не все получается. А кроме того, ты прибедняешься. Ты сумела! Твоя единственная настоящая ошибка — это робость перед учителями. Они привыкли много задавать на дом, а в вашем классе этого нельзя. Имей в виду: чем лучше учитель, тем меньше он задает на дом. Надо добиваться, чтобы все было усвоено на уроках.
— Я об этом не думала...
— Да. И еще. Очень важно не перегибать с дисциплиной. Мальчишкам действительно трудно переключаться после тренировок. Тут три-четыре минуты пошутишь, попикируешься с ними...
— Так вы это всегда специально?! Это профессиональный прием?
— Конечно. После такой разрядки они гораздо лучше сосредоточиваются.
Людмила Ивановна посмотрела ей в глаза.
— А в чем, по-твоему, моя ошибка?
— Ваша? Наверное, в общественной работе. — Лена думала. — Вы слишком много делали за нас и все время спешили: давайте по-быстрому соберемся, надо быстренько обсудить!
— Мне хотелось, чтобы все эти собрания не отнимали у вас слишком много времени. Но теперь я поняла: время отнимается только тогда, когда скучно. А от моей спешки и контроля вам было скучно. — Она медленно складывала чистые пробирки в ящик...
— Людмила Ивановна — это удивительный человек. Главное — очень терпимый. А это такое редкое качество! — говорила мне Лена.
Мы по-прежнему сидели на кухне и ждали Настеньку. И вот она наконец явилась.
— Добрый вечер. Вы знаете, на улице такая духота, и я так устала в этом городском транспорте!
— А куда ты, светская дама, ездила? — поинтересовалась Лена. — К Тане?
— Ага.
— Быстро ешь и садись за уроки. Не хватало, чтобы в последние дни ты нахватала четверок.
Накормив Настеньку ужином, Лена выпроводила ее из кухни и плотно закрыла дверь.
— Но это все в девятом классе. Что касается десятого...
— Проблемы десятого — сугубо личные? — догадалась я.
— К сожалению...
— И Настенька про них не знает? — кивнула я на дверь.
— Знает, но не все, — сказала Лена.
Здоровье родителей превыше всего!
Тщетно пытается поколебать
Мордвинова «неправый глас страстей»,
писал в оде «Гражданское мужество»
Рылеев:
Он тверд, покоен, невредим,
С презрением внимая им,
Души возвышенной свободу
Хранит в советах и суде.
Из реферата Лены Ковалевой
Почему, дружа с мальчиком, в один прекрасный день вдруг обнаруживаешь, что постоянно думаешь о нем? И отчего при этом то безумно радуешься, то тоскуешь и ждешь какого-то особого внимания, а в результате теряешь свою свободу и независимость? Что это такое — голос природы? Нет, тут надо положительно разобраться! Не может быть, чтобы все было так просто и грустно. Человек должен уметь общаться с другим человеком, не теряя себя. Надо победить природу, но как это сделать?
Вот о чем думала Лена летом, перейдя в десятый класс.
Еще весной на одном из заседаний своего правительства она пришла вдруг к выводу, что ей гораздо больше нравится размышлять не о том, как заставить Усачова купить учебник по геометрии, а о Плотникове — у него такой симпатичный вздернутый нос и такая хорошая улыбка. Шли дни, но это безобразие не проходило, скорее наоборот.
Они переглядывались на уроках, звали друг друга в кино или просто побродить по городу.
— Пошла с министром внешних дел гулять? — встречая их после уроков, смеялась Марина Львовна.
— А что, нельзя, что ли? — басил он, демонстративно обнимая Лену за плечи.
Впрочем, наедине они вели себя иначе и говорили в основном о серьезных вещах: о спорте, о книгах, о технике. Отец у Андрея был строителем, каменотесом, а сам он интересовался ленинградскими мостами.
Глядеть на реку и слушать его, а потом рассказывать что-нибудь самой было так увлекательно!
И вдруг в мае все это резко оборвалось. Он перестал смотреть в ее сторону на уроках, избегал на переменах, не звонил. От футболистов Лена узнала, что накануне кто-то шепнул Андрею: у нее есть другой, ее видели с ним в городе! Видеть ее действительно могли, но это был ее товарищ еще с тех времен, когда она училась в шестом классе и играла в Ванландию. Андрею, значит, такое не пришло в голову. Он думал о ней только в связи с собой и своими чувствами.
Ох, как эти личные чувства мешают людям жить, как они все путают, сколько от них ненужных мучений!
В те дни, оставаясь дома одна, Лена часто доставала и из своего стола три толстые тетради и, раскрыв последнюю, начинала писать в ней очередное письмо к Helen. Вот уже пять лет, как она писала ей, своей душе и совести, письма, в которых советовалась о том, о чем ни с кем другим на свете не могла. «Hеlеn, привет... Helen, милая, здравствуй... Неlen, не умирай...» Все вместе это называлось «Дневником настроений» и наконец потребовало серьезного самокритичного анализа.
Когда в ее жизни началась эта путаница чувств?
Пришлось вернуться далеко назад — в то время, когда она еще училась в шестом классе и играла в Ванландию.
«Helen, представь себе, у меня почему-то хорошее настроение из-за такого пустяка, как звонок N, — нашла она в дневнике. — Он так смешно извинялся. Да, N такой же прекрасный и терпеливый человек, как и Марина Львовна! Целый день рассказывал мне о взрывчатках, а я так плохо разбираюсь в химии».
Дальше о другом, но вот в каникулы на даче опять.
«Почему не пишет N? Я уже несколько дней во сне плачу. Никому я не нужна! А может, так мне и надо? Все у меня как-то неясно и с N тоже. Зачем он мне?»
Вот именно — зачем? Лена продолжала листать письма. Началось время, когда она билась над смыслом жизни, и N ушел куда-то на второй план. Но стоило повернуться лицом к земному, как тут же:
«Helen, я в панике! Что же мне делать с N? Дурак дураком! А я почему-то все время о нем думаю. Очень глупо, но как мне с этим справиться? Как не влюбиться в N?»
Она строила разные планы, но:
«Неlen, представляешь, сегодня мне снился он и какая-то девица. Значит, это уже ревность? Неужели я все-таки влюбилась? О ужас! Не хочу!!! Но как же мне тогда себя вести? Как сохранить дружбу без любви? Или лучше вообще не дружить? Да все, что угодно, только не любовь! Любовь — это постоянные, нереальные, никому не нужные думы, тем более с одной стороны. А я сурьезный человек! Я сдаю экзамены и начинаю жить, читать, заниматься, и все. Больше ничего».
А в действительности?
«Неlen, привет! Прошла неделя каникул, а я до сих пор не занялась ничем путным. Мешает этот N. Вчера не удержалась и назвала его идиотом, а он говорит, что это слово надо расшифровывать, как идеальный друг и отличный товарищ. Но я не хочу страдать даже из-за отличного. Почему я каждый день жду его звонка? Зачем мне это? Я хочу быть свободным человеком».
И что же?
«Неlen, ты знаешь, я сейчас очень плохо поступила с мамой. Уехала с N смотреть салют, а она два часа стояла у дверей и не могла попасть домой: ключи-то были у меня! Ужасно стыдно! Ну почему мне хочется дружить с этим идиотом, если я теряю с ним голову? Нет, я больше не должна с ним общаться. Я и так наделала maman достаточно неприятностей. И с ним нормальных отношений у нас все равно уже не будет. А любовь? Зачем она, действительно? Чтобы доводить родителей? Ну уж хватит. Здоровье родителей превыше всего. Вот теперь мой девиз. Завтра в последний раз поговорю с N и good byu. А теперь четко, что я делаю: 1) говорю «до свидания» N и стараюсь забыть его; 2) стараюсь как можно меньше общаться с окружающими (особенно с мальчишками); 3) стараюсь побольше думать об окружающих и в первую очередь о маме. Я иду в другую школу, посмотрим, что со мною будет там».
Она очень надеялась на эту школу, собиралась взять там себя в руки, начать все заново, читать, заниматься, помогать Марине Львовне.
И тогда это у нее получилось.
«Неlen, здравствуй. В новой школе все нормально. Я занимаюсь добродетельно и не думаю ни о какой любви. Мне кажется, что я стала какой-то очень большой и сложной. Видимо, я становлюсь взрослой, хотя мне этого и не хочется. Почему? а) так хорошо быть маленькой; б) быть взрослой — очень большая ответственность. Но дороги назад нет. На днях заказала в публичке материалы по декабристам. Завтра пойду читать».
С N они стали просто хорошими старыми приятелями, а с футболистами — хорошими новыми приятелями.
«Неlen, привет. Давно тебе не писала. Было много дел. Но теперь реферат готов, и мне кажется, он получился. В классе все хорошо, и с мальчиками мне становится все интереснее. Особенно с X. Переглядываемся с ним на уроках. А с Z все время перешучиваемся. Мы теперь правительство, а класс республика, вот. Я пришла к выводу, что чем меньше человек думает о себе, тем больше он затянут в общество, и наоборот. Такой круговорот!»
Было так хорошо и вдруг опять!
«Неlen, что со мной происходит? С четверга не звонит X, и я никого, кроме него, не могу и не хочу видеть. Ну что я за ненормальный человек? Опять страдаю. И из-за чего? Противно. Все. Даю себе слово, что никого из мальчишек больше не буду подпускать к себе близко. Из таких дружб ничего хорошего не получается. Я слишком привязчивая личность! Вот в чем причина».
Да, все начиналось сначала.
«Со мной творятся плохие вещи: я умираю по X. Нет, в кого я опять превращаюсь? Я стала до ужаса неестественной и очень глупой. Надо с этим кончать. Завтра поговорю с X, и все».
Но завтра (теперь это уже было вчера) они так и не поговорили.
«Неlen, что делать? То, что X переживает, это точно. Боюсь, что из-за меня его не было на матче. Но почему мы друг друга совершенно не понимаем? Оба страдаем и мучаемся. А зачем этот заколдованный круг? Какой же X друг, если он не желает ничего объяснить? Ведь друг — это тот, кто хочет тебя понять, не оправдывать, но и не ревновать, а если надо, попытаться вместе разобраться в твоих и своих поступках. Ох, как пусто у меня сейчас на душе...»
Лена листала свои записи, планы объяснений, которые не получались. Неужели этой, начавшейся в шестом классе, путанице не будет конца? Она была в совершенной растерянности, все валилось из рук. Наконец за неделю до каникул на перемене к ней, одиноко сидевшей за своей партой (выходить в коридор просто не было сил), подошел Фюлюшков.
— Буду искать место на канале Грибоедова, где тебе топиться, — сказал он.
— Нет, я жить хочу!
— А я думал, пора.
Он снял очки, покрутил их в руках, надел снова.
— Если бы я, как ты, изводился, меня бы давно из команды выгнали.
— Не смог бы играть?
— Конечно. Нельзя терять форму. Ты же не какая-нибудь соседка Оля!
Громко разговаривая, в класс вошли Корженцов, Усачов и Ладейников.
— Игорь, а тренировка? Ты что, забыл?
— Иду.
Лена опять осталась одна, но теперь ей стало почему-то весело.
«Нет, Helen, нет! Я войду в форму, я буду заниматься физиками, химиями, историями, чтобы перестать думать об этом. В жизни необходима какая-то идея, главное, ради чего надо жить. Без главного мы существуем, тратим массу времени на пережевывание всякой чепухи (позвонит — не позвонит, молчит — а почему?) и в результате жутко глупеем. Стыдно!»
Написав это, она взяла все три тетради и закрыла их в ящике стола на ключ. Хватит охать — даже наедине с собой. Какое бы ни было у человека настроение, он должен обязательно трудиться. Лучше быть сухарем, чем вздыхающим бездельником! Скоро каникулы, а это самое время для работы, тем более что, занимаясь декабристами, она наткнулась на удивительную фигуру. Лена решила написать за лето большую работу о Мордвинове.
Родители, особенно мама, сначала отговаривали — перед десятым классом нужен отдых, но загнать ее на дачу им не удалось. Все каникулы Лена, как на работу, ходила в библиотеку Пушкинского дома и, оставаясь наедине с книгами и документами, чувствовала, как все мелкое, повседневное отлетает от нее дальше и дальше. Прошлой осенью, занимаясь декабристами, она чувствовала то же самое — полную свободу от всех личных передряг и счастье. Наверное, такое же, как Фюлюшков на поле.
Когда кончались переживания, всегда начиналось дело.
Правда, проходя мимо мостов, об устройстве которых рассказывал ей когда-то Плотников, или услышав из какого-нибудь открытого окна репортаж с футбольного матча (дома телевизора не было, в семье давно решили, что тратить на него вечера ни к чему), Лена на мгновение терялась — дерет душу! Но вот мост оставался позади, гул из окна исчезал — и все проходило. Так и надо. Она хочет заниматься наукой, а для науки нужны самостоятельные люди. Мужчины, между прочим, превосходят женщин в этом потому, что они гораздо меньше времени уделяют сердечным чувствам.
Человека спасают не охи и вздохи, а дело, работа, постоянная форма, как сказал бы Фюлюшков. Иначе станешь таким же нытиком, как Анна Петровна Керн в юные годы: «Я очень несчастная... Я нынче целый день плачу» (запись в ее дневнике от 14 июля 1820 года); «Бедная я! Не знаю, что со мной будет» (от 15 июля); «Слезы так и льются потоками из моих глаз» (от 16 июля).
Так уговаривала себя Лена, когда ей становилось грустно, а из открытого окна соседней квартиры доносился репортаж с футбольного матча.
Она должна стать таким же разносторонне образованным и деятельным человеком, каким был этот удивительный адмирал Мордвинов. Вот что значит серьезная личность — она остается близкой другим даже через много лет после смерти...
— Мордвинов меня тогда сильно поддержал, — сказала мне Лена.
— А мне показалось, что тебя поддержал Фюлюшков.
— Ну и Фюлюшков тоже. Он часто приглашал меня в кино. Но всегда не один, а с кем-нибудь из ребят.
— Не хотел навязываться?
— Не знаю. Может, он считал, что я...
Лена запнулась, ища слово.
— Не для него?
— Да, что-то в таком духе. Это был очень сложный период, но сейчас, мне кажется, он уже начал проходить.
— А что будет вслед за ним?
— Не знаю. Мне очень помогло чтение Чернышевского и книга о Марии Кюри, но все-таки я еще не нашла женщины, которая бы ответила на все мои вопросы.
— А может, этой женщиной должна стать ты сама?
— Может быть. Но какая я сама? Что мне надо в себе поддерживать, с чем бороться и вообще, на что я похожа?
— На мальчика. Ведь девочки обычно думают не о том, как избавиться от любви, а о том, любят ли их.
— Вот именно! — воскликнула Лена. — И я столько с ними об этом спорила...
Счастливые люди
Но что же больше всего привлекает
в этом неспокойном адмирале меня?
То же, что и его современников.
Богатство духовной жизни и стремление
посвятить себя служению обществу.
Из реферата Лены Ковалевой
— Мне хочется любить, любить и любить, — часто, кружась по классу, говорила Юлька Сотникова. — И чтобы меня любили крепко-крепко!
— А дальше? — спрашивала Лена, чувствуя, как в ней поднимается прежнее отроческое негодование.
— Что — дальше?
— Ну кроме любви.
— Выйти замуж, иметь детей. Я хочу, чтобы у меня было много детей, не меньше четырех.
— Продлить свой род, и все?
— А разве этого мало?
— Это скучно.
— Так ты что, совсем не собираешься выходить замуж? — недоумевала Юлька.
— Конечно. Я буду старой девой.
— И ты совершенно уверена, что ни в кого не влюбишься?
— Разумеется. Все свободное время я буду посвящать наукам и в таком же духе воспитаю дочерей.
— Но откуда же у тебя возьмутся дочери?
— Ну не дочерей, так племянниц, — невозмутимо уточняла Лена. — Я буду воспитывать племянниц.
Говорить всерьез уже не хотелось, но Юлька наступала :
— Главное твое назначение — это семья. Не забывай, что быть женой и матерью свойственно тебе от природы.
— А почему свойственно? Кто, когда и как это доказал?
— Сама себе докажешь.
Когда она доходила до этого места, спорить с ней становилось уже совершенно бесполезно: докажешь, почувствуешь, и все тут!
— Я буду любить своего мужа, воспитывать добрых детей, мальчиков, девочек, — кружась по классу, грезила Юлька наяву, и ее большое круглое лицо озарялось.
— Любовь — это, конечно, большое счастье, но семью надо строить, исходя из реальных возможностей, — отрезвляла Юльку Зина Канторович. — Я очень хочу иметь ребенка, однако сначала мне надо кончить институт.
Она собиралась стать филологом, свободно читала по-немецки Рильке и Ремарка и, подсчитывая мальчиков, которые ей ежедневно звонили, отнюдь не собиралась жертвовать ради них своей будущей карьерой.
— Юлька, очнись. Неужели ты хочешь стать такой же, как моя мама? — говорила Таня Акатова. У нее было трое младших братьев и сестер, и она вечно жаловалась, что с мамой ей скучно, та ни о чем, кроме хозяйства, не успевает думать.
Но большеротая Юлька кружилась по классу и продолжала грезить:
— У меня будут прекрасные дети, а я буду матерью этих детей. Я буду мать — понимаете?
В конце концов в классе ее так и прозвали Матерью, и Юльке это очень нравилось.
— Девочки, вспомните Наташу Ростову, когда она выбегает к Пьеру с пеленками. Высшее счастье на свете — это видеть, что ребенок здоров, и нет ничего ужаснее, когда умирают дети.
У Юльки не было отца, а ее старший брат умер.
Лену притягивала к себе доброта этой девочки, ее цельность и безоглядность, хотелось с нею подружиться, но не получалось.
— Зачем ты так свободно ведешь себя с Карповым? Он же мой! — говорила ей Юлька.
— Ну и возьми его себе.
— А почему ты не даешь?
И все. Точка. Тупик.
— Ты говоришь, как бороться с общением по принципу пола? — не понимала Лену и Марина Львовна. — А зачем же с этим бороться?
— Чтобы не утопать во второстепенном, не терять себя, — как обычно, шагая рядом со своей учительницей к остановке, формулировала Лена.
— Но разве можно не потерять себя, забыв о своем поле?
— По-моему, только так и можно.
— Девочка, милая, что с тобой? А Карпов? А Фюлюшков? А твои прежние истории? Это что — не по принципу пола?
— Карпов и Фюлюшков не по принципу, а на остальном я поставила точку.
— Эх, Ленка, Ленка, у тебя даже терминология какая-то мужская. Женщина без женственности — это какой-то диссонанс.
— Пусть, — продолжала упираться Лена. — Меня совершенно не волнует гармония, меня волнует суть.
Еще в девятом классе, когда они проходили роман «Что делать?», она отстаивала эту суть в споре с девочками.
— Раз его идеи даже спустя сто лет меня волнуют — значит, это вещь стоящая.
— Ты судишь о литературе, как о математике! — своим мелодичным, похожим на юркий колокольчик голосом замечала Зина Канторович.
— Правильно. Выбор цели, постановка задачи, логика доказательства, — загибая пальцы, подхватывала Ира Георгиева. — Но от литературы мы ведь ждем другого. Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташу Ростову... Образов, которых мы бы любили!
— Не знаю, — отвечала Лена. — Веру Павловну я, например, люблю. И обоих ее мужей тоже.
И вот тут на нее накидывалась Юлька:
— А зачем у Веры Павловны второй муж? По-моему, уж раз выбрала, то будь век верна, тем более такому доброму человеку, как Лопухов. А она? Да она и о Кирсанове не очень-то заботится. Большую часть времени отдает не семье, а мастерским. Почему у Веры Павловны нет детей? Ты об этом думала?
— Думала. Она так хотела учиться и жить сознательной жизнью, что ей...
— А зачем учеба, сознательная жизнь, — перебивала Юлька, — если не будет детей и некому передать все это?
И так далее...
— Естественно, ты ужасная рационалистка! — говорила Лене Марина Львовна. — Но я согласна с тобой, это необычная книга. Я ее тоже люблю.
Она веером раскладывала лежавшие на столе тетради с сочинениями о четвертом сне Веры Павловны.
— И давать ее вам на уроках надо, пожалуй, несколько иначе. Больше говорить о том, что писал Чернышевский о любви и семье, тут многое требует тщательного анализа.
И теперь, в десятом классе, Лена взялась за такой анализ. Это было необходимо, чтобы не потерять форму.
«Во-первых, — писала она в дневнике, — историю для «Что делать?» Чернышевский во многом взял из жизни. Прототип Веры Павловны, врач-окулист Мария Александровна Сеченова, — серьезная женщина с высшими интересами, для которой обыденность являлась «вздором». Как и Вера Павловна, она хотела учиться, вышла замуж за своего учителя, студента-медика Бокова, а потом полюбила другого — физиолога Сеченова. Уйдя к нему, она не потеряла дружбы первого мужа и не утонула в быту и своих чувствах, а защитила докторскую диссертацию, кроме чистой медицины, трудилась в области естествознания и в особенности зоологии, занималась общественной деятельностью. Сеченова была, наверное, очень счастлива, как, кстати, и оба ее мужа, первый из которых тоже нашел вторую любовь. Но таких удачных опытов было тогда, оказывается, немного...»
Страдая от того, что женщина неравноправна, некоторые из самых последовательных мужчин-шестидесятников строили свою семейную жизнь не на началах равенства, а так, чтобы жена стояла выше мужа. Они сознательно перегибали палку в другую сторону. Им казалось, что женщины будут использовать данный им перевес совсем не для того, чтобы просто жить в свое удовольствие, а на деле часто получалось, что именно для этого. Сколько было разочарований, какие горькие драмы! Давая своей избраннице преимущества перед собой, опекая и ублажая ее, а не споря с нею, не борясь за нее с ней самой, мужчина обрекал на неравенство и себя и ее.
«Вот почему, — писала Лена, — меня всегда раздражали разговоры о возвышенной роли женщин. Я чувствовала, что не хочу никаких преимуществ, потому что «выше», как и «ниже», не дает мне самого главного — жить так, чтобы за все на свете я отвечала наравне с мужчинами. Мне неинтересно быть «выше».
Перечитав написанное, она улыбнулась. Как гладко! И никакого намека на юмор, все очень серьезно. Что сказал бы Фюлюшков, если бы узнал, чем она занимается сейчас по ночам? А Карпов? А другие мальчишки?
Бедная Ковалева, до чего она опять дошла? До зари писать трактат о семейной жизни! Из всех футболистов один Хареев не отказывался от того, что у него будут жена и дети. Остальные дружно утверждали, что будут холостяками. Правда, однажды Карпов ни с того ни с сего сказал Лене:
— Выходи за меня замуж.
— Сейчас, побежала, — парировала она.
— Да не сейчас, а лет через восемнадцать. Я до тридцати пяти буду жить один.
— А если я тебя не дождусь?
— Не страшно. Я тебя и с дитем возьму.
— А Юльке ты свою руку еще не предлагал?
— Нет. Я боюсь, что она сейчас же согласится.
Вот и все. Никаких других разговоров о будущей семейной жизни она от мальчиков не слышала. В кино с девочками ходили, на лавочках сидели, а об этом не задумывались. Счастливые люди!
Но как стать такой же спокойной и уверенной?
— Никогда не жертвуй ради мелочей жизни своими увлечениями, — с детства твердил ей папа. Он, как и футболисты, считал, что это легко.
Увлекшись биополями, папа недавно достал о них «потрясающее исследование» и принес его маме.
— Дружочек, это надо читать с карандашиком.
Полистав минут пятнадцать, она села довязывать свитер.
Папа обиделся:
— У тебя ведь прекрасная голова!
Мама промолчала.
— Прекрасная, но не свободная от быта, — с грустью отвечала теперь за нее себе Лена.
Как просто было со всем этим у Марии и Пьера Кюри! Выйдя замуж, она поселилась с ним в трех маленьких комнатках, где старалась не заводить ни одного лишнего стула, потому что рассматривала их лишь как предмет для вытирания пыли. Лена с наслаждением представляла себе кабинет с голыми стенами, книжным шкафом, столом из простых досок. У одного конца стола стоял стул для Марии, у другого — для Пьера. На столе были книги по физике, керосиновая лампа и букет цветов. Ничего больше.
— Вот мой идеал. Как умно, свободно и красиво они жили! — говорила она Марине Львовне.
— Да. Но, мне помнится, твоя Кюри каждый день готовила для своего Пьера обед.
— Я думала об этом. По-моему, она его просто жалела, видела, что он не приспособлен, не научен. Родителей его, наверное, не хотела огорчать. Ведь это же был девятнадцатый век.
— А теперь двадцатый, и мы опять кого-то жалеем, кого-то не хотим огорчать, понимаешь? Так будет всегда.
— А все-таки в целом у них было равенство. Общие интересы в науке, одинаковая занятость делом, — утверждала Лена.
— И детям нужен уют, и лишние стулья нужны, — продолжала свое Марина Львовна.
— Но ведь дочери у Кюри выросли замечательные. Одна, как и мать, лауреат Нобелевской премии, другая — журналистка.
— Да я, Леночка, не о Кюри, я о нас. Кюри — это все-таки девятнадцатый век, и у ее дочерей были няни. А вот ты и Настенька — благодаря кому вы всегда хорошо одеты и вообще, как говорится, ухоженные дети?
— Лучше быть неухоженной! Когда я думаю, сколько еще могла бы сделать мама в своей профессии!..
— Во-первых, — останавливала ее Марина Львовна, — для женщины твоя мама и так очень много делает — быть хорошим врачом, главным методистом...
— Вот видите, вы говорите: для женщины!
Она начинала свой спор сначала...
— И так весь десятый класс, — говорила мне Лена. — Я хотела стать такой, как Мордвинов, Кюри, футболисты, а в результате без конца со всеми спорила.
— Да, теперь я понимаю, почему Фюлюшков просил у тебя книжку о Кюри, — сказала я. — Он продолжает тебя издали опекать.
— Возможно. Но, между прочим, у него есть теперь девочка, — сказала Лена. — А я для футболистов всегда буду только другом. Ну и пусть!
Было уже поздно, и я предложила поставить на сегодня точку и идти спать.
— Давайте. Самое прекрасное занятие на свете — это сон, — сказала Лена. — Но у меня еще уборка, для мамы. Боюсь, что утром, до прихода поезда, я не успею, и у нее испортится настроение.
Она стала быстро складывать в стопку лежавшие на столе тетради. Я вспомнила вчерашний вечер, когда Лена, тоже после всех наших разговоров, собиралась заняться бельем.
— А о чем конкретно ты хотела поговорить с великой женщиной?
— Обо всем. — Лена раскрыла одну из своих тетрадей. — Посмотрите, как Мария Кюри решала проблему чувств. «Обманчиво ставить весь интерес к жизни в зависимость от таких бурных чувств, как любовь». А в то же время она всегда защищала личное дерзание и предприимчивость — сильные чувства, которые всегда и управляли ею в жизни. «Если я вижу в окружающем меня нечто жизненное, то это как раз дух смелой предприимчивости, по-видимому, неискоренимый и родственный любознательности». Правда, интересно?
Это она выписала к вопросу о том, какую роль играют в жизни страсти.
Мы попрощались — до завтра.
Цветы Мордвинову
Заканчивая воспоминания об отце,
дочь Мордвинова Надежда Николаевна
призывала всех русских людей
гордиться тем, что он наш соотечественник.
Сначала мне показалось, что это слишком,
но теперь, заканчивая работу о нем,
уже зная его «особые мнения» и отношение
к нему декабристов, я присоединяюсь
к словам Надежды Николаевны:
«Да возгордится каждый русский, что он
был его соотечественником, и да будет
он примером всему своему потомству —
внукам и правнукам».
Из реферата Лены Ковалевой
На другой день я встретилась с Леной у Марины в небольшой квартире-распашонке (комната, прихожая, кухня — все смежное) на последнем этаже стандартного пятиэтажного дома. Поглядывая в сторону плиты, где кипятилось молоко для манной каши, Марина проверяла тетради, а Лена присматривала за Котофеем. Теперь это был хрупкий светловолосый мальчик двух с половиной лет, который ездил из комнаты в кухню на велосипеде и громко дудел.
— Котя, остановись. Сейчас тетя Лена почитает тебе «Три поросенка», — сняв молоко, просила его Марина.
Она нервничала, то и дело отворачивалась к окну.
— Мне бы только завтрашний день протянуть. Ужасно не люблю все эти торжественные расставания.
Потом бросила последнюю тетрадь в стопку и встала.
— Ленка, слушай, у меня возникла идея. Надо укоротить мое вечернее платье, с розами. Длинное для последнего звонка не годится.
Стремительно пройдя в комнату, Марина достала из шкафа платье, приложила его к себе, отметила, насколько отрезать, и полезла в ящик за шкатулкой с ножницами и нитками.
— Марина Львовна, а помните, как вы стригли мне в седьмом классе косы? — спросила Лена.
— Не косы, а крысиные хвосты. Ну режь, не бойся, — протянула она Лене ножницы. Я невольно зажмурилась...
И вот он наступил, день, ради которого это делалось. С утра жаркий, с бледно-голубым, в дымке, небом, с теплой пылью на улицах — первый по-настоящему летний день в этом году. По расписанию у десятиклассников были еще уроки, но учиться в этот день никто, конечно, не мог. В химическом кабинете из расставленных на подоконниках колб, реторт и других лабораторных сосудов торчали алые головки маков и желтые венчики нарциссов, из открытых окон лился горячий, наполненный городским гулом воздух. Людмила Ивановна, девочки, футболисты — все бегали, толкались, без умолку говорили.
— В первом классе я была такая скромная!
— А галстуки обязательно или желательно?
— Мальчики, поймите же наконец, приветствие вы должны не орать, а петь!
— Юлька, где ты достала такой детсадовский бантик?
— Дети, тихо!
— Но я тоже хочу бантик! |
— А кто будет надувать шарики?
— Юлька, займись своим бантиком!
Я тихо вышла. Постороннему человеку трудно найти себе место, когда все готовятся к празднику.
— Зайдем ко мне? — поняла это увидевшая меня в коридоре Ирина Васильевна. За девять лет, которые прошли с нашей первой встречи, она пополнела, но голос и походка оставались по-прежнему легкими. Мы задернули от солнца занавески и стали вспоминать прошлое, а потом разговор перешел на Ковалеву и на ее поиски великой женщины.
— Я человек совсем другого поколения, — сказала Ирина Васильевна. — Я жила идеалами женщин Толстого. Но, вы знаете, позиция Лены — это позиция моей мамы, человека двадцатых годов. Она мне часто говорит: «Ты же директор школы! Что важнее — натереть пол или сесть почитать?»
— И Чернышевского она тоже, наверное, любит? — сказала я.
— Да, конечно!
В кабинет зашел учитель истории Борис Яковлевич.
— Ирина Васильевна, без сил? Я тоже, — опустившись на стул, он стал обмахивать лицо тетрадью.
Я вернулась в химический кабинет. Девочки оттуда теперь куда-то убежали, остались одни мальчики.
— Есть такое мнение, — сказала я, — что все футболисты этой школы влюблены в одну девочку. Кто бы это мог быть?
— Мы влюблены?!
— Чепуха!
— Понятия не имею.
— Это явный полив!
— Мы свободные люди.
— Хорошо, — сказала я. — Вопрос снимается. Скажите, а какой каждый из вас хотел бы видеть свою жену?
— Кого-кого? — переспросил Фюлюшков. Глаза за стеклами очков поблескивали; казалось, сейчас он скажет мне: «С праздничком вас!»
— Я понимаю, что сейчас никто из вас жениться не собирается. Но давайте посмотрим лет на пятнадцать вперед.
Они долго мялись.
— Она футбол должна любить. Не считать спортсменов дураками, — первым пробасил Хареев, тот самый, у которого было прозвище Килограмм.
— О жизни должна думать, а не только насчет магазинов, — сказал вызывающе рыжий, действительно как солнышко, Карпов.
— Мы с отцом и без них суп варить умеем, — согласился Фюлюшков.
— Рефераты пусть какие-нибудь сочиняет. В общем, что-то такое, — опять пробасил Хареев. — Не так, чтобы стаж для пенсии. С такими скучно.
Святая Троица — Корженцов, Усачов и Ладейников — усиленно закивали головами.
— Пусть дает ценные указания, но только не задается. Девчонки в целом это любят: мы такие особенные, возвышенные, а вы грубая сила, — продолжал Карпов.
— Рубить во всем должна: в истории, в науке, в искусстве, — разошелся Фюлюшков.
— И самое главное — у нее обязательно должен быть сильный характер, — поставил точку Плотников. Он и правда чем-то напоминал большого самостоятельного утенка со вздернутым носом.
— Ну, все понятно. Можно возвращаться к Ковалевой, — решила я.
— А что понятно? — заморгал Хареев.
— С праздничком тебя! С последним звонком, — сказал Фюлюшков.
В кабинет вбежали сразу все девочки. Их было совсем немного. Формула десятого «Б», как любили они говорить Людмиле Ивановне, выглядит так: Д9М21, то есть девочек девять, мальчиков двадцать один.
Я подошла к Юльке, и мы быстро разговорились. Это была большеротая девочка с круглым лицом и по-юношески скачущим со звонких нот на шепот голосом.
— У нас с ней дружба не сложилась, — говорила она о Лене. — Я много обижалась на нее из-за одного человека. Мне он был очень нужен, а ей, по-моему, не очень. Но сейчас я все-таки больше всего не хочу расставаться с нею. Даже как-то странно — любить свою соперницу. Правда?
— Раз ты так открыто об этом рассказываешь, мне не странно, — сказала я.
— Вы знаете, как мы спорили о Чернышевском? Она всю его биографию перевернула, чтобы доказать свое.
— Ну и доказала?
— Мне нет. Я за детей болею. Мне их жалко. Но есть люди, которые говорят интересно, а их быстро забываешь. А ее нет.
Юлька вздохнула.
— Сегодня такой день странный.
— День открытых чувств, — сказала я, и мне вдруг вспомнилась другая школа и другой странный день. Он был семнадцать лет назад, когда эти ребята только появились на свет, в школе, которая высилась среди приземистых переулков старой Москвы. За исключением деталей, у нас все было так же.
Из репродуктора зазвучала музыка — здесь это был тревожный вальс Хачатуряна из «Маскарада», и они пошли: цепочка больших длинноногих девочек и длинноволосых ребят с шариками в руках. Вверх по лестнице мимо машущих им детей в матросках — к первоклассникам, а оттуда, взяв за руки длинношеих, наутюженных малышей, через всю школу, с этажа на этаж — вниз, в зал.
Там перед ними выступала Ирина Васильевна:
— ...В этой школе мы старались учить добру, знаниям, любви к труду и теперь очень надеемся на вас, наши дорогие, милые выпускники. Мы хотим, чтобы вы стали лучше, смелее, мудрее нас, и верим, что наши надежды оправдаются.
Людмила Ивановна:
— ...Мальчишки, помните, что мы всегда будем болеть за вас!
Марина Львовна:
— ...Вы уходите, а мы должны начинать сначала. Здравствуйте, дети! Вы знаете, что такое литература? Ужасно грустно! Я люблю вас, мои девочки и мальчики, и желаю каждому хорошо сдать главный экзамен в жизни: на достоинство и человечность. Самого хорошего вам, ни пуха ни пера — идите к черту!
Дети читали стихи, одна шестиклассница — собственного сочинения, от родителей держал слово взволнованный Венедикт Григорьевич Ковалев. В этот день я впервые увидела его в военном.
— ...Я завидую вам, ребята, что у вас была такая школа. Но теперь из ее маленького мира вам придется вступить в более сложный, взрослый мир. Постарайтесь оставаться в нем самостоятельными личностями. Людьми, которые умеют и, главное, хотят думать. Помогите нам, старшим, справиться с нашими общими проблемами.
Потом они пели учителям свои куплеты. Людмиле Ивановне Плотников преподнес пятнистый футбольный мяч с автографами, Марине Львовне, опустившись на одно колено, Усачов читал из Пушкина:
— Я вас любил: любовь еще, быть может...
— Ну, будет, будет, а то разревусь, — отвернулась она, худая, растерянная, в черном платье с розами.
Девочки всхлипывали, футболисты смотрели под ноги.
— Простите нас за то, что мы выросли! — звенящим голосом воскликнула Юлька.
Самый высокий из футболистов поднял на плечи маленькую, чуть испуганную первоклассницу, и она, осторожно размахивая большим медным колокольчиком, зазвонила.
Динь... Динь... Динь...
Раздавая цветы и шарики, десятиклассники медленно вышли из зала, а на их место под широким панно, изображающим Неву и контур Петропавловской крепости, встали девятиклассники.
— Вот и все. Теперь вы наш десятый «А» и десятый «Б», — совсем другим, будничным тоном сказала Ирина Васильевна.
Я вышла в вестибюль и увидела там Лену. Она стояла одна, в стороне от ребят, и, как футболисты, смотрела себе под ноги. Невысокая фигурка в белом, обшитом кружевным шитьем фартуке.
Утром она позвонила мне в гостиницу. В трубке что-то щелкало, голос у Лены был тихий — устала, вчера до двух часов ночи гуляли по городу. Было не бурно, но хорошо. Гуляли по площадям и набережным, ездили на трамвае в Петропавловскую крепость, где в двенадцать часов била пушка. Мальчишки купались, а девочки бегали босиком. Асфальт был теплый, а песок на берегу Невы холодный, и она — такая огромная, суровая ночью.
Мы условились сходить на кладбище, к Мордвинову.
— Я с зимы не была, — сказала Лена. — То цветов в магазине не было, то некрополь закрыт.
Мы купили три снежно-белых и один красный тюльпан и положили их на посеревшие от времени ступени памятника, на котором был высечен профиль адмирала.
— Он что, ваш предок? — заинтересовалась стоявшая у соседней могилы девушка. Она переписывала в блокнот надпись.
— Нет. Но он голосовал против казни декабристов, — сказала Лена.
Кроме нас и этой девушки, людей вокруг не было. В этой части некрополя, за исключением могилы Ломоносова да еще Н. Н. Ланской (рядом стояла табличка: «Жена Пушкина»), имен, известных широкой публике, нет. Просто графы, тайные советники, чьи-то любезные отцы, глубокочтимые жены.
— «Всевышний создатель не сотворил меня равнодушным к общественному благу и всякое побуждение к личным выгодам исторг из мысли и сердца моего», — тихо сказала Лена.
— Это слова Мордвинова?
— Да. Он считал, что Россия одарена огромным богатством, раскинутым и по пространственному лицу ее, и в недрах, и в распростертых над ней небесах, готовых угождать благоденствию.
День открытых чувств и небудничных разговоров продолжался.
— Николай Семенович хотел освободить крестьян, хотел открыть по всей стране библиотеки, сократить срок службы в армии и уменьшить военные расходы. Поначалу это можно было сделать, по его расчетам, на сорок миллионов. По тем временам это была огромная сумма.
— Мне кажется, ты сожалеешь, что он не вышел четырнадцатого декабря на площадь, — сказала я.
— Трудно сказать. Он был тогда уже старик, семьдесят один год, а декабристам в среднем тридцать. Разные силы, разный опыт.
Наклонившись, Лена поправила лежавшие на ступеньках цветы.
— Но о тайном обществе он знал. Есть свидетельства декабристов. А совсем недавно я нашла в одной книге, что накануне он сказал своим молодым друзьям прямо: выведем роты на Петровскую площадь и там принудим Сенат утвердить давно уже составленную конституцию. Не случайно Рылеев говорил: «Главное — удалить всех подобных Аракчееву, а на их место поставить Мордвинова».
За чугунной решеткой кладбища просвечивала искрившаяся на солнце Нева. День стоял такой же, как и вчера, ясный, но тепла не было, дул северный ветер.
Лена еще раз поправила цветы, и мы направились к выходу:
— Вчера я впервые почувствовала, как что-то уходит во мне безвозвратно, — сказала она.
— Ты еще много раз будешь это чувствовать.
— Наверное. Но в этом белом фартуке я почему-то казалась себе такой маленькой и беспомощной. — Она остановилась у большого тяжеловесного памятника. — Генерал-майорша Екатерина Васильевна Стрекалова. Как будто это ее заслуга — быть женой генерал-майора!
Мы улыбнулись.
— А женой Пушкина ты бы хотела быть? — кивнула я на памятник Н. Н. Ланской.
— Не знаю. Но мне бы не хотелось, чтобы потом люди ходили смотреть на меня, как на жену. Тут ее не сразу все находят. Табличка маленькая, а фамилию второго мужа мало кто знает.
Постояв возле черной мраморной плиты, мы пошли дальше.
— Кстати, куда ты будешь поступать? На исторический?
— Нет. Наверное, в медицинский.
— Так хочет мама?
— Мама очень хочет, но я не потому. Я сама хочу. Я очень люблю историю, но... Меня интересуют не только социальные, но и биологические возможности личности. Почему даже в одинаковой ситуации люди сходных убеждений ведут себя по-разному? Как управлять собой, чтобы всегда поступать по совести, не уходить в пустяки? Может быть, и медицина может помочь этому?
— Кто его знает. Попробуй.
Ветер за воротами кладбища усилился. С мостовой на нас летела колючая пыль.
— Но раз тебе хочется лечить страдания души, ты будешь психиатром? — спросила я.
— Или психологом, если получится. Я бы хотела быть детским психологом. Все ведь начинается в детстве.
Мне вспомнилась Юлька.
— Но я еще ничего окончательно не решила, — продолжала Лена. — Я боюсь с головой уйти во все эти химии, анатомии и потерять за ними человека в целом. У меня все вопросы сейчас открытые.
Мы шли по мосту, рядом гремел трамвай, ревели панелевозы. Внизу к заливу катилась покрытая мелкими белыми барашками Нева, над ней расстилалось пронзительно-синее небо.
— Когда я бываю здесь, у меня появляется такое чувство... — Лена облокотилась на перила. — Хочется сказать спасибо за то, что все они были.
— И потому ты носишь цветы?
Она кивнула.
— Но если бы не футболисты, я бы относилась и к Мордвинову, и к другим нашим предкам с бóльшим пиететом и, наверное, с меньшим пониманием. — Она помолчала. — Впрочем, я и сейчас так мало понимаю, надо учиться дальше.
* * *
Пока я писала эту повесть, Лена Ковалева поступила в медицинский и закончила первый курс. Время летит быстро. Она по-прежнему бывает иногда у Мордвинова, но, кроме того, носит теперь цветы еще одному человеку — Георгию Валентиновичу Плеханову. Всерьез занявшись марксизмом, она поразилась, как смело и точно Плеханов применял его к анализу сложнейшей русской действительности. Мальчики — теперь это были уже не футболисты, а будущие педиатры — пожимали плечами: Плеханов и медицина все-таки очень далекие вещи, но действовали, как футболисты. Они выдвинули Лену в институтский комитет комсомола, где ей, первокурснице, поручили отвечать за подготовку и разбор персональных дел. На этом месте должен быть именно такой, как она, самостоятельный, всегда занятый не собой, а интересами истины, человек, считают они.
Теперь, прощаясь с Леной-школьницей, я опять листаю ее уже начинающие желтеть работы о декабристах и Мордвинове — бумага меняет цвет очень быстро, — и открываю новую, полную свежеотпечатанных на машинке листков папку. Это реферат студентки Ленинградского педиатрического института Елены Ковалевой о Плеханове.
«Что делает человека борцом? Почему люди становятся революционерами? Что заставляет их идти этим тернистым путем? Плеханов как-то сказал, что революционер должен уметь плыть против течения. Он не боялся разлада «с публикой», с «передовыми людьми», если этого требовали интересы объективной истины, — пишет она в самом начале. — Мне захотелось разобраться и понять, как и почему вождь народников Плеханов пришел к марксизму и стал основателем и руководителем первой русской марксистской организации — группы «Освобождение труда»...»
Так закончилась повесть о девочке и футболистах. Когда она была напечатана, Лена стала получать много писем. Людей интересовало, какие проблемы волнуют Елену Ковалеву теперь. И Лена сама написала об этом в журнале «Юность».
Сначала проблемы были почти такими же, как и в школе, рассказывала она, но постепенно занятия медициной стали отнимать так много сил, что на историю и философию уже почти не оставалось времени. Надо было либо бросать институт и поступать на истфак университета, либо откладывать новую, еще не законченную работу о Плеханове, которой занялась на втором курсе. Но вот весной мама посоветовала Лене поработать после занятий в детском отделении больницы. Там требовалась санитарка, чтобы купать детей.
«До деталей помню свой первый рабочий день, — писала она. — В институте мы обсудили механизм действия психотропных веществ, потом на философском семинаре решали вопрос о сущности сознания, а когда спор о влиянии бытия на сознание утих, я пришла в клинику. Сестра-хозяйка показала мне мои апартаменты — комнатку с ванной и кушеткой, выдала десять комплектов постельного белья, одежду для детей, мыло и мочалки и ушла. А я открыла дверь в палату, и на меня устремилось десять пар недоверчивых глаз». Поздно вечером, вернувшись домой, Лена достала книгу о Плеханове, но прочла только две страницы. Хотелось спать. Всю ночь ей снилась ванная, в которой она «одного за другим, до бесконечности купала и купала детей».
Через некоторое время Лена обнаружила, что все ее немедицинские увлечения как-то сами собой стали отходить на второй план. Она начала бывать на заседаниях студенческого научного общества и занималась уже не просто патанатомией или патофизиологией, но и тем, как приложить их к лечению лежавших в ее отделении детей. Она не могла забыть Наташу Синицыну, уже большую девочку, у которой была тяжелая форма системной красной волчанки. Ее интенсивно, но безрезультатно лечили. «Вот попробуют еще одно лекарство. Если не поможет, то все. Больше лечить нечем», — делилась в ванной Наташа. «Видя такое, я понимала, что самое большое счастье — смотреть на солнышко и чистое небо, знать, что все в моей семье здоровы. Идеи Мордвинова, декабристов, Плеханова казались мне теперь очень далекими и даже немного странными. Какая может быть философия, если умирают дети? Было тяжко, но я старалась взять себя в руки. Раз выбрала эту ношу, надо нести ее до конца. От настроения врача тоже многое зависит».
Лена с отличием закончила институт, поступила в ординатуру, вышла замуж. Ее муж, Володя, тоже врач, военный хирург. Теперь они живут в небольшом северном городке, у них есть маленькая дочь Катя. «Моя жизнь сейчас вся в Кате, — пишет она мне. — Пытаюсь в свободные минуты читать. Володя очень много работает, практически его не видим. Очень тоскую по Ленинграду, мечтаю выбраться к вам в Москву. А наш городок с каждым днем выглядит все менее приглядно, волосы встают дыбом от местного самоуправства...»
Дальше, подшучивая над собой, Лена сообщала, что превращается в «профессиональную жену», но одновременно рассказывала о своем новом замысле — ей хочется написать исследование о влиянии бюрократии на медицину, и признавалась, что если бы заканчивала школу сейчас, наверное, не смогла бы уйти от общественных наук в биологию. Вдалеке от столиц, вдвоем с новорожденной Катей и однообразным, приземляющим бытом, становится особенно видно, как нужны людям демократические преобразования.
Не так давно я была у Лены и Володи в гостях и показала им книжку о девочке и футболистах, изданную в Пекине.
Рассматривая покрытые иероглифами страницы, мы безуспешно пытались понять, какой из них обозначает «адмирал», а какой «Мордвинов». Лена радовалась, что теперь о нем знают и в Китае, а мне было весело смотреть на обложку, где по-русски широкоглазая, но все равно неуловимо похожая на китаянку девочка с остро отточенным карандашом в руке нарисована рядом со своим угрюмым и усатым адмиралом. Значит, и в Китае они тоже нужны — и наш несогласный с казнью декабристов адмирал, и девочка, которая организовала в своем классе демократическую республику...
| N | 00:40 13.11.2018 |
| Огромное спасибо! | |
| Avtorsha | 21:39 13.11.2018 |
| 😊 | |
| Э. В. | 22:56 03.01.2023 |
| Мне очень понравилось. Почему-то начала читать и не могла остановиться, прочитала до конца. Я тоже увлекалась декабристами в школе. Спасибо за историю. | |
| Avtorsha | 22:39 28.03.2023 |
| Э.В., большое спасибо за комментарий! Очень рада, что данное произведение многим нравится. Оно очень положительное, жаль, что в наше время не встретишь таких героинь. И между строк читается, к сожалению, печальная участь девушек тех времен - весь быт на них. | |
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





