ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
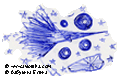


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
Это новая
история про Адама и Еву. Впрочем, что и
оговариваться: она всякий раз новая,
сколько бы ни повторялась, оставаясь в
главном все той же. Она прежняя в поворотах
сюжета своего, в своем течении. Зато в
остальном: в красках, одеждах, деталях
и стиле — конечно же отличается от
каждой предыдущей, соседней и последующей,
тем-то и нова.
Как и в той, самой
первой, Адам и Ева уже были мужем и женой,
но как и те, первые, пока еще не знали,
что это такое. И дело было вовсе не в
том, что Ева жила вместе с бабушкой, в
одной с ней комнате, а Адам в студенческом
общежитии. Хотя, кто знает, как бы все
сложилось при несколько иных условиях,
известно же: чуть только измени условия,
и герои начинают себя вести совсем и
совсем иначе!
Но все же дело не в
бабушке, не в общежитии и даже не в Адаме,
а, как водится, в самой Еве...
Однако
лучше рассказать, как все случилось.
Так вот... Однажды сидят Адам с Евой
за столом и готовятся к экзаменам по
философии. Читают великолепную —
остроумнейшую, изящнейшую и насмешливейшую
— книгу: критические заметки об одной
реакционной философии. Они читают вслух
по очереди: то Адам, то Ева. По ходу дела
восхищаются остроумием автора, стройностью
его логики, неотразимостью доказательств
и немного собой, тем, что им все понятно,
а раньше они слышали, будто книга
невозможно сложна.
Но все было
понятно им до поры, пока Адаму не пришло
в голову взять тихонечко руку Евы,
праздно лежащую на столе рядом с книгой.
Шла очередь Евиного чтения, вот Адам и
отвлекся. Он взял и накрыл осторожно
тихо лежащую руку Евы своей. И подождал
немного. Рука не ускользнула. И даже
напротив: слегка дрогнули пальцы, будто
поздоровались, будто сказали: привет!
И Адам забрал эту руку со стола, и
опустились обе руки, одна в одной, вниз,
на колено к нему. Отпустила Ева свою
правую руку погостить в теплой и бережной
Адамовой руке. А страницы книги она
теперь перелистывала левой, это было
не очень сподручно, но возможно. Чтение
продолжалось. Только вначале дрогнул
голос Евы. А может, и совсем изменился.
Но ведь они больше не слышали ее голоса.
И смысла длинных, сложных и прекрасных
фраз, конечно, тоже больше не понимали.
Поэтому можно считать настоящим чудом,
что обоим удалось сдать философию на
отлично. И за ответ именно по этой книге
особенно похвалил Еву преподаватель.
Значит, что-то во всем этом было... такое...
как бы даже сверхъестественное, если
так позволительно назвать те вполне
материальные силы и законы человеческой
психики, которые просто пока еще не
познаны нами.
Итак, Ева продолжала
читать, не слыша своего голоса и ничего
не понимая из прочитанного. Но нельзя
было прерывать чтения, чтобы не помешать
рукам исследовать друг друга. Это было
так важно и так страшно, что нельзя было
даже вида подать, будто кто-то что-то
заметил, будто что-то происходит. Ибо
все, что было Адамом, и все, что было
Евой, переселилось в кончики пальцев
их рук — правой Евы и левой Адама, упавших
на его колено. Пальцы сплетались и
расплетались осторожно, медленно, чутко,
они боялись пролить, стряхнуть и малую
каплю сладостного меда, что закипал и
переливался в каждом невидимом нервном
волоконце, в каждом тончайшем капилляре
кожи, мышц и, кажется, самих костей их
рук.
Косточки пальцев словно бы
мозжило, они плавились, таяли, и сами
руки и пальцы как бы исчезли, осталось
одно длящееся прикосновение, которое
исчезнувшие, истаявшие пальцы поддерживали,
возобновляли, сплетаясь и расплетаясь...
И было совершенно очевидно в эти
мгновения, протяженные словно вечность,
что наше тело только орудие, только
инструмент, которым душа познает саму
себя и весь мир. Но Ева, хотя и учила
диалектический и исторический материализм,
хоть и чувствовала, как вся она уже
перетекла, переселилась в свою правую
руку, живущую в руке Адама, все же, как
всякая женщина, оставалась в понятиях
своих несколько метафизичной: она
считала, например, что часть меньше
целого. То есть, переживая с такой
оглушающей силой встречу всего лишь
одной своей руки с рукой Адама, она
подозревала, что супружеское сближение
может их обоих — ее-то наверняка —
испепелить, уничтожить, или, в лучшем
случае, изменить так, что и весь мир
станет совсем другим. Каким, она не могла
бы сказать даже в общих словах: лучше
или хуже. Достаточно и того, что другим.
С той поры — со времени изучения
философии — прошел целый семестр, и за
это время Адам и Ева далеко продвинулись
вперед, то есть обнимались и целовались
до испепеления, но Ева все больше
убеждалась: им с Адамом нужно уехать
куда-то очень далеко от их города, от
всех людей, которые их знали. Нужно
увезти его в иную сторону, и только там,
в этой иной стороне, и самой стать иной
— стать настоящей женой Адаму.
Об
этом не говорилось или почти не говорилось.
На безмолвно кричащее «почему?!» Адама
она только шепнула однажды: «Мы уедем.
Мы далеко уедем». И он понял.
Но
все-таки еще здесь, в городе, им пришлось
зарегистрироваться в загсе. Чтобы их
распределили на работу вместе.
Распределение прошло гладко, никто
ни о чем не догадался, кроме комиссии,
конечно, которой пришлось предъявить
брачное удостоверение.
Зато
натерпелись они страху, когда ходили в
загс. Они пробирались туда по разным
переулкам. Уж об этом договорились без
спору: загс располагался на одной улице
со студенческой столовой, так что свои
ребята попадались то и дело.
— Еще
будут спрашивать: «Ой, вы поженились?!»
— пугала Ева Адама и развивала свою
любимую мысль: — То были, как все,
студенты, а тут вдруг муж и жена! И для
чего эта регистрация придумана!
Роль
рокового яблока, сблизившего супругов,
в нашей истории сыграла ссора. Поссорились
так, что, казалось, невозможно помириться.
Ясно же, что при их отношениях это должно
было случиться рано или поздно.
Однажды
прекрасным майским днем, в воскресенье,
Адам пришел к Еве. Бабушки дома не было,
и Адам нежно обнял свою (абсолютно свою,
даже по закону свою!) Еву. Ее нежная спина
гибким тростником прогнулась под его
руками. Ева глубоко вздохнула и прижалась
щекой к его щеке. Но вот Адам почувствовал,
как тростник в его объятиях уподобляется
стальному стержню, жестко выпрямляясь.
— Адам,— шепнула Ева,— я ждала
тебя, чтобы сказать: мне нужно уходить.
Радде плохо, она зовет меня.
— Почему
ты сейчас об этом?
— Потому что вчера
не успела додуматься. Ты же перед самым
уходом поздно вспомнил, о чем просила
тебя Радда.
Адам угрюмо молчал.
—
Ну, Адам! — дотронулась до его руки Ева.—
Когда ты вчера ушел, я сразу поняла, как
ужасно, что я за была о Радде.
Она
говорила о своей подруге. Подруге не по
названию или времяпровождению, а по
сути. Но этой весной, занятая Адамом,
Ева давно не была с Раддой, как, бывало,
раньше: спокойно, не торопясь, без оглядки
на время... Видеть мир глазами друг друга,
радоваться, спорить, подтрунивать друг
над другом... А теперь Ева инстинктивно
сторонилась подруги: ведь то, что с ней
происходило, невозможно рассказать
даже Радде. Новый мир еще только творился,
он был, и его еще не было. И с ужасом Ева
понимала, что Радда, ее Радда, становится
посторонней...
Вчера ночью после ухода
Адама Ева обдумывала его слова: «Встретил
Радду. Ей плохо». И поняла их как приговор
своей былой жизни. Впервые прямо, не
лукавя с собой, осознала, как много Адам
уже занял в ее жизни, как уменьшилось в
ней то, что было Раддой.
Лежа этой
ночью без сна, Ева чувствовала, как
словно бы сильное течение относит ее
от привычных берегов, от Рады, куда-то
в неведомое. И там, в новой дали, пока
виден один Адам. Один.
За ночь чувство
вины перед Раддой созрело: «Я нужна ей,
а думаю о своем»,— ужаснулась Ева своему
эгоизму.
И сейчас, отстранив Адама и
твердо глядя ему в глаза, сказала:
—
Мы расстанемся до вечера. Я пойду к
Радде. Вернусь часов в... н-ну... в ш...
пять...
Она намеревалась сказать в
шесть. Но, увидев, как темнеет лицо Адама,
как сходятся к переносью его черные
брови, на ходу изменила намерение: приду
в пять.
— Ну, ты можешь пойти и позднее,—
веселее сказал Адам и снова обнял ее, и
брови его разошлись, а лицо просветлело.
— Ты сам сказал, что Радде плохо.—
Ева выскользнула из его рук и, обернувшись
к зеркалу, стала причесывать свои пышные
светлые волосы.
— Ева, оглянись: мы
одни,— тихо сказал Адам, и в голосе его
была тоска.
— Мы еще много-много раз
будем одни. Совсем одни, ведь так, ведь
так, Адам? — страстно прошептала Ева,
но не шагнула к нему, а только обернулась
вся, резко обернулась, так что волосы
взлетели и упали на плечи.
Лучше б она
не шептала эти слова, а сказала их громко
и твердо. Наверняка невидимый Змий
внушил ей этот шепот. От ее голоса в
Адама словно вселился бес, некая злая
сила.
— А я хочу, чтоб ты осталась
сейчас,— закричал он гневно, но в гневе
его слышалась боль.
И от этого на
сердце у Евы стало немного полегче:
гнев, боль Адама, которую причинила ему
она, Ева, как-то уменьшили ее вину перед
Раддой.
Если б Адам знал, как его боль
ранит ее саму, как хочется ей остаться
сейчас с ним, только с ним! Но, видно,
Адам так был переполнен собой, что не
слышал ее, а, значит, не понимал.
— Ты
кричишь,— с безмерным удивлением сказала
она, отступая от него за стол,— но ведь
я сказала, что вернусь... В пять...
—
Нет! Ты не вернешься больше! — закричал
Адам, видя, что она, обежав стол, бросилась
к двери.
И, схватив подвернувшийся
под руку стул, грохнул им с размаху о
стол, помешавший остановить Еву.
А
она выскочила на лестницу, потрясенно
чувствуя: все пропало! Все!!
Она бежала
к Радде, неся как искупительный дар свою
ссору с Адамом. Она бы чувствовала еще
большую вину перед Адамом, представляя
себе, каково ему сейчас там одному, если
б самой не было так больно и так плохо.
Утешала же себя Ева давнишним, выверенным
средством всех женщин: «Если любит,
помиримся».
Но дни шли. Длинной
вереницей. Один. Второй... Наступил
третий, а они всё жили. Да, жили! Со стороны
это было особенно заметно: когда Адам
будто между прочим спрашивал у знакомых:
«Как, мол, там Ева?» — то в ответ слышал:
«Ничего, хохочет, как всегда».
«Ничего,—
отвечали и Еве,— нормально. Сегодня в
волейбол играл».
Наверное, эти ответы,
подогревая обиду, и давали им силы жить.
На третий день Ева поняла: пора... Она
не была бы Евой, если б не поняла: срок
вышел. И передала с верным человеком
записку для Адама, наказав спрятать ему
под подушку, если самого не будет в
общежитии.
Шел десятый час вечера,
когда Адам, сжимая записку в кулаке,
сунутом глубоко в карман, стукнул в
дверь к Еве. Смятая бумажка была стиснута
в кулаке, а слова, написанные на ней,
голосом Евы бились в мозгу: «Когда бы
ты ни пришел, я жду тебя дома».
Кроме
этих слов, ничего не было в его голове
и сердце. Только эти слова были жизнью.
И надеждой, которая питает жизнь.
Он
не думал о том, что будет, когда они
увидятся. И она этого не знала, когда
услышала его стук и шла открывать дверь.
Только почему-то сняла с вешалки бабушкин
шерстяной жакет. Значит, все-таки знала,
что дома они не останутся, раз взяла
этот жакет.
И вот они увидели друг
друга. И остались жить. Но потрясение
было так велико, что они не смогли
поцеловаться или обнять друг друга. Они
взялись за руки (одна рука Адама
по-прежнему согревала в кармане записку)
и пошли.
Они шли молча, согласно и
дружно сворачивая из улицы в улицу. Их
старый город был уже пыльным, жарким в
этот вечер ранней теплой весны, и небо
светило пыльно-розовым светом, а облака
были тонки, легки и прозрачны, словно
ладанный дымок в этой розовой высоте.
Они шли, взявшись за руки. И лица их
были одинаково сосредоточены, отрешены
и одинаково напряженно приподняты, чуть
вскинуты кверху, а потому напоминали
поневоле надменные лица слепцов, неведомо
куда ведущих друг друга.
А еще они
походили на первую пару, ведущую за
собой молчаливо торжественное шествие,—
так, наверное, идут к алтарю, не обязательно
брачному, а, скажем, для клятвы, для
посвящения в сан или на казнь за правое
дело.
Если б люди вокруг были догадливы,
люди, живущие в домах, мимо которых шли
Адам и Ева,— некоторые из жильцов
выглядывали из окон и наверняка видели
двоих, взявшихся за руки,— они включили
бы музыку, полонез или торжественный
марш, и тем, может быть, помогли бы Адаму
и Еве понять, куда и зачем они идут.
Но
музыки не было, и часть пути они в самом
деле шли, как слепцы, не ведая, куда.
Однако, выйдя к месту, называемому в
этом городе «Кольцо» — здесь была
конечная остановка многих автобусных
и трамвайных маршрутов, — они не
сговариваясь вошли в автобус, который
шел за город, к озеру, последнему в цепи
озер, начинавшейся еще в городе. Озеро
в городе было голым и скучным, хотя и
самым большим, а то, последнее, узким, с
извилистыми берегами, таинственными
от ивняка и осоки.
В автобусе оказались
знакомые. Их о чем-то спрашивали, они
что-то отвечали. А может, и нет. Только
вопрошающие быстро отстали, и Адам с
Евой по-прежнему молча сидели рядом на
заднем сиденье не разжимая рук.
Знать,
в самом деле неоднородно время живущих
в одном веке, году, месяце, часе; не едино
пространство даже для едущих в одном
автобусе... Для этих двух сейчас бежали
свои секунды, если можно назвать этим
обычным словом поток, подхвативший их
жизни. Он был и временем, и пространством
и несся с необычайной быстротой, меняя
каждого из них по отдельности и обоих
вместе, и весь мир вокруг.
Тот вихрь,
образовавшийся вдруг, когда они
встретились в дверях Евиного жилья, и
пронесший их через город к автобусу, не
исчез, а лишь упорядочился, и отдельные
струи, составляющие его, выделились,
прояснились. И для Евы главным стало
очищающее чувство готовности. Как у
девушек древних майя, посвященных в
жертву Богу и готовых умереть самоотреченно
и без жалости к себе, умереть, не умирая,
а просто растворившись в Боге.
Душа
Евы была напряжена, как натянутая струна.
И, наверное, она звучала, рождая звук,
мелодию, слушая которую Бог не раскаивался,
что создал Еву.
И Адам слышал звучащую
струну: мелодия ее вбирала в себя фразу,
написанную Евой: «Когда бы ты ни пришел,
я жду тебя дома».
Адаму открылось, что
он любим и желанен. Это наполняло его
силой, делало великодушным и мужественным,
прозорливым и всеведущим. Сейчас он был
одновременно и собой, и Евой. Именно
потому и готовым принять жертву — Еву.
Он знал, что сделает ее счастливой. Но
был и печален Адам, оттого что сознавал
он себя и орудием в чьих-то руках,
занесенным над любимой. Любовь его
сейчас вмещала жизнь и смерть, свою и
Евы, и была потому могущественнее, чем
ее любовь, дабы смог он поступить так,
как был должен поступить. Как требовала
от него некая неуправляемая сила, как
хотел он сам, как ждала Ева.
Он слышал:
звучала ее струна.
Автобус остановился.
Кроме них на последней остановке вышли
еще два-три пассажира, но сразу исчезли.
Как только Адам и Ева оказались на
земле, их разом охватила волглая,
душистая, звучащая соловьями прохлада
приозерной майской ночи.
Сухой,
пыльный, жаркий, желтый от электрического
света воздух в автобусе остался за его
лязгнувшими дверьми. А вместе с ним
исчезло цепенившее их наваждение:
обманный свет, обманные терзания,
воспаление обиды и напряженное ожидание
близости, как последнего искупления
обиды. Мягкая, мудрая ночь одним влажным
прикосновением превратила их в детей,
доверчиво бросившихся друг к другу. Они
еще не знали таких объятий, будящих не
жажду — несущих утешение.
Они
поднимались вверх по склону холма,
заросшего орешником и черемухой, и
холодная роса смачивала их ноги, обдавала
брызгами с кустов и цветов. Они скоро
остановились. И стояли тесно прижавшись.
Оба разом поняли, что сейчас ничего не
произойдет, что совсем, оказывается, не
важно, где и когда это произойдет: в
будущем и в другом краю, как надеялась
Ева, или как можно скорее, как хотел
Адам.
Важно было одно: они обрели друг
друга навсегда. Что в точности значит
это слово — навсегда — не знает еще ни
один из смертных, не знает, очевидно, и
сам господь Бог. Но зато есть счастливцы,
хоть однажды ощутившие мгновенье,
которое и дает основание людям произносить
и писать это слово.
Обнимая друг друга
преданно и благодарно, Адам и Ева знали
всем существом своим, всей землей,
травой, росой и звездами вокруг, что в
эти минуты возник их Дом, началась их
общая Участь. Они согревались друг возле
друга среди влажной и холодноватой
темноты ночи-праматери, ночи начала
мира.
1976 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





