ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

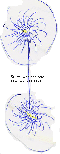
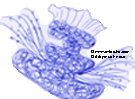
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
Она
ступила на бегущую из-под ног ленту
эскалатора, как в живой поток с неподвижного
берега, и ее понесло, как в потоке. А Иван
остался с приветственно поднятой рукой.
Когда, утвердившись на ступеньке, она
оглянулась, его уже не было видно из-за
людей, сразу плотной массой сомкнувшихся
за нею. Показалось, что над головами,
высоко, еще мелькнула его ладонь. Белым
голубем. Крылом его. Может, он так и будет
теперь стоять там со своей поднятой
рукой? Как памятник. В вестибюле станции
метро ВДНХ, у самого начала эскалатора,
стоит Иван. И те, что поднимаются, видят
сначала его ладонь, обращенную к ним в
щедром жесте, потом всю руку, потом и
голову в черном меховом картузе с
блестящими мелкими завитками и благородное
лицо с благожелательной, утешающей
улыбкой. С той самой, которую она оставила
на нем, уплывая вниз, снова погружаясь
с головой в темную свою реку...
Она
стояла выпрямившись, не держась за
поручень, вслушиваясь всем телом в это
плавное, механическое, предусмотренное
московское движение, несшее ее вниз.
Все-таки движение. Идешь, как Христос
по водам. А встречные и сопутствующие
толпы осеняются твоей благодатью... Если
бы. Да, если бы! Если бы твоя мука избавила
кого-то от своей. Кому-то стало бы легче.
Кто-нибудь бы уснул, наконец, и перестал
чувствовать, что с сердца его содрали
кожу. Сама не раз сдирала сизо-млечную
пленку с говяжьей печени по 2 р. 30 коп.
за кило, тогда и обнажалась замшево-матовая,
нежная темно-кровавая поверхность... А
с живого-то... Больно же! Болит...
Может,
правда, Ивану с Ленкой поможет, потому
что страшно им было глядеть на нее,
изуродованную. Может, теперь будут
больше жалеть друг дружку. Жалко ведь
живое-то...
Плывут на встречном
эскалаторе лица, и лучше не всматриваться
в них. А то ненароком поймаешь свое
отражение, когда чужое, равнодушное,
слепое лицо вдруг дрогнет, некая искра
словно бы осветит его — недоумение,
интерес: а что бы это значило? — или
просто сожаление, и редко — ответная
боль. Это все отражения ее наплаканного
лица. Она даже чуть улыбнулась, представив,
какой видят ее встречные люди, и ощутила
отечную неподатливость щек и губ,
сопротивляющихся улыбке.
«Как Иван-то
статуей стал»,— опять вспомнила она.
Улыбка теперь вышла шире, и в светлой
щелке глаз меж напухших век блеснул
зелененько малый лучик.
Суховатый,
механический — с душком железа, керосинца,
шпаловой пропитки, лака — ветерок метро
сушил лицо, и слезы выжимал иные, без
соли и уксуса, просто слезы, чтобы не
резало глаза. Люди, спешащие мимо вниз
бегом, задевали ее плечами, сумками, и
она чувствовала с отрадой эти толчки,
они возвращали ощущение собственного
тела: плечи напрягались, ноги пружинили,
сопротивляясь ударам, стремясь устоять.
Оказывается, была она не пустым местом,
она занимала какое-то пространство,
мешала другим. Хорошо, что она поехала
к Ивану и Ленке. Заставила себя выйти
из дому, из проклятых этих пустых голых
стен. Тут пустота от пола и до потолка,
от стены до стены. Пустота всюду, куда
б она ни зашла: в любую из трех комнат,
на кухню ли, в просторный ли коридор.
Только дети умели прогнать пустоту. Но
они инстинктивно сторонились матери:
ее ласки излучали горечь, а глаза пугали.
Наверное, из глаз ее тоже смотрела
пустота. Поэтому дети избегали ее
взгляда. А может, они чувствовали, что
ей больно, и им было стыдно за свое
бессилие: не знали, как ей помочь. И
все-таки помогали. Пока они не спали,
она старалась быть возле них. И даже
свою работу, требующую сосредоточенности,
делала за одним столом с сыновьями,
когда они учили уроки или рисовали.
Пустота боялась детей. Но стоило оказаться
одной, набрасывалась на нее, окружая
плотной, тягучей наволочыо, мгновенно
лишая сил, проникая в грудь, под сердце,
и оно замирало в томительном падении в
бездну — в пустоту. Так бывает на качелях,
но там — это сладостный миг ужаса,— как
раз потому, что миг,— а здесь сердце
тосковало и маялось, предчувствуя
бесконечность этого падения в пустоту,
пустоту, пустоту...
Так открылся ей
смысл одного древнего проклятия.
«Ах,
чтоб вам пусто было!» — так, бывало,
приговаривала бабушка, гоняя кур с
огорода или досадуя на сбежавшее в печи
молоко... Такие безобидные в устах ее
доброй бабушки слова и, казалось тогда,
вовсе лишенные смысла.
Потом и в
сказках встречалось: колдуньи — злые
— бормотали: «Пусто вам! Пусто вам! Пусто
вам!» Становилось жутко, хоть и непонятно:
от чего жуть? Пусто ведь...
И в голову
не приходило, что и бабушкино смешное
ворчанье — из тех же, колдовских,
заклятий...
Сухо шелестящие звуки,
тени чьих-то давних бед, отлетевших
дней... Теперь они совпали с ее болью, и
она узнала их... Значит, с кем-то это уже
было, и так давно,— до древних сказок...
Было. Все было: «Чтоб тебе пусто было!»
Над каким пепелищем, в чей плач вплелось
это первый раз?
Ненасытная пустота
тянет, сосет из нее все силы. К утру, не
забывшись сном ни на минуту, она не может
шелохнуть и пальцем. От кистей рук к
плечам бегут колючие мурашки, вызывая
озноб, ноги деревенеют. Будто засыпана
толстым слоем песка, раздавлена тяжкой
мертвой силой. Оказалось, душевная боль
— просто боль, болезнь, немощь тела...
Ну нет! Она рывком скатывалась на пол
с низкой тахты, держась за стулья, стены,
тащилась в душ. Горячая вода спасла.
Разгоняла кровь. Она думала: не будь
душа, она бы просто умерла в один из
дней.
Дети спали в соседней комнате.
Сначала она младшего, первоклассника,
клала с собой. Но видела, что ему беспокойно
с ней. Ей все время хотелось прикоснуться
к нему, взять за ручку. Это тревожило
сына, он ворочался, бормотал теплыми
припухшими губками. И пришлось поставить
ему раскладушку в комнате старшего
брата.
Если бы она работала, ходила
на службу, как все, как раньше... Наверное,
все бы шло иначе, не так. Может, и хуже,
но не так. Хуже, чем сейчас? Скажет же...
Все оборвано, отрезано: старые друзья,
работа, привычные, уютные улицы их
старого города — все позади... Будто
кто-то нарочно с тайным злорадством
высадил ее, как подопытного кролика, в
эту совершенную пустоту, лишив сразу
прежнего обжитого мира, чтобы ничто не
отвлекало ее внимания от фантастической
картины превращений, происходящих с
ним, ее любимым. И с ней самой.
Дети
спали в соседней комнате... Черным холодом
дышали незашторенные, неутепленные
окна. Огромные, как паруса, стекла даже
не замерзали. Город тяжко ворочался,
по-ночному глухо гудел там, за каналом,
далеко от их района-новостройки. Она
прислушивалась, ждала, когда внизу ухнет
дверь. Потом железно забрякает лифт.
Потом шаги по длинному холлу к их двери...
Вот... ключ... щелчок выключателя и полоска
света под ее дверью. Квартира полнится
привычными звуками: человек ходит туда
и сюда — на кухню, в ванную — готовится
ко сну. Иногда ей казалось, что там —
чужой человек. Иной раз — что там
чудовище. Ее бил озноб страха. Но иной
раз он, ее муж, приходил, когда она еще
не ложилась. И она заговаривала с ним.
Но он теперь понимал лишь простейшую,
бытовую азбуку. Как иностранец, научившийся
необходимейшим понятиям: «Хотите есть?»
— «Да, пожалуйста». Или: «Нет, спасибо,
я ужинал...» — «Что нового?» — «Да,
ничего... В автобусе — холод».— «Почему
сегодня раньше?» — «Голова болит». А
если поздно, он отвечал, что работал.
Как всегда, нажимая на «р». «Рработал».
И с вызовом. Однажды она спросила, где
можно работать до двенадцати ночи. Он
ответил, что у него есть где. А она уже
не имела права ни возмутиться грубостью
ответа, ни расспросить подробнее. Он
сразу определил их отношения, сказав
ей, как только она с детьми приехала
сюда, к нему в Москву, что разлука их не
прошла даром: он увлекся женщиной, а
значит, к ней, жене, не может относиться
по-старому. Что сейчас вся их дальнейшая
жизнь зависит оттого, как будет вести
себя она, его жена. Она должна подождать...
Ну... а если... если у него не пройдет... Но
она должна помнить, что у них дети. Если
б не было детей, сказал он, то и думать
бы нечего, разошлись, и все. В разные
стороны. Но вот, она же видит, что он
привез их сюда, а ведь мог бы... Она должна
чувствовать ответственность, она должна
помнить, что он любил ее тринадцать лет,
а теперь пусть любит она. Она должна...
Вот и объяснилась его сдержанность
и веждивая ровность последних месяцев,
думала она тогда, слушая его. И испытывала
даже благодарность: как он доверяет ей!
Все сказал сам. Да, конечно, она понимала
его. Жизнь — это такая вещь...
Ведь
говорили же они и раньше о такой
возможности. И она могла бы увлечься.
Но вот — получилось, что он. И она должна.
Он очень хорошо говорит: должна; у них
дети. И он так любил ее. Это правда. Всегда
считалось, что он любил ее больше.
Сильнее. Так между ними считалось. Ведь
он был одинок всю свою юность и часть
детства: детдомовец. А у нее была
счастливая семья, она — любимая дочь.
Для нее любовь и доверие были привычной
средой, воздухом, которым дышишь. А для
него — открытием, страной обетованной,
снившейся, вымечтанной. Они вдвоем
создали эту страну, и он так гордился
ею! И дорожил конечно же больше, чем она:
он-то знал ей цену. И раз это случилось
с ним,— значит, это сильнее его. Он так
и сказал: «Я не виноват: так случилось».
Видно, он прекрасно влюблен. И все же
предлагает ей подожать. Она гордилась
им, слушая его тогда, и, пока он говорил,
чувствовала его — не себя.
Она с
благодарностью погружалась в его мир
на ту глубину, которую он приоткрывал
перед ней. Ей хотелось бы дальше! Что же
он чувствует к ней? Но она не спрашивала,
чтобы не ставить его в неловкое положение,
не нарушить шаткое равновесие их беседы.
Наверное, вправду она могла бы долго
ждать его, если б он оставил ей хоть долю
своего дружелюбия. Но этот первый
разговор был единственным. После него
стало вовсе плохо. Слово было сказано.
И зрело в ней ядовитым плодом унижения,
а в нем — чувством вины, которую он не
желал признавать, обороняясь безличной
формой глагола: «Так случилось». Он вину
свою гнал и душил, но не такого свойства
это чувство, чтобы поддаться человеческой
воле: вины не убывало, но, зрея, она
оборачивалась едкой неприязнью к
человеку, вызвавшему ее. Он не мог
выносить этого вечно ждущего взгляда
жены, ее безмолвных вопросов: «Что? Когда
же? Почему?» И эти глаза становились все
больше и больше: жена худела, превращалась
в подростка. Иногда становилось остро
жаль ее. Но это мешало чувствовать то,
другое счастье, и опять-таки раздражало.
Он старался не заговаривать с ней, ни о
чем не спрашивать. Разве что об очередных
квартирных делах.
И он спрашивал,
глядя в сторону: «Был ли столяр? Купила
ли циновки?»
Однако с покупкой еще
одной тахты — для его комнаты — деньги
кончились. Покупать больше стало не на
что. Разговоры о хозяйстве иссякли. И
она лишилась последней опоры. Когда он
говорил с ней — хоть о гвоздях — она
забывала, что их мир разрушен. Словно
попадала под гипноз. Иллюзия общения с
ним, правда, из звучащих живых голосов,
снимала боль.
Сама она не раз пыталась
пробиться к нему. Задавала вопросы. Но
он отвечал так, что в каждом ответе она
слышала безмолвный вопрос: «Ты скоро
уйдешь?» И однажды она не выдержала:
—
Почему ты так говоришь со мной? Я жду,
жду, но ты не меняешься. И я ничего не
знаю. Мне трудно! Скажи хоть: что, совсем
меня не любишь? Уже все?
Она выговорила
эти, заранее приготовленные слова,
тщательно выделив голосом знаки
препинания, как бы диктуя чей-то текст,
будто слова эти к ним не относились.
Он
глянул на нее и тут же отвел взгляд.
—
Зачем ты спрашиваешь? Мучишь себя? Я уже
сказал тебе главное. Больше я ничего не
знаю. К чему эти разговоры?
— Я хоть
так прикасаюсь к тебе,— пробормотала
она.
Он вскинул голову и стал смотреть
прямо ей в лицо, и, кажется, впервые глаза
его, уже давно закрытые для нее, открылись,
в них метнулись боль, растерянность,
непонимание.
— Как? — спросил он, но
даже интонация вопроса осталась
незаконченной. Он оборвал себя, не хотел,
что бы ему объясняли то, что вовсе ему
было не нужно.
И, спасаясь от ее
нежности, он нанес удар, от которого ей
было не оправиться.
— Не хочешь же
ты, чтобы я тебя обманывал? — без внешней
связи с предыдущим разговором, но точно
отвечая на ее вопрос и обрывая свой,
только что обращенный к ней, торопливо
сказал он.
В глазах его остро сверкнуло
презрение,— он настраивал себя на раз
принятый с нею тон. Он подозревал, что
она хотела бы обмана! Жалкое, маленькое,
нетерпеливое существо! И он сказал:
—
Думаешь, я не мог бы делать с тобой это?
— Он смотрел уже насмешливо. — Прекрасно
мог бы! Но я слишком тебя уважаю. Ты
понимаешь, что это было бы унижением?
В его глазах уже не было ни презрения,
ни насмешки, лишь испытующее и
доброжелательное выражение человека,
который хочет убедиться, что его правильно
поняли. Он овладел собой. А она, еще не
чувствуя смертельной раны, продолжала
говорить с ним.
— Да, я понимаю,— важно
кивнула она, почти гордая его уважением.—
Но дело совсем не в этом! — отмахнулась
нетерпеливо.— Почему ты не хочешь
преодолеть себя и помочь мне? Надо
предпринять что-нибудь вместе, ну, в
кино сходим, ну, позовем гостей, ведь
новоселье,— она повела рукой, очертив
плавное полукружие,— ну, еще что-нибудь,—
и оглянулась беспомощно, как бы отыскивая,
что еще можно предпринять, и тут ее
сознания коснулся его изучающий взгляд,
и еще произнося свои последние слова,
она почувствовала, что говорит в
одиночестве и что за ней подсматривают,
как за сумасшедшей. Она вдруг увидела
со стороны свой жалкий жест. И бессилие
ее попытки пробиться к нему обнаружилось
перед ней с грубой, предметной
определенностью. Она поняла, что до сих
пор ничего не понимала. Увидела собственную
глупость его беспощадными глазами.
Увидела, наконец, и его теперешнего! И
ей открылась тайна его неуязвимости.
Оказалось, он был заключен в некую
невидимую, но непроницаемую сферу. Вот
почему слова, которые она произносила,
были не в силах хоть как-то задеть его.
Бесплотные, они повисали в воздухе
нелепым, ничего не значащим узором и,
потолкавшись вокруг него, лишенные
силы, опадали. Тут же истлевающие листья,
сухие мотыльки.
Его окружала оболочка
иной, родной теперь ему одному атмосферы,
его новой родины и дома. Эта оболочка
защищала его, не допуская к нему ни
воплей, ни боли, ни страха. Так водолаза
или космонавта оберегает скафандр. Она
и все, что с ней заодно, стало для него
чужой стихией, враждебной, все время
посягающей на него. Вот только что она
посягнула на целостность его скафандра.
Но он не забывал, что пробоина грозит
гибелью, и бдительно следил за каждым
движением врага.
Думая, что говорит
с ним, она оставалась одна. Всегда одна.
Вот где правда!
Медленно, пятясь, боясь
повернуться к нему спиной, выбралась
за дверь. Ей было страшно. Пустота
сомкнулась над ее головой: абсолютная,
торичеллиева, дьявольская, бесконечная.
Она прямо восходила к пустоте космоса,
где нет места теплой земной жизни. Земная
жизнь дышит воздухом любви. Ее лишили
этого воздуха. Но телесная ее оболочка
еще полна им,— она переполнена им, так
почему она не взрывается?!! Есть же законы
физики. Когда сотни и тысячи атмосфер
спрессованы в одном маленьком теле,
погруженном в пустоту, оно должно
мгновенно взорваться! Уничтожить все
вокруг, снести этот странный дом, этот
страшный мир! Кривые, лживые, пустые
законы физики! Они ничего не стоили! Они
не действовали! Ложь! Ложь! Ложь!
Наконец
она закричала так, как ей хотелось, как
требовало ее рвущееся на части сердце,
закричала, разрывая криком рот, надсаживая
горло, заглушая последнее трепыхание
стыда и достоинства. Она кричала: «Ложь!»
Но выходило одно только воющее, хриплое
«О-о-о-оу!»
...Когда-то мир был щедр и
прекрасен. Он был справедлив и потому
понятен...
Сейчас, взорванный ею, он
превратился в хаос обломков: они носились
в пустоте. А может, не носились, а были
неподвижно взвешены в ней, в невесомости
пустоты. То одно можно было рассмотреть.
То другое. То то, то это... Всегда пожалуйста.
По обрывочку, по лоскуту.
Она лежала
ничком на иолу. Тихо-тихо. Не человек —
оболочка...
...Когда проходило забытье,
она понимала, что снова живет, что вот
она, а вот он, и по-прежнему раздельны.
Природа не придумала ничего иного. Их
тела мешали им стать одним дыханием. И
она лежала тихо-тихо, ощущая его как бы
издалека, хотя он обнимал ее, словно
пытаясь удержать или вернуть. Нет, это
он сам старался удержаться, протягивая
к ней руки, но жизнь сильной своей волной
относила его... И он возвращался...
...Среди людей в пощипывающем и сушащем
глаза зыбком чаду разговоров вдруг
ощутить свежее и широкое — во весь
горизонт — вечное дыхание океана,
скрытого среди ночи. Его не видно, но
всей кожей ощущаешь: он здесь! Так свежей
волной накатывало на них мгновение
истины: они вместе — он с ней, как она с
ним. Вот что соединяло мир воедино.
Больше ничего.
Если он говорил в это
время,— он хорошо говорил,— в разговоре
возникала маленькая пауза, заметная,
может быть, только им двоим, и его взгляд
был с ней вместе с этим их молчанием. И
в молчании всплывал, на миг показывался
прекрасный лик истины.
...Она лежала
тихо-тихо. Конечно же ей хотелось умереть.
Вот так бы, не подымая больше головы.
Отчего она не умерла? Ведь он сказал то,
что сказал: «Я бы мог делать с тобой
это». А потом помиловал, на что-то такое
сослался: «уважать», «унижать»... Унижая
уважать? Или уважая унижать? Какое-то
желтое, зловещее жужжание.
Она поняла,
как уже далеко ушел он от них обоих,
тогдашних... Так далеко, что вернуться
не сможет...
Легкая ясность сухой
осенней дали открылась перед ее взором:
чистая белесая голубизна горизонта,
цветки цикория, устало-голубые, как
осеннее небо, по серому подзолистому
полю... Серая дорога, ленивые ее извивы
все тоньше и тоньше, и там, у края неба,
чья-то тень, одиноко бредущая туда,
навстречу осенним сумеркам. Что-то
произошло с нею. Или происходило. Сердце
притихло, не болело, унялось. Будто и
вправду очутилась она на свободе — в
поле или на лугу, на большой реке в тихий
вечер, когда покой и умиротворение полны
и совершенны.
Она принимала свою
судьбу. Ждать его больше она не станет.
Боль, которую сейчас он причинил ей,
оказалась целительной. Но о своем решении
она скажет ему завтра. А сегодня пусть
продлятся покой и тишина, в которой она
очутилась. Она отдохнет...
Она забыла
про музыку, подумав о тишине и покое. А
ведь было уже не раз: он включал приемник
и впускал в дом музыку, как перебежчик
впускает врага в неохраняемые ворота
крепости.
Она понимала, что музыка
для него была общением с той, другой,
как когда-то служила и им.
В их
теперешнем, враждебном ему мире, он
настраивал антенну на волну своей
планеты, и через пустоту и космический
холод к нему на помощь неслись тайные
знаки, означавшие чью-то нежность, чьи-то
привычки, известные только ему, чье-то
ожидание и тоску. Иная это была тоска,
чем ее, рожденная пустотой и одиночеством.
То было томление, которое само утешает
и греет и которое есть надежда на встречу
и вера в ответную, столь же утешающую,
столь же сладостную тоску.
Звук
приемника был полный, чистый. Музыка
заполняла все вокруг. Эти двое стремились
навстречу друг другу. Их колесницы
мчались по ее живому телу, и, сколько бы
ни скакали кони все вперед и вперед,
тупые копыта били только в нее, потому
что тело ее простиралось повсюду, где
была их дорога, и она не могла сдвинуться
в сторону,— музыка пригвождала ее,
распинала...
Не копыта били — сердце
стучало бешено, тупо, всюду. И сейчас
музыка набросилась на ее тихое поле и
небо, смяв их, разорвав на клочки, закружив
ее сердце в слепой круговерти.
Несмотря
на поздний час, она вышла из дому. Музыка
неслась ей вслед, толкала в спину,
гнала... Дети спали. Было поздно. Она не
думала, куда идет. Но так как в Москве
знала пока один дом, где жили их близкие
друзья, то, с лунатической точностью
совершив несколько пересадок и переходов:
автобус — метро — троллейбус,— она
очутилась именно перед этим домом. Иван
и Ленка были ей рады. Забытое уже внимание
других людей, их простые расспросы о
ней самой, о том, как ей тут нравится —
ведь новый город; как справляется с
хозяйством, как ребята,— вдруг открыли
ей собственную заброшенность, и так
нестерпимо стало жалко себя, что слезы
сами хлынули из глаз, и не было ни сил,
ни желания их остановить. Она ушла на
кухню, там Ленка села рядом с ней и что-то
приговаривала вполголоса, а она лила
свои слезы, без всхлипов и слов, только
время от времени вдыхала поглубже
воздуху, переводила дух. Нельзя ей было
плакать: даже от малой толики слез,
навертывавшихся на глаза, веки краснели
и набухали...
Наутро ее до метро провожал
Иван. И странно ей было думать, что ведь
и вчера она уже была в метро и проделала
всю ту дорогу, которую сейчас снова
начинала. Но она ничего не замечала,
когда ехала вчера. Вчера не было ни этого
ощутимого движения эскалатора, ни этого
обилия толкающихся, живых людей, ни этих
запахов, ни напряжения собственных ног
и всего тела, занимающего какое-то
пространство в текучей человеческой
тесноте. Смотрела на бессмертную мозаику
этих вечно молодых и вечно старых лиц,
смешанных в толпе. Они всегда были, есть
и будут.
На «Проспекте Мира» толпа
схлынула, рядом оказалось свободное
место, и она с удовольствием села. Здесь
вошло в вагон всего несколько человек.
Одна женщина привлекла ее внимание.
Совсем молодая, черноглазая и курносая,
она напомнила ей подругу по школе.
Наверное, тоже татарка. Высокие широковатые
скулы смуглы. Наверное, не москвичка.
Одета с провинциальной тщательностью
и взгляд выдает: немножко растерянный,
хоть и улыбка в нем скрытая и как бы
вопрос: так ли делаю? Вдруг сидящий
напротив мужчина по виду — сельский
житель, видимо, ездивший Выставку
посмотреть, наверное, и живущий там, в
гостиничном ее городке, встал и, неловко
пятясь и показывая рукой на свое место,
пригласил сесть черноглазую.
Та
вспыхнула и, опустив смущенно ресницы,
села, пробормотав еле слышно «спасибо».
А мужчина, отойдя к двери, всем своим
видом показывал, что не из каких-нибудь
там личных целей это сделал, а просто
так. Оба были смущены и радостны. Она
так и не подымала глаз, а губы ее морщились
в довольной улыбке, она старалась ее
сдержать, но все равно лицо светилось,
а на щеках возникали и пропадали ямочки.
Видно, она представляла себе, как
приедет домой и расскажет подругам, что
в московском метро ей уступил место
какой-то дяденька, будто она дама какая.
А «дяденька», уже немолодой, сильно
загорелый, сурово смотрел в пространство
перед собой, даже брови выгоревшие
хмурил, но все равно видно было, что он
доволен собой и рад, что поступил, как
воспитанный человек, настоящий москвич.
И хотя он хмурился, а она улыбалась, их
лица были похожи общим выражением
доброты и радости.
«Как хорошо в
метро»,— подумала она и вчуже ощущая
тепло от этой малости человеческой
взаимной участливости. И по старой
привычке тут же толкнулась ее мысль к
нему, к мужу: рассказать, какие были лица
у этих двоих в метро... «Как бы забывшись»
— так писали в старых романах. Как бы
забывшись, по инерции разбежалась. И
замерла, закоченела, поймав себя, как
вора, за шиворот: «Куда?!»
Куда нес ее
поезд? Куда спешит она? Куда теперь
мчаться ее жизни? Вот так, с разбегу,
голым лицом — о стену...
И тут она
увидела багульник. Сначала она даже не
узнала его. Так несовместимы были в ее
представлении этот вольный кустарник
с восточной окраины страны и городское
мраморное подземелье — метро. Она, сама
недавний московский житель, еще не
знала, что уже с февраля здесь продают
багульник: сухие хрупкие ветки, в которых
скрыто таится живая весенняя сила. И
так стойко! Его охапки успевают живыми
доехать из дальневосточной тайги до
столицы. И здесь, на столах и подоконниках
москвичей, поставленные в вазы и банки
с водой серые прутики его покрываются
мотыльковыми яркими цветами. Нежные
малиновые лепестки на сухих колких
ветках.
Сейчас в метро зажатый в
чьей-то руке пучок этих, пока что не
разбуженных веток покачивался прямо
перед ее лицом. Цветочные крупные почки
в кожистых чешуйках собраны по четыре
на верхушечных побегах, по две на прочих.
А вечнозеленые листья скручены в длинные
спиральки. Это только говорится —
зеленые, сейчас они почти черные, торчат
рожками вокруг почек.
...Она знала его
как раз таким, зимним, спящим в январской
тайге среди снега и яростно-синего —
дальневосточного — и зимою весеннего
неба. Хехцир! Хехцирский заказник! Ведь
было же, было! Обрывы сопок к широкой
ровной полосе Уссури; изюбриные, глубокие
в снегу тропы; кабанья толока на полянах,
где егеря подбрасывают им корм, чтобы
не пропали в морозы; нежные строчки
собольего бега по целине — редкие,
драгоценные; беличьи лихие росчерки...
Тайная жизнь тайги, записанная следами.
И они с егерем Василием Ивановичем
расписались в ее книге, оставив
непрерывный, гладкий, в отличие от
прочих, след: лыжню. Василий Иванович
вывел ее тогда к изюбриным отстоим:
голым скалам, вздымающимся из лесной
чащобы,— там спасаются изюбри от
хищников, став задом к обрыву, головой
— к единственному всходу на крутой
уступ, чтоб встретить врага копытом и
рогом. Эти-то отстои и были окружены
багульниковой чащобой. Здесь крупный
лес чуть отступает от скал, образуя
малую прогалинку, здесь больше солнца.
На пригреве с южной стороны цветочные
почки были совсем крупными, того и гляди
покажется малиновое копьецо бутона.
«Нет,— сказал Василий Иванович,— еще
не пора. А вот дома — там он себя покажет.
Наломай домой — ребят подивишь». Они
сломили несколько веток. Постояли на
изюбриной скале, откуда вниз от них —
далеко, широко — открывалась тайга,
сбегая волнами сопок к Уссури. Шкура
тайги не была одноцветной: малиновые
пятна молодого липового подроста,
латунная желтизна дубняка, крепко
держащего листву и под лихими ветрами
и бурями зимы; нежные желтовато-зелено-серые
цвета осиновых зарослей; почти черные,
но все же зеленые острова хвойных. А из
живого этого моря белой выветренной
костью подымались остовы умерших, но
не павших таежных великанов, обглоданных
начисто дождями, ветрами, морозами,
временем.
Видимая бесконечность мира,
затопленного солнцем, вливалась в нее
счастьем. Она ощущала его вкус языком,
нёбом, как вкус и запах снега, которым
она сама пропиталась до самой глубины
сердца, она чувствовала его где-то в
середине груди: свежий холодок, отдающий
и хвоей, и еще чем-то неуловимо пряным.
Наверное, это дыхание деревьев, их коры,
ее морозный аромат.
То было осязаемое,
обоняемое, видимое счастье. Она купалась
в нем, как пчела в пыльце, чтоб побольше
ее унести в свой дом — к нему. Она двойной
груз собирала — за него. Он оставался
дома с детьми, отпустив ее в эту
командировку. Благодаря ему у нее было
в два раза острее зрение, в два раза
тоньше обоняние и во сто крат — ощущение
красоты и счастья...
Она смотрела на
тонкие веточки, маячившие перед ее
лицом, видела сейчас далеко, как тогда,
как тогда — с хехцирской оленьей скалы.
Как много он дал ей — видела она. Ведь
вот, оказывается, все, что было, и осталось
с ней. Это навеки ее. И никакой силой не
разрушить этот мир, пока она жива. Значит,
надо жить.
1976 г.
| Наталья | 08:22 20.09.2019 |
| Получила большое удовольствие,читая вашт рассказ | |
| Avtorsha | 23:58 11.10.2019 |
| Наталья, большое Вам спасибо за комментарий! | |
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





