ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


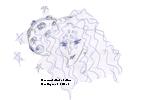
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Бажова-Гайдар Ариадна 1978
Двадцать пять лет я прожила рядом с моим отцом — Павлом Петровичем
Бажовым, для меня удивительным и неповторимым человеком.
Многие читатели «Малахитовой шкатулки» представляют себе ее автора
мудрым сказочником с седой бородой — уральским дедушкой Слышко. Это вполне
объяснимо — ведь автором книги, принесшей ему известность, Бажов стал в
шестьдесят лет. Почему так поздно? Наверное, потому, что бо́льшая часть его жизни протекала в бурное время трех революций,
свидетелем и участником которых он был. Он не стоял в стороне от жизни страны:
был добровольцем Красной Армии, партизаном, революционером-подпольщиком,
журналистом первого советского призыва, общественным деятелем.
Когда я родилась, отцу было сорок шесть лет, за плечами остались
детство, годы учебы, преподавательская работа, годы революции и гражданской
войны.
В годы моего детства отец работал ответственным секретарем и заведующим
отделом писем «Крестьянской газеты». Жили мы в Свердловске, на углу улиц Детский
городок и Болотная (ныне Чапаева), в том доме, где сейчас музей Бажова.
Дом строился еще до революции на учительское жалованье, в кредит. Я
родилась в этом доме, и все в нем мне дорого и близко. Распланировал его сам
отец. В доме было четыре светлых, почти квадратных комнаты и кухня. Стены и
потолок не были тогда покрыты штукатуркой, а каждое светлое, полированное,
будто медом облитое, бревно мыли теплой водой с мылом. В доме было много света
и цветов. Окна открывались в сад, где цвели черемуха, липа, сирень, яблони и
вишни. Весь сад был посажен и выхожен нами. А зимой в доме топились печки,
уютно потрескивали дрова, и мы с отцом подолгу засиживались перед танцующими
огоньками пламени.
Сейчас дом стоит на том же месте, но потерялся среди больших домов, стал
казаться маленьким, а в дни моего детства вокруг стояли такие же деревянные
дома в зелени садов. В доме все осталось, как было, в значительной мере
стараниями мамы, которая все двадцать лет своей жизни после смерти отца
посвятила его литературному наследству. Она подготовила его первое собрание
сочинений, изданное в 1950 году, разобрала и передала в архив все рукописное
наследство Бажова, перепечатала рукописные дневниковые записи и письма и дала возможность
литературоведам и исследователям творчества Бажова работать над его материалами,
издала неопубликованные сказы и сохранила для музея дом в том виде, в каком он
был. И при жизни, и после смерти она бережно охраняла творчество мужа, посвятив
этому всю свою жизнь.
Одно из первых моих воспоминаний связано с возвращением отца после
длительного отсутствия.
Я проснулась от оживленных голосов мамы и сестер в соседней комнате,
услышала глуховатый голос отца, его кашель, и мне стало горько и обидно, что я
исключена из общего веселья, должна спать и еще долго не увижу папу. Чуткое ухо
отца услышало мой плач, и вот уже я, завернутая в одеяло, у него на руках,
шелковинки его бороды ласково щекочут мой нос, он что-то говорит и тихо шагает
по комнате вперед-назад, и я засыпаю, совершенно счастливая.
Умение все знать о своих близких было удивительной особенностью отца. Он
всегда был больше всех занят, но у него хватало душевной чуткости быть в курсе
забот, радостей и огорчений каждого.
А был он в те годы очень занят. Теперь, спустя много лет, я перелистываю
пожелтевшие документы — свидетельства жизни моего отца в те годы. Вот билет №
16 — делегата от Камышловского уезда Бажова П. П. на IX Екатеринбургскую
губернскую конференцию РКП, состоявшуюся 15 марта 1923 года; телеграмма: «Переведено
через Уком 6 червонцев путевых переезд Екатеринбург. Ждем Вашего приезда. С
приветом. Члены редколлегии «Крестьянской газеты». Далее следует документ,
связанный с хлопотами об устройстве семьи на новом месте. В связи с
поступлением в школу имени Ленина моих старших сестер Ольги и Елены редколлегия
«Крестьянской газеты» подтверждает, что Бажов П. П. является ее сотрудником с
окладом 143 рубля.
Вот номер «Крестьянской газеты», в котором помещены портреты шести
членов редколлегии. Отец очень худой, с заострившимися чертами лица после
малярии и тяжелого тифа.
Помимо своей основной работы в «Крестьянской газете» он выполнял еще
множество разных поручений. Вот распоряжение Екатеринбургского окружного военного
коменданта от 16/II 1924 г., которым Бажову поручается «в случае объявления всеобщей
мобилизации выработать статью на тему текущего момента и передать в редакцию
газеты через три часа после объявления всеобщей мобилизации». В это же время
Екатеринбургский губернский комитет РКП (б) приглашает его на заседание
комиссии по выработке плана издания агрономической и крестьянской литературы. В
марте 1924 года Бажов проводит конференции в Сысертском, Арамильском,
Белоярском районах. Выступает с докладом о работе редакции и «дает ответы на
все вопросы, интересующие крестьян».
Бурной была жизнь журналиста тех лет. «В порядке партийной дисциплины» Бажов
получает распоряжение: сделать 6 октября в библиотеке имени Белинского доклад
на тему «Работа с селькорами». Это 6 октября, а уже 18-го того же месяца
приходит извещение: «С сего числа Вы мобилизованы окружкомом на налоговую
работу. Выезд Ваш из Екатеринбурга может быть лишь с разрешения окружкома.
Никаких заданий, кроме как от окружкома, Вы принимать не должны». Между тем в
этот день он присутствовал в Екатеринбургском комитете РКП(б) на инструктивном
совещании «по вопросам шефства». А в ноябре ездил по области с докладами о
годовщине Октябрьской революции.
Вот год моего рождения — 1925-й. Мелькают командировочные удостоверения:
проведение агрономического совещания по просьбе Ирбитско-Туринского окружного
комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов; обследование работы
селькоров; поездка в Челябинск для проведения Ленинской недели; организация
посевной; Ирбитский округ; Баженовский, Каргопольский, Зайковский, Ревдинский,
Первоуральский районы; Сарапул, Камышлов.
И все это плюс к тому ежедневному потоку крестьянских писем, о котором
отец говорил как о реке, насыщавшей его знаниями, обогащавшей его творческую
мысль.
Сохранилось более десятка его писем к семье той поры. В них видны и
жизнь села, и увлеченность Павла Петровича делом, которым он в данный момент
занимался, и его отношение к нам, его близким. Письма написаны в мае 1930 года.
«Валестёночка, ты что же? У меня миновала десятидневка работы, а от тебя
ни строчки? Ни ты, ни ребята, никто не пишет. Только Алеша прислал открытку, на
которую я тотчас ответил. Ты, кстати, насчет мяча не забудь, я ведь обещал.
Тебе пишу третье письмо. Чуть-чуть о работе. Близится сев, и те планы, которые
легко идут на бумаге и в разговоре, придется проводить в жизнь. Чувствую, что
не так гладко пойдет дело, трудностей много и придется работать с полным
напряжением. С жилищем и питанием, по-моему, неплохо, это вопрос
второстепенный, но с работой гораздо труднее. Думаю все-таки, что лучше все
усилия сосредоточить около работы тракторной станции. Она хоть с преувеличением
так зовется, но все-таки 14 машин будет. Это кой-что значит, если будут
работать полным ходом в три смены! Некогда будет писать просторные письма,
придется переходить на открытки. На днях переезжаю в деревню Васину. Интересует
там меня птицеводное хозяйство. Там строятся большие птичники и скоро выведутся
цыплята в инкубаторах. Надо взглянуть и кой-что сфотографировать. Жду письма.
За меня будь спокойна. Целую тебя и ребят. Ридчёну наособицу».
«Сижу в деревне Молоково. Здесь ведется подготовка к посеву. Местами
начинают раздавать семена. В двух-трех селах выехали на поля заборанивать пары.
Все это говорит, что пахота и сев уже не за горами. Меня теперь, пожалуй, вовсе
захватило мужицкой тревогой о погоде — от нее все зависит: и быстрота, и
успешность сева. Пока стоят здесь солнечные, но ветреные дни. В такие дни
сильно сушит сверху, но слабо идет оттаивание почвы. Такие холодные ветры уже
нанесли значительный ущерб хозяйству артели. 105 гектаров озимой ржи «Вятка» по
обследовании оказались «в неудовлетворительном состоянии», хотя из-под снега
вышли хорошо. Все дело в том, что после тепла, дня на три, выпадал снег и по
ночам крепко замерзало.
Словом, меня начинает захватывать деревенская вешняя сумятица и
неопределенность. С табачишком бьюсь по малости. Посылать из Свердловска
все-таки не надо. Не буду докуривать своей порции, а только по одной пачке в
день».
Ясно, что при той нагрузке отец редко бывал дома. Без него скучно. Мама
делает все, как обычно, но невесело, старшие сестры совсем не бывают дома — у
них находятся неотложные дела. Но вот отец возвращается. Из командировки ли, с
тяжелым портфелем и фотоаппаратом через плечо, или после длинного заседания,
или просто в конце обычного рабочего дня, — все спешат ему навстречу. Мамочка
всегда оказывалась первой, узнавала его шаги еще на улице. Выскакивали из-за
своих чертежных досок сестры Ольга и Елена, с трудом переставляя больные ноги,
спешила бабушка, мамина мама Екатерина Васильевна. Я бежала со всеми своими
приятелями казаками-разбойниками. Мой брат Алеша выглядывал из своей комнаты.
Отец целовал маму, спрашивал сестер: «сколько осталось?» (у них всегда
истекали сроки сдачи чертежей), ерошил волосы мне и моим друзьям, проявляя
удивительную осведомленность об их именах и состоянии здоровья.
— А в городе сегодня жара, Екатерина Васильевна, — сообщал он бабушке,
которая давно уже не выходила за пределы дома. — Алеша, вот тебе струна. У тебя
ведь лопнула вчера? — протягивал он свернувшееся колечко Алеше, учившемуся
играть на мандолине. — А это вам всем, ребята, баловство, — и вынимал из
портфеля что-нибудь вкусное. Не очень дорогое, но в большом количестве, чтобы
всем хватило.
Я была последним, седьмым ребенком в семье. У меня было очень счастливое
детство. Оно не омрачалось ни чрезмерной строгостью родителей, ни ссорами в
семье, ни одиночеством, ни обидами со стороны сестер и братьев.
Главой дома был отец, хотя казалось, что он ни во что не вмешивается и
всеми нашими заботами руководит мама. Он всегда был самым тихим человеком в
семье. Никогда не кричал, не командовал, не шумел, не распоряжался. Но когда
«папа сердился», все в доме ходили на цыпочках. А сердился он, когда мало
помогали маме, когда возникали ссоры между детьми, когда не возвращали на место
его «инструменты», когда читали «всякую чепуху» или забывали выполнить его
просьбу. Он тогда хмурился, был молчалив, и в доме становилось тяжело и
неприютно.
Самым лучшим временем были вечера, когда вся семья оказывалась в сборе.
Хорошо помню один летний уральский вечер. Год, наверное, 1932-й, может
быть, 1933-й. На столе в столовой стоит кипящий самовар. Отец в кухне снимает
тяжелые огородные сапоги, моется. Только что закончили сажать картошку. К
огороду относились в те годы серьезно. Семья огромная, а заработок невелик,
работник один, поэтому «натуральное хозяйство» было серьезным подспорьем. Своей
картошки, моркови, лука, капусты хватало до весны. Весь наличный состав семьи
работал в это горячее время на огороде. Никто не знал пощады. Ни уроки, ни
собрания, ни чертежи не служили оправданием.
— Ничего, сделаешь позже, — говорил отец. — Маме все должны помогать. —
И сам, как только приходил с работы, отправлялся в огород с лопатой или мотыгой
в руках.
Правда, заниматься огородом как земельным участком отцу было скучно, и
он всегда что-нибудь придумывал. Так, однажды весь наш сад и огород расцвел
белыми, красными, розовыми маками ширли, семена которых отец откуда-то выписал.
В другой раз на самом лучшем участке огорода был посажен турнепс, и отец водил
всех смотреть, как из земли вылезают его могучие лиловые плоды. Турнепс
уродился. Отец очень гордился урожаем и уверял, что он хотя и невкусен, но
страшно полезен.
Но в тот вечер, о котором я хочу рассказать, все работали всерьез.
Картошка посажена, значит, самое горячее время закончилось, начинается поливка,
прополка... Но сейчас все довольны, оживлены, голодны. Уже поздний вечер, но
еще светло. Стоит то короткое время, когда на Урале в двенадцать темнеет, а в
три светает. Отец, усталый, умытый, в голубой сатиновой рубашке в узкую белую
полоску, входит в столовую. Вся семья усаживается за большим обеденным столом.
Старшая сестра Ольга с мужем — оба студенты Свердловского горного института,
средняя сестра Елена с мужем — студенты Уральского политехнического, брат Алеша
— школьник, бабушка, мама, отец и я, всего девять человек. Мама вносит блюдо с
пирожками.
— Ого! — говорит Алеша. — А с чем?
— С мясом, — улыбается мама.
— А по скольку?
— Сегодня кто сколько хочет...
Веселое оживление, и пирожки начинают таять. Мама разливает чай, и лицо
у нее веселое, а глаза грустные. Я знаю, что утром она плакала и жаловалась
папе, что ей нечем кормить ребят и что ей очень не хочется менять обручальные
кольца на муку, но другого выхода она не видит...
— Ну, подумаешь, кольца! Дело какое... — утешал ее отец.
— Как ты не понимаешь! Разве в кольцах дело! Память ведь...
И вот сейчас все сидят и жуют пирожки, а я не хочу, мне жалко маму, хотя
у нее и веселое лицо.
— А ты, Ридчёнка, что приуныла? Ешь-ка давай. — Отец ласково и
внимательно заглядывает мне в глаза: он знает, о чем я думаю. Он всегда все
понимает.
Потом я долго не могу уснуть. Кровать моя в комнате родителей, я уже
давно выселена из «детской комнаты». Там поселились, разделив ее пополам, две
молодые пары. Мне хорошо видно папино лицо. Оно сегодня очень усталое. Он сидит
за своей маленькой, сделанной руками сысертского столяра конторкой, настольная
лампа бросает пучок неяркого света на его лицо, бороду и лист бумаги перед ним.
Он пишет.
Теперь я знаю, над чем он работал по ночам, после утомительного рабочего
дня, после изнурительного физического труда дома, — после всего этого он
составлял «для себя», «впрок», картотеку — «узелки для памяти», как он это
называл.
Сейчас я могу взять любую из этих карточек и привести ее целиком:
«Сила и задор. Задору много, да силенка мала. Силы накопил — задору не
стало. Старостью не укоряют. Молодостью не хвалятся.
Жизнь одна, да жить-то приходится по-разному.
Зимнее тепло что мачехино добро. Греть не греет, а вид дает.
Людей с мысли сбивать умеет, а нет чтобы на думку натолкнуть.
Крута гора, да забывчива.
Живой воды капелька. Большой горы начало. Горная роса, росинка горы».
Поиск живого, своеобразного, выразительного слова всегда был задачей,
потребностью отца, его увлечением. Он мог восхищаться словом, образностью речи,
искать его историческую основу, закономерности его развития.
Но собирательством слова ради его коллекционирования никогда не
занимался. «Если слово устарело, надобности нет хранить его, особенно если за
ним не стоит образ, а всякими там причудами языка можно умиляться, можно играть
словом, но это пустяк, в конце концов».
Хорошо помню, как впервые поехала в Сысерть с родителями, на родину
моего отца. Я наконец увидела любимые им края, рассказы о которых слышала с
самого раннего детства.
В те годы отец еще не был автором «Малахитовой шкатулки», и родственников
в Сысерти у нас не нашлось, кроме старушки Натальи Павловны (не знаю, в каком
она была родстве, но, очевидно, очень дальнем). Она сдала нам чуланчик без
окон, потому что «горница» была уже занята. Но мы были и этому рады, так как
достатки у нас были скромные, горница нам была не нужна, а чуланчик очень
подходил, тем более что в нем было прохладно даже в послеполуденный зной, а дом
стоял на краю заводского поселка — лес и пруд рядом. Там мы и проводили все
время.
— Сегодня мы пойдем на княженичные горки, — говорил отец, и мы шли мимо
пруда, через лес, по тропинкам в самую глушь леса. Там по одному ему известным
приметам отец находил низинку с невысокими горками, усеянными редкой ароматной
ягодой — княженикой.
На следующий день мы попадали в царство лесных орхидей. Потом — на
грибное место... Мы долго-долго шли по лесу, потом отец говорил:
— Вот здесь ходите! От этого овражка до того пригорка, дальше не надо. А
справа — до той березовой опушки. Походите. А я посижу на пенечке, покурю.
Мы с мамой ходили там, где он показал, и заполняли наши корзины
рыжиками, маслятами или груздями в зависимости оттого, чему пришло время. Когда
я удивлялась, почему он знает, где есть грибы, а где нет, он улыбался.
— Это не забывается. Весь этот лес обеган мной в детстве. Многое
изменилось, но кое-что осталось. Может быть, и твои дети увидят эту красоту.
Памятью об этой нашей поездке в Сысерть остался рассказ «Недоступное
место Храпы», в котором отец, скрывшийся за фамилией учителя Мисилова,
рассказывает жене и дочери про места своего детства, которые представляются ему
недоступными лесными, заповедными местами:
«— Птицы там всякой — палкой сшибай. Дикие козлы стадами пасутся.
Сохатые тоже. Ну, и волков с медведями немало. Даже в летнюю пору ходить без
ружья нельзя. Колесной дороги туда вовсе нет. Только зимой по пруду оттуда лес
вывозят. Самое это недоступное место...
Когда вечером пришел сосед, живший в «горнице», Мисилов стал
расспрашивать, где тот работает.
— Урочище тут у нас есть, Храпы называется. Там и работаю.
— В лесниках?
— Зачем в лесниках? Машину вожу. Шофер я. Шестнадцать машин на этой
трассе ходит...
— А танцевальной площадки там нет? — серьезно спросила жена.
— Для сохатых... — со смехом подхватила дочка.
И Мисилов вместе со всеми смеется над собой, и радуется, и чуть-чуть
огорчается этим переменам».
Было в нашей сысертской жизни в то лето еще одно удовольствие.
Мы устраивались с удочками на берегу пруда. Из-под светлой папиной кепки
по лбу и усам стекали капельки пота, но он ничего не замечал — все его внимание
сосредоточивалось на поплавке. Он явно наслаждался происходящим: были ему милы
и эта тишина, и неподвижность воды, и горячее солнце, и родной аромат детства.
После полудня, когда одолевала жара, уходили на Беседную гору,
расстилали одеяло и по очереди читали сказки Гофмана. Из сказочного, впервые
мне, городскому ребенку, открывшегося мира старых уральских заводов я
переносилась в мир дожей и догаресс, следила за приключениями крошки Цахеса.
Читать я начала рано. Первые буквари еще задолго до школы мне принес
отец. Были они некрасивы. Печать тогда была бедная. Это очень огорчало отца. Он
все искал что-нибудь поинтереснее. Рылся в своих старых учебниках, стараясь
выбрать книжку позанимательнее, но старые буквари были с ятью, старинным
шрифтом и анахроничными текстами. Наконец мы выбрали, по мнению отца, самый
удачный учебник, и начались наши первые уроки. Проходили они интересно. Не
утомительно. Я ждала их с радостью и нетерпением. Мама убирала со стола посуду
и насухо вытирала клеенку, отец раскрывал букварь... Это были счастливые часы
моей жизни. Читать я научилась мгновенно и начала одну за другой глотать книги.
Это были русские народные сказки, басни Крылова, сказки Пушкина, братьев Гримм,
Перро... Книжки стали моим главным увлечением. Отец внимательно следил за моим
чтением и неназойливо направлял его. Причем при выборе книги он наверное меньше
руководствовался моим возрастом, а больше качеством произведения. Единственное
правило, которого он всегда придерживался, было: плохую литературу не надо
читать ни в каком возрасте, а особенно в детском, когда закладываются
представления об основных понятиях, формируется вкус.
...Иногда мы просто лежали на спине и глядели, как бегут облака, похожие
на причудливые цветы, на длинноволосых красавиц, на экзотических птиц, и тихо
говорили. Часто мы смотрели на заводской поселок, хорошо видный с горы, и отец
рассказывал про те места, где прошло его детство: улица Шиповая, Пеньковка...
— На Шиповой, если идти от пруда по правой стороне, стоял дом моих
родителей. Дом сгорел, когда мы жили в Полевском... остались сарай и флигель. Я
побывал там в прошлый приезд, но как-то ничего не узнал. Наверное, дело в том,
что и я сам изменился, и все вокруг изменилось...
Поблизости жили и мои дружки закадычные — Колюшка и Петюнька. Мы были
точные одногодки и с ползунков росли вместе. Звали нас «заединщина». И в
достатке семей не было разницы. Все «тянулись от получки до получки»,
перехватывая друг у друга что случится. Дружба отцов и матерей скрепляла нашу
ребячью дружбу. За драки и проказы нам тоже попадало вместе. Матери не склонны
были разбирать, чья спина виновата. Заединщина так заединщина, заодно и
получай. Здесь проходили и «драки до крови», страшные и жестокие.
А мой любимый дедушка жил вот здесь, за рекой, недалеко отсюда. Он был
забавный человек и выдумщик, вот уж кто знал и лес, и завод, и поселок как свои
пять пальцев! Многие заветные места еще он мне показал. И руки у него были
золотые. Радостно было смотреть, когда брался за что-нибудь. Все у него
выходило ладно да красиво. И часы починить, и побывальщину рассказать — на все
был мастер. Только не мог долго одним чем-нибудь заниматься, скучно ему было.
Потому и семья жила бедно, и мать осуждала своего отчима, в чем никак не могла
найти поддержку у меня и бабушки. Мы любили деда Филата...
Рассказывал отец и о других зареченских жителях, о Сысерти конца XIX —
начала XX века. Отец показывал на какой-нибудь дом и говорил:
— Смотри-ка, какой дворец выстроили, а раньше здесь худенький домишко
стоял и жил в нем наводчик по конному воровству Маркушка. Весь завод и вся
округа знали, что наводчик, а поймать с поличным не могли. Хитер был. Избенка у
него была хуже всех в околотке. Даже без крыши. Двора, как при других домах, не
было, а только редкий забор из жердей. Жил, как говорится, на виду у всех. Но
ему не верили...
А вот этот дом я помню. Здесь пекли хлеб на продажу и обрабатывали для
завода горновой камень. От дома в дни моего детства несло «хлебным духом», а
вокруг среди серебристо-зеленых обломков можно было найти красивый камешек...
А здесь жил столяр по прозвищу Мякина. Неграмотный был, но очень
одаренный. Его песни и частушки весь завод пел, и сейчас еще их помню, а
посчитай, сколько лет прошло...
Когда мы все вместе ходили по улицам завода или встречали в лесу и на
берегу пруда людей отцовского возраста, он обязательно здоровался и внимательно
вглядывался в лица. Иногда говорил:
— Вроде бы знавал я его. Кажется, вот еще немного поднапрячь память — и
из-за этой незнакомой оболочки выглянет мальчишеское лицо старого друга. Ну,
может, и ошибся...
Отец любил вспоминать свое детство. Особенно те десять лет, что прошли в
Сысерти. Семья была дружная, трудовая. Единственного ребенка хотя и не баловали
— это, как видно, не было принято в заводской среде, — но окружали любовью.
Мать, Августа Степановна, была человеком очень мягким. Отец, Петр Васильевич,
хотя и слыл резким и неуживчивым, но сына любил, недаром мать и бабушка
называли его «потаковщиком» и «поноровщиком», — позже эти слова бытовали в
нашей семье, только «потаковщиком» был мой отец. Игры, рыбная ловля, походы за
грибами и ягодами, сказки, лес, как дом, пруды и речки, как друзья и помощники,
окружали отца в детстве.
Учеба, чтение книг постепенно открыли перед ним мир более широкий и
интересный, чем тот, который он знал и который кончался дальним берегом пруда,
поскотиной и синеющим вдали лесом. Он узнал, что на свете существуют дальние
страны, большие города, перед ним открылся прекрасный мир поэзии.
— Если бы не Пушкин, я бы так и остался заводским пареньком с
четырехклассным образованием, — рассказывал отец. — Впервые получил томик
Пушкина на довольно тяжелых условиях — выучить его наизусть. Библиотекарь,
наверное, пошутил, но я отнесся к делу серьезно. Учить было довольно трудно, —
вспоминал отец. — Многое было тогда непонятно. Вот послушай:
Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов...
Ну? Все
поняла?
— Да...
— Вот и я так же, — улыбался отец. — Но дальше пошло лучше. А когда
дошел до поэмы «Братья-разбойники», стихи уже сами заучивались. Кстати, а ты
что из пушкинских стихов наизусть знаешь?
Теперь я читала Пушкина наизусть, а отец только кивал довольно головой и
подсказывал, когда я путалась.
— А ты выучил первый том? — возвращалась я к его детству.
— Выучил.
— И сейчас помнишь?
— Нет, конечно, все не помню, но кое-что в памяти осталось.
И отец начинал читать Пушкина. Он мог читать часами, иногда прикрывая
глаза, будто переносился в другую обстановку, иногда пропускал строки и
сокрушенно вздыхал:
— Тут не помню. Видишь, что годы делают. А потом, — рассказывал отец, —
Пушкин помог мне получить образование. Приехал в Сысерть из Екатеринбурга
ветеринарный врач и известный краевед Н. С. Смородинцев, ему рассказали о
способном мальчике из рабочей семьи, который «всего Пушкина назубок знает».
О своей учебе в Екатеринбурге-Свердловске, о встречах с людьми отец
рассказал в автобиографической повести «Дальнее — близкое». Мечтал он написать
о своем отрочестве повесть, продолжение «Зеленой кобылки», было для нее
придумано название — «Крашеный панок», и сколько помню себя, на книжной полке
отца как напоминание стоял тот самый панок, который приносил ему победу в
сражениях на сысертских улицах в детстве. Было написано несколько начал. Вот
одно из них:
«День выдался невеселый. Не то чтобы непогожий, а так, не задался с
утра. С вечера мы сговорились идти в лес, а не вышло. Колюшку мать послала в
самый дальний конец завода — в Рым, отнести заказ. Петюнька уехал с отцом за
сеном, а я остался один. От безделья сидел на завалинке и смотрел, как играли
девчонки.
По проулку в это время проходил Гриньша Чирун. С ним мы не мирились, но
все же после случая с Сенькиными голубями не дрались. Мы, пятеро, ходили на
Первую глинку, а они ходили к нам. В той и другой улице было много
«немирившихся», но никто из них не вязался. Играют наши с пятеркой первоглинских
— ничего, играй, мы не тронем. То же было и с нами. В Глинке у нас было пятеро
друзей, а остальные ребята ни то ни се: в друзья не шли и в драку не лезли. И
мы не трогали и тех, кто с нами не мирился.
Гриньша даже поздоровался со мной:
— Здорово, Егорша.
— Здравствуй.
Больше нам говорить было не о чем. Он подошел ко мне и спокойнехонько
сел рядом. Меня это удивило. Не деремся — одно, а дружить — совсем другое. Но
промолчал.
— Ты что один? Не рассорился ли со своими заединщиками? — И так все
ласково, будто ему тут большое дело.
— Зачем ссориться? У нас этого не бывает.
— Сказывай. А с Петьшей на нашей улице за плитку подрались.
— Подрались, помирились. Наше дело.
— Заединщина. Надолго ли? Мы с Сеньшей тоже заединщиками были, а теперь
в разные стороны глядим. Он теперь с Петьшей, а про тебя Петьша говорит...
Девчонки в это время пробежали совсем близко от нас. Гриньша подставил
ногу. Райка ткнулась носом в землю и отчаянно заревела, а Гриньша схватил с нее
платок и еще ударил по спине.
Хотя с девчонками мы никогда не играли, но не лезли к ним. И я без
всяких предисловий засветил Гриньше звонкую оплеуху. Он был слабее меня, но
полез в драку и получил по первое число...»
Повесть «Крашеный панок» не написалась...
Я много раз слышала от отца рассказы о его родителях. Знала, что они
умерли давно, сравнительно молодыми, видела их фотографии, но как-то они для
меня не существовали как люди близкие, пока мне не попало в руки письмо
бабушки, Августы Степановны, к сыну, учившемуся в то время в Перми, по понятиям
тех лет далеко от родных мест. Письмо отправлено из Верхсысертского завода 23
октября 1895 года воспитаннику третьего класса Пермской духовной семинарии
Павлу Бажову.
«Здравствуй, Паша, — пишет Августа Степановна. — Желаю быть здоровым и
всего хорошего! Мы, слава богу, здоровы. На Верхнем живем уже две недели в
доме, где жил Павел Васильевич, а они переехали в Сысерть в дом Кадошникова.
Жалованье отцу пока до рождества все то же. Перевозку приняли на казенный счет.
Зырянов просил управляющего, чтобы перевели отца на Верхний. Хотят строить
новую машину — катать проволоку, боятся поставить новенького, что все
перемешает. Паша, ты, пожалуйста, береги здоровье, не студись. Теперь погоды
хуже зимней. Новостей больше никаких нет. Будь здоров.
Твоя любящая мать Августа Бажова».
Рукой отца приписано: «Здравствуй, Паша. При сем посылаем денег два
рубля. Будь здоров.
Твой Петр Бажов».
Возможно, потому, что письмо такое обычное (я сама неоднократно писала
такие своим детям: «Берегись, не простудись»), оно приблизило ко мне деда и
бабушку, превратило их из персонажей с пожелтевшей фотографии XIX века в живых
людей — моих близких. Я пожалела свою бабушку, которой пришлось ради блага
единственного сына расстаться с ним на долгие годы. С сожалением подумала, что
отец, очевидно, в последний раз побаловал сына, посылая ему два рубля. Через
год Паша остался без отца и без всякой надежды на материальную поддержку.
Наоборот, у него появилась повседневная забота не только о том, где взять
деньги на продолжение учебы, но и для матери. Я с гордостью подумала о деде:
хоть и считало его начальство неуживчивым, так как льстить не умел, но когда
трудности возникали, обращалось к нему за помощью.
...Наше короткое лето в Сысерти осталось в моем сознании дорогим и
светлым воспоминанием. Оно приблизило меня к отцу, научило любить и восхищаться
природой — ее живыми разнообразными красками. Эталоном красоты стали для меня
на всю мою последующую жизнь сосновый лес, прогретые солнцем пригорки, чистые
тихие пруды Среднего Урала. С этими родными местами сравнивала я впоследствии
природу Подмосковья, Крыма, Кавказа, Кубы, Югославии. В то лето впервые, будучи
уже вполне сознательным человеком, я так много и интересно общалась с отцом.
Мне понятнее стал тот родовой корень, из которого вырос мой отец, а
следовательно, и я.
Моя память выхватывает из прошлого летний жаркий день 16 июля 1936 года.
В нашем саду, как будто специально к серебряной свадьбе родителей, зацвела
липа. Старшие сестры в то время уже не жили с нами, брат Алеша погиб в
результате несчастного случая, осталась я одна. Но в этот день по пути в
командировку в Златоуст приехала из Москвы Елена.
Мама, худенькая, красивая, в светлом ситцевом платье, с цветком в еще
черных волосах, играла на гитаре и пела. Когда обо всем переговорили, съели
пироги и выпили чай, отец с таинственной и смущенной улыбкой вынес из дома
простую ученическую тетрадь с пушкинским Лукоморьем на обложке, исписанную
ровным, аккуратным почерком бывшего учителя русского языка и чистописания, и
прочел нам глуховатым голосом, смущенно покашливая, сказ «Медной горы хозяйка».
Потом для отца наступил год вынужденного бездействия, год тягостных
раздумий. Он сделался неразговорчив. Днем по-прежнему работал в саду, в
огороде, подолгу сидел молча, покуривая короткую трубку и глядя вдаль
невидящими глазами, а ночи частенько проводил за своей старенькой конторкой.
Иногда, зачитавшись интересной книгой, я до утра видела полоску света и слышала
тихие, размеренные шаги. За этот год отец написал сказы «Надпись на камне»,
«Сочневы камешки», «Каменный цветок», «Марков камень», «Золотой волос»,
«Змеиный след», «Две ящерки», «Тяжелая витушка», «Горный мастер», «Кошачьи
уши», то есть основной костяк «Малахитовой шкатулки».
Сказы не сразу нашли своего читателя и завоевали признание.
— Это, Павел Петрович, я при всем уважении к вам печатать не стану, —
сказала ему редактор сборника, которой отец впервые принес свои сказы. — Это
фальсификация фольклора.
Демьян Бедный впоследствии рассказывал отцу, что спас его от разгромной
статьи о первых сказах. Редактор одного из центральных детских журналов вернул
рукопись сказа «Серебряное копытце» с категорическим и лаконичным отказом. Отец
огорчался, терял веру в себя. Переставал писать. Не прекращалась только работа
над словом. Писательская кладовая продолжала пополняться.
Признание и известность пришли к нему исподволь. 28 января 1939 года, в
день шестидесятилетия отца, его друзья — журналисты, писатели и издатели —
преподнесли ему драгоценный подарок — первый экземпляр первого издания
«Малахитовой шкатулки», еще пахнущий типографской краской. Потом их было много,
красивых и некрасивых, богатых и скромных, цветных и черно-белых, на многих
языках мира. Но эта первая книга с дедушкой Слышко на обложке навсегда осталась
для отца самой дорогой. На подаренном мне тогда экземпляре книги еще очень
четким отцовским почерком написано: «Моей маленькой дочерёнке — Ридчёнке».
Во время Великой Отечественной войны писательская организация
Свердловска насчитывала около 60 членов Союза писателей. В ее состав влились
известные литераторы: Ольга Дмитриевна Форш, Федор Васильевич Гладков, Мариэтта
Сергеевна Шагинян, Анна Александровна Караваева, Агния Львовна Барто, Лев
Абрамович Кассиль, Оксана Иваненко, Юрий Верховский, — все они бывали желанными
гостями нашего дома в трудные военные годы. Гости хвалили морковный чай и
подолгу засиживались в нашем слабо освещенном и плохо нагретом доме.
Хорошо помню приезд к нам Алексея Александровича Суркова. Он приезжал на
Урал, чтобы написать о героях тыла. Провел он у нас весь вечер, сидя на старом
бабушкином сундучке возле конторки отца. Разговор шел о войне, о событиях на
фронте, о героизме. Отец слушал, расспрашивал, курил, беспрерывно набивая
трубку махорочным самосадом, дым от которого оседал на стеклах синим
маслянистым налетом. Алексей Александрович так и не ушел в гостиницу, а остался
у нас ночевать. Еще на рассвете из комнаты отца доносились голоса, и поспал он
немного на том же коротеньком бабушкином сундучке.
Те, кто общался тогда с отцом, вспоминают неуемную его энергию,
внутреннее спокойствие, умение заботиться обо всем без суеты.
Известно, что в годы Великой Отечественной войны все жили и работали с
огромным напряжением человеческих сил. И отец в эти трудные годы жил как все.
С фронта стали приходить к нему письма, в которых бойцы и офицеры
подтверждали, что книга нужна, что в сказах утверждаются лучшие национальные
черты русского человека — могучая жизнеспособность, ум, трудолюбие,
талантливость, стойкость характера.
В 1942 году в Москве печаталась «Малахитовая шкатулка», которой суждено
было оказаться в руках людей не только в дни мира, но и во время войны.
«Бажова как автора «Малахитовой шкатулки» знают уже немало лет, — писала
М. С. Шагинян. — Но лишь в Отечественную войну это знание стало полным. Великие
испытания, переживаемые всем народом, служат как бы пробным камнем искусства.
Они определяют удельный вес каждого произведения, степень его участия в том большом
совместном творчестве человечества, которое можно назвать «тягой истории», направляющим
движением к будущему. Отечественная война показала, что книга Бажова «тянет», и
тянет крепко. Бажову удалось в конкретной художественной форме, на образной
исторической основе создать произведение огромного значения»[1].
Никогда не забуду рассказ Бориса Николаевича Полевого, побывавшего в
нашем доме летом 1950 года, о том, как он прочитал впервые «Малахитовую
шкатулку». На фронте он увидел в руках капитана книгу, которую тот читал ночью,
при свете карманного фонарика, во время короткой передышки между тяжелыми
боями, читал увлеченно, внимательно, хмурясь и улыбаясь. Когда утром Полевому
вручили для передачи в политорганы документы убитого капитана, он вынул из полевой
сумки книгу, которую тот читал за несколько часов до смерти, — это была
незнакомая ему «Малахитовая шкатулка».
Вот передо мной стоит и это издание книги. По светло-золотой обложке
ползет золотая ящерица. А на титульном листе знакомые слова: «Теперь уже совсем
взрослой моей младшей дочери Ариадне. П. Бажов».
«Взрослая дочь Ариадна» в то время заканчивала школу, работала в
госпиталях и отчаянно голодала. Семья, как всегда, была большая. Приехали
старшая сестра Ольга с сыном Володей, мамина сестра Анна Александровна с
внучкой. Мама предпринимала героические усилия, чтобы хоть чем-нибудь нас всех
накормить, хотя бы лепешками из редьки... Хлеб на стол нарезался не тонкими, а
ажурными ломтиками, и я совсем не замечала, как проглатывала уже два кусочка, а
отец еще не брал ни одного, и у меня не хватало силы воли не протянуть руку за
третьим.
— Бери, бери, — успокаивал меня отец, поймав виноватый взгляд.
А последний, оставшийся на тарелке кусок они делили пополам.
В 1943 году я окончила школу и поступила в Уральский государственный
университет.
Не помню, чтобы отец особенно интересовался моей учебой в те годы.
Некогда ему было. Но вот день, когда стало известно, что меня приняли в
аспирантуру, на кафедру истории СССР Уральского государственного университета,
я помню хорошо. Отец просто сиял, я видела, что он счастлив. История всегда
была главным интересом в жизни отца. «История» и «Слово», «Слово» и «История»,
и еще Урал.
Во всех своих ранних публицистических вещах — «Уральские были» (1924),
«За советскую правду» (1926), «К расчету» (1926), «Бойцы первого призыва»
(1934) — он оставался автором исторического очерка. И позже, когда Бажов стал
автором «Малахитовой шкатулки», он написал автобиографическую повесть «Зеленая
кобылка» (1939) на широкой исторической основе — о жизни подростка уральского
завода в конце XIX века. Эту же тему он продолжил в повести «Дальнее — близкое»
(1949) — об истории Екатеринбурга-Свердловска в конце XIX — начале XX века.
В последние годы жизни отца мы много и интересно общались. Хотя он был
очень занят. Время его было заполнено поездками, встречами с людьми,
обязанностями писателя и депутата Верховного Совета СССР, работой над сказами,
но неизменно по вечерам вокруг него собиралась вся семья, и велся неторопливый
разговор о том, что видели, что читали, о чем думали, что волновало в течение
дня. В эти тихие вечерние часы я услыхала рассказы о детстве отца, о родителях
и друзьях, об играх и обязанностях заводского подростка в конце XIX века, о его
впечатлениях, о Екатеринбурге тех лет — первом большом городе, который ему
привелось увидеть, о событиях 1905 года на Сысертском заводе, о наступлении
колчаковских войск на Камышлов, о том, как он пробирался на Томский Урман, не
зная, удастся ли найти своих, как нашел он друзей среди крестьян Томского
Урмана, как собирали оружие и готовили нападение на белогвардейцев, об успехах
и разгроме небольшого отряда партизан «Горные орлы». Когда в воспоминаниях
всплывал Алтай, в разговор неизменно включались мама и сестры.
В 1919 году, получив первую тайную весточку от отца, извещавшего, где он
находится и как его можно разыскать, моя мать, не прислушиваясь к охам и ахам
родных, только выйдя из больницы и похоронив сына, собрала трех своих детей —
восьмилетнюю Ольгу, семилетнюю Елену и трехлетнего Алексея — и отправилась в
дорогу, не зная точно, где находится отец и жив ли он. Как они ехали, кто
встречался и помогал в пути, где им приходилось холодать и голодать — обо всем
этом каждый рассказывал по-своему. Но рассказ о том, как они наконец после
долгой и сложной дороги — ведь это были годы гражданской войны — прибыли в
Усть-Каменогорск и увидели на пристани в толпе встречающих пароход отца, — а он
с надеждой ждал каждый, — и мама шепнула детям: «Вот ваш отец, только об этом
никому нельзя говорить!» — я помню с детства, неоднократно повторенный, и у
меня всякий раз замирало сердце.
Невысокий человек в темных очках, страховой агент Бахеев — так он
изменил свою фамилию — мог появляться в любом месте, не вызывая подозрений. Он
осуществлял связь между соединениями партизан «Красные горные орлы»,
рассказывал о положении на фронтах, вручал партийные билеты. О том, каким
опытным, тактичным и смелым подпольщиком был отец, рассказал в своих
воспоминаниях Н. Рахвалов[2].
В конце 1919 года соединение «Красные горные орлы» вошло в
Усть-Каменогорск, освободив его от белогвардейцев. Среди первых 28 членов
коммунистической партии Усть-Каменогорска был и Павел Петрович Бажов. Он стал
редактором газеты «Советская власть», заведующим отделом народного образования,
создавал первые учительские курсы, организовывал первые школы по ликвидации
неграмотности, принимал участие в восстановлении Риддерского рудника.
О положении, которое сложилось на Алтае, в Бухтарминском районе, где он
выполнял сначала подпольную, а потом партийную работу по установлению советской
власти, отец рассказывал неоднократно, часто и с удовольствием возвращаясь
мыслями к этому периоду своей жизни.
В те годы Бухтарминский край был далекой окраиной Советской Республики.
Крестьянство там было зажиточное. Помещиков коренные жители края не знали.
Земли в избытке. Недостатка в фабричных изделиях тоже не чувствовалось.
Советских войск из России тогда здесь был только один полк коммунистов,
ничтожная горсточка, а местное крестьянство было организовано в восемь
партизанских полков из бывших фронтовиков, знавших в совершенстве свою горную
местность, великолепно вооруженных и пользовавшихся доверием всего населения.
Огромный перевес вооруженной силы был явно на стороне местного крестьянства.
В случае надобности они могли позвать и своих недавних врагов — колчаковцев,
которые сидели тут же, под боком, за китайской и монгольской границей. Ждали
только случая, чтобы выступить против советских войск.
Одинокому же советскому полку поддержки ждать было неоткуда. Основные
группы Красной Армии были тогда заняты на других, более важных фронтах, да и
пути сообщения с Алтаем были плохие.
Советская Республика тогда не могла послать никаких товаров в этот
удаленный край. Вместо них пришел упродком с самой жестокой формой разверстки.
Крестьянство заколебалось. Не один раз были случаи кровавых
столкновений, в результате которых гибли партийные и советские работники,
которых и так было мало.
И все-таки к началу лета 1920 года бухтарминский крестьянин окончательно
определил свой революционный путь. Оставив дома необходимый заслон против
вылезавших время от времени из-за границы белобандитов, бухтарминцы выделили
значительную группу бойцов. Три эскадрона кавалеристов на лучших алтайских
скакунах, в полном вооружении пошли с Бухтармы против Врангеля. Местным органам
советской власти пришлось даже ограничить запись добровольцев, чтобы не
ослабить заслона на границе.
Когда отец вспоминал об этом времени, он начинал ходить по комнате,
голос его становился громче, он молодел, глаза яснели, и я отчетливо
представляла себе отца в папахе с красной лентой наискосок, с ружьем за
плечами.
— Когда отец уходил в ночной патруль по охране города, я не спала, —
рассказывала мама. — Такое было опасное время. Граница рядом. Белые, чувствуя,
что приходят их последние дни, совсем озверели. Только и слышно было о зверских
расправах с коммунистами и их семьями.
Сестры вспоминают другое: как цветут багульник и альпийские маки, как
вкусны семипалатинская колбаса и конопляное семя с медом. Это лакомство в доме
называлось «последняя отрада» и выдавалось мамой в исключительных случаях. О
том, как мама радостная вернулась с рынка с куском мыла, вымыла свои роскошные
черные косы... и осталась совсем без волос. Как она горько плакала, а отец
утешал и говорил, что сейчас она гораздо красивее. Как отца арестовали и
посадили в крепость. Как трясла его жестокая малярия. Как в доме нависала
мучительная, угрюмая тишина и все, даже маленький Алешка, ждали, когда же
пройдет мучительный приступ.
В мае 1921 года «заведующий информационным отделом военно-революционного
комитета общественной и политической организации, член военно-революционного
комитета, председатель уездного комитета РКП(б), редактор газет «Известия»
уревкома[3]
и «Советская власть», член Семипалатинского губернского комитета партии Павел
Петрович Бажов вследствие тяжелого заболевания и по просьбе Камышловского исполкома»
возвращается в Камышлов.
Моя мать с тремя детьми и мужем, до крайности изнуренным малярией и
тяжелой формой тифа, отправляется в обратную дорогу. Семья вернулась на Урал.
Отца все радовало — и неяркое уральское солнышко, и запах соснового леса.
— Не жилец он на свете, — сказал маме, скорбно покачивая головой,
камышловский земский врач, старый друг отца.
А больной просил об одном — выносить его в лес. В весеннем сосновом лесу
он лежал часами без движения, глядел на деревья, слушал пение птиц... и
постепенно стал поправляться. Семья ожила, повеселела.
Вскоре он уже снова работает, редактирует газету «Красный путь», орган
Камышловского уездного комитета РКП(б), и корреспондирует в «Крестьянскую
газету», орган Екатеринбургского обкома РКП(б). В октябре он получает
назначение на работу в «Крестьянскую газету», на должность ответственного
секретаря. Семья возвращается в Екатеринбург-Свердловск.
Меня часто спрашивают, помню ли я сказки, которые мне рассказывал в
детстве отец. Нет, не помню. И старшие сестры тоже не помнят. Все, в том числе
и я, с раннего детства знали пушкинские сказки и «Конька-горбунка», их отец
читал нам наизусть и любил к ним возвращаться.
А его главными сказками для нас были рассказы о жизни. Этими рассказами
были полны вечера в нашем доме. Они могли касаться истории Урала, встреч с
людьми, поездок по старым уральским заводам или избирательному округу. Обо всем
он умел рассказать увлекательно, ярко, весело и по-своему. Причем мы не
чувствовали себя аудиторией, которая собралась послушать. Нет, мы себя ощущали
участниками общего большого разговора о жизни и соучастниками рассказа.
В книгах о Бажове часто пишут: «Он любил детей». Это справедливо, но
только с одним оттенком. В детях он прежде всего видел людей и соответственно к
ним относился. С детьми любого возраста он разговаривал как равный. Ни
маленькой девочке, ни взрослому юноше он не говорил: «Ты еще маленькая,
подрастешь — узнаешь». «Вы еще молоды и не можете знать того, что пережили мы,
старики». Собеседнику любого возраста он давал высказать свое мнение и
уважительно, с учетом возраста, отвечал.
Я не помню, чтобы кому-нибудь из своих детей отец сказал: «Не вмешивайся,
не твое дело». Наоборот, я твердо знала, что у меня в семье есть право голоса.
И какие бы сложные семейные или даже творческие вопросы ни обсуждались на
семейном совете, отец спросит: «А ты, Ридчёна, как думаешь?» Независимо от
того, сколько мне лет — семь, двенадцать или двадцать два.
Внук Никита был еще совсем мал, но и для него дедушка находил нужные и
понятные слова. Никто не мог толком объяснить, почему день сменяет ночь, почему
петушок бегает по снегу босиком, а дедушка мог.
Как раз в последний год жизни деда Ника переживал «почемучный» период.
Все в доме уставали. «Ах, почему, почему!.. Не знаю я, почему!» — то и дело
восклицал кто-нибудь, только дедушка терпеливо и подробно отвечал на все
«почему», и Никитка, едва заслышав его шаги, радостно бросался навстречу:
— Дедушка, мама не знает, а почему?..
Контакты с детьми устанавливались мгновенно. Часто ребята подходили к
отцу просто на улице.
— Это вы дедушка Бажов? — спрашивал какой-нибудь отважный семилетний
паренек.
— Я. А ты кто?
— А я Витька!
— Ты как, Витя, с нами пойдешь или у тебя дела?
— Да нет, с вами пойду.
— Ну, так пошли тогда. Тебе куда надо-то?
— Да просто вас проводить.
— Ну вот и спасибо тебе. А то я вижу плохо, так ты мне подскажешь, где
мостик, а где канавка. А ты, Ридчёна, тогда на трамвай беги, ты ведь
торопишься. Мы с Виктором не спеша дойдем. Верно?
— Конечно, дойдем. Я могу вам и руку дать, а то, хотите, буду портфель
нести?
— Да нет, спасибо, это я и сам донесу, а ты мне лучше вот что скажи: как
ты смотришь...
Может быть, оттого, что он не проводил резкой грани между детьми и
взрослыми, читателем «взрослым» и «детским», его сказы, в основном адресованные
взрослым, быстро завоевали детскую аудиторию. Причем ребята узнали и полюбили
сказы Бажова раньше, чем их начали печатать детские журналы и детские
издательства.
Отца удивляло, что особенно привлекательными оказались вещи,
стилистически и по фабуле наиболее сложные, типа «Каменного цветка», «Дорогого
имячка». Для иллюстрации ребята чаще выбирали совсем «не детский» сказ «Солнечный
камень» и изображали камень в виде улыбающегося солнышка. Огневушка-поскакушка
во время войны была разведчицей, малахит и другие уральские камни ослепляли
фашистов, Великий Полоз обвивал и душил своими могучими кольцами вражеские
полки.
Даже такой сказ, как «Приказчиковы подошвы», ребята часто выбирали для
иллюстрации и чтения со сцены, а это уж совсем «взрослый» сказ. По мнению отца,
это происходило потому, что ребятам всегда хочется видеть зло наказанным.
Часто во время наших вечерних чаепитий разговор касался истории Урала. О
том, что отец собирался написать роман об атамане Золотом, знали многие. Об
этом рассказывает подробно в своей книге «Долговекий мастер» Е. А. Пермяк. Но я
не помню, чтобы отец кому-нибудь читал наброски к роману. Между тем они
сохранились, и видно, какая проведена большая подготовительная работа.
Видимо, замысел романа или повести родился еще в 90-е годы XIX века,
прошел через всю жизнь и не осуществился. Как-то в последние годы жизни, видимо
понимая, что не осилит эту большую тему, отец сказал за вечерним чаем наигранно
веселым голосом:
— Подарил я атамана-то Золотого Константину Васильевичу — он моложе, да
и склонность к исторической тематике у него есть. А эту вот папочку, Ридчёна,
себе возьми, ты ведь у нас историк, на досуге как-нибудь разберешь.
Все промолчали. И отец замолчал надолго, будто думал: «Жаль, что
времени, отпущенного на одну человеческую жизнь, не хватает, чтобы осуществить
все замыслы!»
Не знаю, пригодились ли Константину Васильевичу замыслы и материалы Бажова.
Вряд ли. Но тема попала в надежные руки. В 1955 году, через пять лет после
смерти отца, на Урале издана повесть Константина Васильевича Боголюбова «Атаман
Золотой».
Вот теперь я открываю объемистую папку, на которой отцовской рукой еще
молодым, четким почерком написано: «Атаман Золотой». Здесь в основном
заготовки. Словарь к Золотому обширен и разнообразен: искательный; оказать
ласковость; грамоте тихо знает; понаровка; глаз вострый; выкланивать расположенье;
безкорежный (бесстыдный); ясеневая укладка; на-храпок; в бороде ума нет;
собачья дружба до первой кости; вотчинник Иванка Косач; захребетник Савка
прозвищем Пузырь; уведомился через подлазщиков; гулебщик; Вахоня — прозвище;
сын-одинец, буздаган (кованое оружие); ведун (знающий); борода сохаста; Савка
Пуп; Васька Ковиряй; улещать; рудная вода; строгаль; коваль; чугун-рука
(тяжелая); пух-рука (легкая); прямое дерево ветру не боится; за всяко просто;
кошачье золото; неочерпаемо (неисчерпаемо); корчажничать — варить пиво, брагу.
Первоначальный краткий план повести выглядел так:
«Новое Усолье. В именье князя Бор. Г. Шаховского, приказчик Федька
Калашников. Семья Плотниковых. Дедушка, сказки, отец, два брата. Семейный
разлад. Цифирная школа. Почему туда попал Андрей. Учителя и учебники,
соученики. Работа в заводской конторе».
В развернутом виде план несколько видоизменился и оброс деталями:
«Строптивую Рыжую выдают за Степу Смиренного — шибко тщедушный. Дед
Андрея — плотник Афанасий, бывалый человек, балагур и сказочник. Хромой и
пахорукий. Относительная свобода. Рыбалка. Рассказы о постройке острогов
«осередь башкир». Далматовский монастырь. Разбойничьи песни. Бабушка Дарья —
старая кружевница. Ее сказки».
Среди черновиков, набросков встречаются совсем готовые куски.
«Рослая красивая девица (судя по цвету волос, сестра Андрея) в сарафане
из домотканой пестряди и фартуке грубого холста поила телят на широком
пустынном в этот час барском дворе. То один, то другой из телят поднимал от
корыта мокрую морду, тянулся к девушке, чтобы толкнуть ее в руку, бедро. На
руке и сарафане оставались хлопья хлебного корма, но девушка как будто этого не
замечала. Она наклоняла слюнявые морды к корыту, порой похлопывала своих
ласковых питомцев, но было видно, что делает это только по привычке, мысли ее
заняты чем-то другим — большим и тяжелым. Об этом говорили и заплаканные глаза,
и криво повязанный на голове платок. Покровный угол платка приходился не
посередине спины, а сбился в сторону, открывая толстую, тяжелую косу темно-рыжего
цвета. Черная ряпушка, закреплявшая конец косы, распустилась, и бронзовые пряди
разошлись.
Проходившая мимо главная скотница Афимья Козлуха сейчас же заметила этот
беспорядок и набросилась на девушку:
— Ты это что патлы свои рыжие распустила? Куда у тебя платок пошел? В
суседи? А княгинюшка выйдет, либо сам князинька — что тогда? Кому за тебя,
бесстыжую, отвечать?
Когда девушка измазанными в корме руками быстро поправила платок и стала
завязывать конец распустившейся косы, скотница смягчилась:
— Дура ты, Дарёнка! Право слово, дура! Смотри, как уревелась. Радоваться
надо, а она себя изводит. Парня-то ведь недаром смиренным прозвали. Лучше
лучшего с таким проживешь. Всю жизнь князь-батюшку благодарить должна за такого
жениха.
— Да он, Афимья Ивановна...
— Ну, чем похаешь парня?
— Смотреть тошно... Девки смеются. Этакого, говорят, недоноска по всему
царству не найти... Борода растет, а самого от земли не видать.
— Вот и вышла дура. От земли не видать! Ты не на рост гляди, а чтоб
душевный человек был. Свекровка-то, Марьица, кроткая-прекроткая у тебя будет.
За такой жить — не охнешь. Знаю ее. В одной девичьей росли. Первая мастерица
была золотом шить. Теперь еще ее поминают. На самую тонкую работу ее ставили.
Другая и узора-то не разглядит, а она его выведет из точки в точку. Да еще сама
новое выдумает. Теперь хоть отупела глазами, а все еще серебром плетет не хуже
других. Поучит тебя, а ты ревешь!»
Очевидно, это начало повести о том периоде жизни Андрея Плотникова,
когда он еще не стал атаманом, о его родных, учебе в местной владельческой
школе в Новом Усолье, о службе конторщиком в имении князя Бориса Григорьевича
Шаховского.
Судя по словарю и написанным кускам, довольно подробно освещался тот
период, когда Андрей скрывался на заимке купца Шавкунова:
«К зимнему Николе Шавкунов обыкновенно уезжал в Кунгур, на ярмарку. С
ним уходил обоз со всем юхтовым товаром, который вышел из дела. Возов десять,
иногда и больше. Подготовка начиналась спозаранку — дня за три, за четыре. Кожи
сортировали по весу, по отделке, пересчитывали, выискивали всякого рода брак.
Порой спорили, но последнее слово всегда оставалось за Тихоном. Скажет он — в
первый или второй воз, — так тому и быть».
Далее идет рассказ о том, как Андрей бежал на Клиновской рудник, где
получил подложный паспорт и весной 1769 года появился на Шайтанском заводе Яковлева.
Как ходил Золотой с караваном на судах строгановского приказчика Никиты Колчина
в Рыбную слободу, где встал во главе отряда в десять человек, «разбойничал» на
Волге, работал на медеплавильном заводе купца А. И. Кобелева, на Сергиевском
заводе, на сплаве по реке Уфе, вновь организовал отряд в 17 человек и
отправился по реке Белой до ее устья, где присоединился к отряду,
возглавляемому мастеровым Егошихинского завода Иваном Прибытковым.
Из заготовок, прописанных кусков, развернутого плана видна основная идея
повести. Еще в конце прошлого века учитель Павел Петрович Бажов хотел показать,
что протест уральских мастеровых против крепостного права «нельзя обозначать
коротким и презрительным словом «бунт», что нужно донести до потомков память об
отважном мастеровом, крепостном интеллигенте, сподвижнике Е. И. Пугачева Андрее
Степановиче Плотникове».
Была у отца и другая мечта — написать историю первых Демидовых, которые
в сложном деле создания русской промышленности на Урале действовали в
соответствии с петровским указом: «Деловых людей и разного кунста искусников
надлежит всяко обнадеживать и принимать с решпектом и привилегией, то памятуя,
что от таковых великое прибавление и польза заводскому делу проистекать могут».
Пожалуй, полнее всего его отношение к Демидовым-первым, в отличие от
«последышей», проматывающих отцовское наследство по заграницам, нашло отражение
в письме к Алексею Александровичу Суркову по поводу романа Е. А. Федорова
«Демидовы». Не буду пересказывать это письмо, оно частично опубликовано[4],
о нем много писали, в частности его в значительной части цитирует Е. А. Пермяк
в книге «Долговекий мастер».
Главная идея Павла Петровича — энергия Демидовых, их напор,
организаторская сметка заслуживают справедливой оценки потомков. Их
крепостническая сущность не должна заслонить того факта, что благодаря их
деятельности наша страна в короткий срок освободилась от импорта железа и сама
стала его экспортером. Открыты медные и серебряные руды в Сибири.
Демидовы привлекали его как «переходные фигуры от мужиков к барам. Они
впитали в себя много таких черт, которые говорят, что они не забыли еще своих
кузнецов-предков». Очень интересно, например, отношение Прокопия Демидова к
взбунтовавшимся приписным, как и его хозяйское письмо верхневинским приказчикам
о соревновании в поисках плавней. «Надо это письмо показать какому-нибудь
металлургу, — заключает отец со свойственным ему стремлением не делать
скоропалительных выводов, — чтобы понять, есть ли в нем действительные поиски,
или только привычка поучать других, даже тому, чего сам не знал».
Было в исторической теме Бажова еще одно любимое детище — город
Екатеринбург-Свердловск, с которым в течение шестидесяти лет сознательной жизни
он был связан. Ему казалось, что история города недостаточно изучается.
«— История нашего города освещена односторонне, а может быть, и
неправильно. Исследовательско-историческую работу вел Н. К. Чупин на основе
документов, исходивших от администраторов и чиновников города. По документам
картина строительства города выглядит так: приехали администраторы, выбрали
место, построили город-крепость, ставший центром металлопромышленности! Нет, не
так все просто! Достаточно посмотреть на городскую плотину, чтобы задуматься.
Ведь это огромное и первоклассное для того времени техническое сооружение.
Иностранные специалисты не могли здесь выступать в роли учителей, так как в
Западной Европе, в других климатических условиях, была принята другая система:
канал и заднебойное колесо, а у нас использовалось падение воды на
верхнебойное».
На первое место в истории строительства города он выдвигал русских,
мансийских первооткрывателей — рудознатцев, мастеровых, умельцев — и призывал
ученых изучать пристально и серьезно подлинные документы по истории
Екатеринбурга-Свердловска, но «не гнушаться народными преданиями Урала, который
еще в эпоху крепостничества сконцентрировал высокие качества рабочих
коллективов, впоследствии нашедших выражение в борьбе за социализм».
П. П. Бажову хотелось видеть любимый город благоустроенным, красивым,
известным. Вот почему он хотел, чтобы каждый знал историю города и гордился ею,
чтобы стояли в нем памятники первому русскому теплотехнику И. И. Ползунову,
который девизом своего изобретения сделал: «Облегчать труд по нас грядущим»; Л.
И. Брусницыну, родоначальнику русской золотопромышленности, Д. Н.
Мамину-Сибиряку, бытописателю Урала.
Вот почему, гордясь историей своего края, он считал, что нужно отмечать
не 100-летний юбилей горно-металлургического техникума в Свердловске, а
225-летие существования в Екатеринбурге-Свердловске учебных заведений для
создания инженерно-технических кадров, так как начало ему положили петровские
цифирные школы, которые начали функционировать на Урале еще в 1721 году.
После выхода из печати сказа «Ермаковы лебеди» отец получил предложение
от редакции истории Большой Советской Энциклопедии написать о своей версии
уральского происхождения Ермака.
Помню, отец был польщен и взволнован. Несколько наших семейных вечеров
были посвящены обсуждению вопроса о происхождении Ермака, и хотя отец
разворачивал убедительную картину, приводил множество никому не известных и
собранных им по крупицам фактов, свидетельствующих об уральском происхождении
Ермака, никто, кроме нас, членов его семьи, этих аргументов не узнал. Они не
были изложены в энциклопедии, отец отказался, написал вежливое письмо:
«...польщен... не считаю вправе... это лишь досужие предположения». А нам через
пару дней сказал: «Не пристала мне академическая камилавка. Ростом мал и
плешив, кто-нибудь еще подумает, что чужой шапочкой хочу увеличить рост и
скрыть плешину...» И больше к вопросу не возвращался.
Самые разные люди бывали в доме на Чапаева, 11, в гостях у Бажовых.
Писатели и поэты, рабочие и инженеры, актеры и колхозники, учителя и академики,
пионеры и журналисты. Всех угощали одинаково: домашней квашеной капустой, по
которой мама была великий мастер, маринованными уральскими грибами, пирогами и
чаем с вареньем. Велся тихий, неспешный разговор. Из друзей отца, бывавших у
нас в тридцатые годы, особенно запомнились Петр Лаврентьевич Велин и Петр
Абрамович Карьков, с которыми отец вместе работал в «Крестьянской газете»,
краевед Андрей Андреевич Анфиногенов и его жена Надежда Павловна, Алексей
Петрович Бондин, в прошлом слесарь-железнодорожник, впоследствии писатель,
книгу которого «Моя школа» очень высоко оценил А. М. Горький.
С Демьяном Бедным отец познакомился еще в 1926 году, во время работы в
«Крестьянской газете». Сохранилась пожелтевшая фотография тех лет: Д. Бедный в
открытой машине в сопровождении членов редакции. А в предисловии к своей книге
«Горная порода» — поэме, написанной на основе сказов «Малахитовой шкатулки», —
он назвал Бажова «горным мастером фольклорного цеха».
Частым гостем нашего дома был писатель Евгений Андреевич Пермяк,
написавший о дружбе с отцом очень теплую книгу «Долговекий мастер».
Дружил отец с историком В. В. Данилевским, который в годы войны жил и
работал на Урале. За короткое время В. В. Данилевский подготовил и опубликовал
две такие большие работы, как «Русская техника» и «Ползунов». Его метод работы
восхищал отца. Он говорил:
— Наверное, от правильной постановки дела зависит половина успеха
работы. Посмотри, у Виктора Васильевича нет ничего лишнего — ни закрытых
шкафов, ни папок, затянутых шнурками, — но для каждой вещи и для группы есть
постоянные места. Это позволяет не только быстро и без хлопот взять нужный
материал, но и напоминает о нужном. А как часто бывает, что материал, тебя
заинтересовавший когда-то, забудется, а потом случайно наткнешься на него и
жалеешь об упущенных возможностях для его использования и пополнения.
Мне отец советовал учиться у Виктора Васильевича. Но сам пользовался
старым, кустарным методом. «Что поделаешь, — говорил он, — привык даже конверты
сам заклеивать, ни на кого не полагаться».
Нельзя сказать, что отец не пытался использовать помощь в работе.
Работал он и со стенографистками и секретарем, но ничего не получалось.
«Неужели это я говорил?» — удивлялся он, перечитывая стенограмму. И тратил
массу времени на ее переделку. Он стеснялся затруднять людей. Ему было
неудобно, если машинистка не могла разобрать его почерк: «Ничего, ничего,
оставьте, я сам!» Его смущало, если у него не находилось нужное слово, а
стенографистка ждала. Его огорчало, если кому-нибудь приходилось что-то делать
для него. Он все предпочитал сделать сам, если мог, никого не затрудняя. И
поэтому, наверное, он не успел осуществить многие творческие планы своей жизни.
Думаю, все уральские писатели в 30—40-е годы бывали в нашем доме.
Творческое общение связывало отца с И. С. Пановым, И. И. Ликстановым, К.
Мурзиди, Е. Е. Хоринской, Б. С. Рябининым, А. С. Ладейщиковым, К. Куштумом, Ю.
Я. Хазановичем, В. А. Стариковым, Л. К. Татьяничевой, Н. А. Поповой, О. И.
Марковой, К. В. Боголюбовым, М. А. Батиным, О. Коряковым.
Отец не был завистлив, он всегда радовался удачам и успеху других, но
был один человек, которому он откровенно и сильно завидовал. Он завидовал
молодости и таланту Д. Д. Нагишкина, тому, что он выбрал в расцвете творческих
сил тот жанр, к которому отец пришел так поздно, его разносторонней
одаренности, умению иллюстрировать свои произведения и сетовал, что хотя
никогда сам не вмешивался в работу художников, иллюстрировавших «Малахитовую
шкатулку», редко мог согласиться с их видением сказочных образов. Вспоминая
первую, мимолетную встречу с Дмитрием Дмитриевичем в Москве, в Союзе писателей,
отец писал: «Представлял себе вас более пожилым и более... науковидным, а
оказалось вроде солнечного блика на зелени: форма не отложилась в памяти, но
осталось ощущение молодого, здорового, радостного. Порадовался за вас, как
много у вас впереди!..» И тут же с грустью добавляет: «Быть бы и мне помоложе
лет хоть на десяток!» Очень тепло отзывался о книгах Нагишкина, особенно об
«Амурских сказках»: «Какая изумительная вещь фольклор! Через ваши сказки не
просто видишь жизнь, а начинаешь ее ощущать. Как жаль, что многие этого не
понимают!»
И хорошо помню его огорчение от несостоявшейся встречи с
писателем-дальневосточником. Писатель дал телеграмму о том, что будет в
Свердловске проездом с Дальнего Востока в Москву. Поезд прибывал на вокзал
ночью. Была зима, отцу нездоровилось, мама уговаривала его не ездить, но он
поехал на вокзал. Поезд задерживался из-за заносов. Отец терпеливо ждал
несколько часов. Наконец поезд прибыл... и стоял на станции пять минут. Бажов
не смог даже добежать до нужного ему вагона. Встреча не состоялась.
Разочарование и огорчение было большим.
Многие писатели оставили теплую память о себе в нашем старом доме. На
титульных листах книг, подаренных отцу, в письмах и книгах о нем его
современниками сказано много ласковых слов.
«Я с большой радостью, — писал А. П. Бондин, — вспоминаю, как мы
совместно работали над моей книгой «Лога» (Бажов был редактором. — А. Б.), и с большим удовлетворением
подсчитываю сумму всех твоих пожеланий, так для меня ценных... Пусть твоя
ласковая рука напишет еще не одно произведение»[5].
«...Сыновне приветствую вас. Простите, что не был на вашем торжестве, — писал
П. Павленко. — Лечу в Америку. Радуюсь вашему творческому многолетию, завидую
ему и рад, что являюсь вашим современником».
«...Я вновь и вновь перечитываю сказы, подлинно наслаждаясь и богатством
выдумки, и слаженностью, и сладкозвучием русского языка... С пожеланием
творческого настроения и душевного покоя остаюсь ваш неизменный почитатель» —
Игорь Грабарь.
«...Дорогому Павлу Петровичу с любовью — Мариэтта Шагинян».
«...Спасибо за ваши сказки — Сергей Михалков».
«...Автору «Малахитовой шкатулки», который открыл секрет создания
сказки, тысячелетиями хранившийся в тайне. Немного открытий, равных по значению
вашему. Спасибо вам за это от одного из тех, кому сказка близка и мила. —
Дмитрий Нагишкин».
«...Обладателю волшебной «Малахитовой шкатулки» от очарованного Федора Гладкова».
«...Самому лучшему, самому настоящему из всего, что я «добыл» на Урале, —
Лев Кассиль».
В 1970 году, спустя двадцать лет после смерти отца, мне привелось
разговаривать с К. М. Симоновым.
— Я помню встречу с вашим отцом, — сказал Константин Михайлович, — и ваш
уютный деревянный дом в Свердловске... А было это в 1939 году!
Столько лет прошло, война, интересные люди, другие страны, впечатления,
а недолгое общение с моим отцом, посещение нашего дома запомнились... Почему? Я
часто задаю себе этот вопрос: почему — и в кругу семьи, среди рабочих,
молодежи, академиков, писателей и крестьян отец всегда был интересен и
становился центром внимания? Он никогда не повышал голоса, никого не перебивал,
никому не льстил, не подлаживался под собеседника, он оставался всегда самим
собой — тихим, скромным, спокойным, умеющим слушать и уважать мнение другого.
Наверное, это происходило потому, что запас его знаний был велик, у него всегда
было что сказать собеседнику и интересно что-то у него узнать. Он не задавал
вопросов «из любезности», чтобы тут же выбросить ответ из головы. Он спрашивал
только в том случае, если ему было действительно интересно, и говорил всегда о
своем и по-своему.
Зрение отца все больше слабело. Он не мог прочесть даже собственную
рукопись. Печатал только на машинке, а при чтении писем к депутату прибегал к
помощи мамы и моей. Выполняя для отца секретарские обязанности, я, в то время
аспирантка Уральского университета, разбирала и готовила к отправке Депутатскую
почту. Нужно было прочесть отцу вслух два-три десятка писем, а потом по его
указаниям подготовить проекты ответов.
Выслушав, отец говорил:
— Неплохо. Но потеплее бы надо, да и почетче! Давай-ка добавим вот
что... — и диктовал совсем другое, свое письмо, ничем не похожее на предыдущее,
хотя просьбы и слова писавших были совсем одинаковыми.
Как-то отец поручил мне отправить подготовленную и перепечатанную почту.
Я взяла письма, положила в портфель, побежала на факультет и среди своих дел
забыла их отправить. Поздно вечером отец спросил:
— Отправила?
— Ах, нет, забыла!
Отец молча встал из-за стола и ушел в свою комнату. Мы с мамой
пошептались. Решили, что лучше его сейчас не волновать, и потихонечку
разошлись. Я долго не спала. Чувствовала себя виноватой. Прислушивалась, не
застучит ли за стеной машинка, но там было тихо, — значит, не работает, не
может...
Рано утром я побежала на почту и, вернувшись, сообщила:
— Извини, пожалуйста, за вчерашнее, письма отправлены.
Он погладил меня по голове.
— Нельзя быть черствой. В каждом письме к депутату надежда, боль, беда,
а ты... «ах, забыла!». Нельзя так!
Дела, на которые теперь уходило его время, были самые разные:
государственные, литературные, просто человеческие. Раз в неделю у него был
депутатский прием в облисполкоме, но в обычные дни недели поток посетителей по
депутатским делам переключался на дом, и с утра до вечера на крыльцо
поднимались то рабочий из Сысерти, то старая женщина из Артей, то школьники из
Красноуфимска.
— Когда же ты будешь писать? Ведь у тебя есть приемный день! — пыталась
я вмешаться в рабочий распорядок отца.
— А куда же им деваться? Они издалека приехали, и не к писателю Бажову,
а к своему депутату. И ждать им некогда, у каждого работа поважней
писательской.
В 1949 году очень торжественно был отмечен семидесятилетний юбилей отца.
В зале Свердловской государственной филармонии собрались друзья и читатели
Бажова. Много торжественных и смешных подарков. Отец растроган, благодарен,
взволнован. Начал он говорить медленно, как будто еще не знал, о чем сказать.
Но и в этот торжественный для него день он не забыл о своих близких.
— Мы всегда досадливо оглядываемся на камень, о который споткнулись на
пути, — начал он, — но почти никогда не вспомним с благодарностью о тех людях,
которые протоптали нам широкую и удобную тропу через лес или через топь. Для
меня эту тропу в жизни проложила моя жена Валентина Александровна, которая
взяла на себя все житейские заботы и тяготы, которые так осложняют жизнь.
Благодаря ей я прошел жизнь по утоптанной тропе и мог спокойно работать...
Потом он благодарил друзей, литераторов, журналистов, издателей и
читателей за внимание к его работе и за помощь. И вновь повторил то, что
говорил всегда:
— Это внимание, разумеется, не ко мне, а к тем безвестным творцам,
материал которых дошел до меня и стал доступен читателям. Моя роль в этом
второстепенная...
После юбилея отец заболел. Долго лежал в больнице, потом в зимнем
санатории... Вернулся домой, но все ему как-то нездоровилось.
«...Все-таки со мной делается что-то неприятное, — писал он в письме А.
М. Ступникеру. — Зимний санаторий ничего не изменил. Там казалось скучно от
безделья и санаторного режима. Приехал домой, а рабочего настроения нет.
Стараюсь преодолеть долголетней привычкой, но пока результатов не вижу и быстро
устаю. Видно, возраст берет меня сильнее, чем я его. Ну, все-таки еще
поборемся»[6].
Грустные нотки все чаще проскальзывали в словах и письмах отца.
— Не те сны пошли, — рассказывал он, просыпаясь. — Смолоду вверх тянет,
и всяк этому рад. Либо во сне на крутую гору взбежишь, либо по лестнице чуть не
до солнца взберешься, а то и полетаешь на просторе. После таких снов и днем
кажется, что ты легче стал.
В старости другое снится. Видишь ту же лестницу, да по ней надо
спускаться, а она под тобой подгибается либо кончается обрывом. Кверху не
поднимешься, и вниз бросаться не хочется, висишь на руках и думаешь: а ведь
долго не продержаться. На весь день после такого сна усталость чувствуешь.
Десятого декабря 1950 года, в морозный день, похоронили отца на высоком
холме, с которого виден Урал — леса и перелески, горы и пруды — все, что он
любил, что всегда было дорого его сердцу, и вернулись домой. Еще пахло табаком,
на столе лежала его трубка, а в машинку заправлено незаконченное письмо, но дом
опустел...
Вечером у нас собралось много народу. Сначала было тихо. Потом выпили.
Голоса стали громче. Заговорили о том, что волновало каждого. Маршала Георгия
Константиновича Жукова расспрашивали о недавних днях войны, напоминали о встречах
на фронте, требовали, чтобы он писал мемуары. Мама сидела ко всему безучастная,
да вряд ли вообще слышала что-нибудь, а мне стало обидно, что вот уже и забыли
и речь идет не об отце, как будто это не его дом, как будто он не среди нас, и
зазвучал его голос:
— Ридчёна, что приуныла? Не надо. Жизнь ведь продолжается...
И она действительно продолжилась в его книгах, в памяти людей, в
произведениях искусства, созданных по мотивам его сказов, в его детях, внуках и
правнуках, среди которых есть экономисты, строители, рабочие, геологи,
журналисты, социологи, историки и те, кому еще предстоит выбрать свои профессии
и определить свой путь в жизни.
Много лет спустя после смерти отца, в чужих краях, мне привелось
встретиться с памятью о нем. В 1962 году вместе с мужем, корреспондентом
«Правды», и младшим сыном Егором я оказалась на Кубе. Вскоре по приезде в
Гавану, осваивая незнакомый язык, я читала надписи. И вдруг на самом большом
кинотеатре Гаваны прочла: «Цветок из камня». «О! Как знакомо!» — подумала я, радуясь,
что начинаю понимать по-испански... То есть как цветок из камня? Каменный
цветок? Не может быть...
И все-таки это был фильм «Каменный цветок», и я смотрела его вместе с
кубинскими зрителями. Большинство сидевших в зале огромного кинотеатра не были
в Советском Союзе и, наверное, смутно представляли себе, где находится Урал. Я
волновалась. Мне казалось — фильм не поймут, он будет скучен, начнут выходить
из зала, и мне будет больно. Ведь здесь все другое — язык, природа, восприятие.
Все здесь красочнее, эмоциональнее. Небо синее, море ярче, голоса громче,
восприятие обостреннее. Скупые уральские краски, сдержанное слово с подтекстом
не будут восприняты. Но все произошло иначе. Зрители реагировали на события,
происходящие на экране, точно так же, как те, с которыми вместе я впервые
увидела фильм «Каменный цветок» в Свердловске. Там же смеялись, в тех же местах
замолкали... Почему? Я поняла позже.
Когда я уезжала на Кубу, мама положила мне в чемодан маленький кусочек
малахита, ограненный с одной стороны.
— Возьми на память о родительском доме. Там, наверное, не видали.
Я рассказала об этом моим друзьям — геологам, работавшим на Кубе. Они
смущенно промолчали, видимо удивляясь моей безграмотности. Потом один из них,
порывшись в многочисленных сверточках, положил мне на ладонь точно такой же
камешек, похожий, как близнец, на мой уральский.
— Этот не со Змеиной горки, — сказал он, улыбаясь, — это его брат из
Пинар дель Рио.
Когда на острове Пинос я ехала от аэродрома по дороге, отливающей белым
мраморным блеском, я вспомнила Урал. В Мраморском тоже дороги мощены мраморной
крошкой...
Вот почему «Каменный цветок» и в другом полушарии смотрелся с интересом.
И здесь занимались тем же трудом: искали медную и железную руду, добывали
камень, обрабатывали его, создавали произведения искусства.
Неожиданной была для меня «встреча» с отцом в Югославии. Остановилась я
у книжной витрины. Маленькая книжка в сером переплете привлекла внимание.
Название знакомое: «Уральске байке». Полистала и убедилась, что хотя и без
имени автора, но все-таки это сказы «Малахитовой шкатулки». А в городе Сараево,
столице Боснии и Герцеговины, был поставлен балет «Каменный цветок». Слушая
музыку, я вспоминала, как отец пришел однажды вечером взволнованный и веселый и
рассказал нам, что в Свердловском театре оперы и балета начинаются репетиции
балета «Каменный цветок» композитора А. Фридлендера.
— Этого я пока не представляю, — возбужденно говорил отец, — подпрыгнет
Данила и словно скажет: «Не буду делать чашу по барскому чертежу». А хозяйка
сделает пируэт ножкой — та-та-та, — это значит: «Приходи, покажу каменный
цветок!» — Отец смешно выбрасывал ноги в толстых домашних валенках, изображая
то Данилу, то малахитницу, и глаза его смеялись....
С тех пор я прожила долгую жизнь, но глаза отца, то веселые, то
печальные, добрые, пытливые, требовательные, живут в моей памяти, будто
расстались мы с ним только вчера....
Москва, 1963—1977
[1] «Правда»,
4 февраля 1944 г.
[2] Н.
Рахвалов. Бажов в Усть-Каменогорске. «Урал», 1969, № 1.
[3] «Известия Усть-Каменогорского уездного революционного комитета».
[4] П.П.
Бажов. Публицистика, письма, дневники. Свердловск, 1955.
[5] Письмо
А. П. Бондина от 25 января 1939 г. Архив П. П. Бажова.
[6] Архив
П. П. Бажова. Письмо ответственному секретарю журнала «Огонек» А. М.
Ступникеру.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





