ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

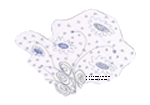

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Урусова Марина 1988
Окно долго не поддавалось. На переплете лежала пыль, а заржавевшие шпингалеты держали рамы, словно челюсти волкодава.
Наконец в вагоне запахло тимьяном, рельсами и свежескошенной травой. Вечерело. Над еще не сметанными доверху стогами крестами высились Стожары. На краю поля, ближе к дороге, горела скирда. Несколько мужчин в рабочей одежде топтались вокруг, тушили.
Мы сидели друг против друга у окна общего вагона, говорили вполголоса. Рядом с нами на временно отведенной площади, оплаченной кровной копейкой, шла кипучая жизнь.
Мужчина, немолодой и большой, был растревожен долгой стоянкой. Против него розовая ото сна с выбившейся прядью волос яростно сверкала глазами тридцатилетняя женщина. Она обнимала рулон ковра, от которого оторвал ее беспокойный сосед.
— Потише не можете? — возмущенно говорила она.
— Я спрашиваю: мужик есть или нет? Говорит есть, а у ней нет, — кивая на женщину и ухмыляясь, обращался мужчина к попутчику, с которым только что вернулся с перрона.
— Отдыхайте, дядя, надо отдыхать. Ну выпили, все выпили и молчат. — Женщина пропустила сказанное мимо ушей.
— Ты ублажайся, ублажайся, чего ты не ублажаешься. Чего ты такая чувствительная, ложись и спи, — «дядя» уже не рад был, что разбудил ее.
— Черти тебя разжигают. Нажрался.
— Не нажрался, выпил я.
— Бабка тебя встретит... — женщина сверкнула золотым зубом.
— Не встретит. Поцелует, скажет, приехал мужичок. Я вообще скажу, женщина — наша родина.
— Слышь, родина, Советский Союз, разбудил меня, я спала.
— Уж ты какая беспокойная, ничего не скажешь. Пойдем, пойдем, пойдем покурим, — обратясь к соседу, мужчина с наигранным возмущением направился в тамбур.
Я ехала по России, выбираясь из заволжской глубинки к балтийским берегам. Прямого сообщения не было. Мне приходилось с дорожной сумкой в руках то и дело выходить на незнакомые перроны и окунаться в сложную жизнь залов ожидания и билетных касс.
На привокзальных клумбах белели флоксы, табак дурманил ночь, а голос из репродуктора оглушительно оповещал:
— Внимание! В двадцать два часа сорок пять минут к первой платформе прибывает поезд номер двести двадцать пять. Повторяю... Поезд сорок семь подается на третий путь. Будьте осторожны, поезд подается вагонами вперед...
— Да что это, люди добрые, делается, — восклицала старушка на скамейке перед клумбой.
— Да что тут поделаешь? Надо смириться и ждать.
— С милицией лучше не связываться.
— Смириться, бабушка.
— Глухая я стала. Смириться, правда. Не нервничать и сидеть здесь с вечера до утра.
— А с утра опять до вечера...
Я подхватывала сумку и направлялась в здание вокзала.
Металлические страницы справочной отхлопывали районы и области. Я узнавала, что опоздала на нужный мне поезд и вновь окуналась в тревожную вокзальную жизнь.
— Я вам третий раз говорю, отойдите, нет билетов!
— На тридцать второй…
— За полчаса...
— ...Нет...
— ...Я справок не даю...
Вдоль путей с фонарем шел обходчик. Поезд темный и пыльный, изгибаясь, медленно и бесшумно приближался к платформе. Открывались двери, хлопали ступеньки. В дверных проемах окаменело стояли немолодые равнодушные проводницы, смешливые студентки в защитных куртках суетливо мели вениками тамбур.
Против меня лихо соскочили с подножки трое бравых проводников. С видом ярмарочных зазывал они встали около своего вагона.
— Мест нет, дорогуша, но потесниться можно! — опередили они меня.
Когда я пробралась между корзин и сумок и нашла для себя место у окна, в вагоне уже вовсю шумел дорожный карнавал:
— Возвращался я из Мангино. Вижу, во-он на ту сосну сел глухарь. Сидит, головой вертит. Я пополз, аж не дышал. Метров за семьдесят — ба-бах! Он упал, я его в мешок, иду и думаю: зачем такую красоту сгубил?
— Съел?
— Ну съел.
— Наше поколение не ходило в лаптях.
— А мы ходили. Пятьдесят второй, пятьдесят четвертый год.
— А-а, помню, к нам приезжали рязанские и орловские в лаптях и всё серу жевали. Сосновую или какую. Стоят и жуют. Мобилизованные были. Все лапотошники. Правильно, правильно, пятьдесят четвертый год. У нас были еще воронежские, но не помню, не хочу клеветать.
— А деды наши чуни делали из бересты, а зимой в валенках, в галошах, все честь честью. В песне поется: матка лычко надерет, батька новые сплетет...
— Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, все похожи на меня, — донесся из-за перегородки бодрый голос.
— Всем не угодишь, а жене надо угодить, — отвечал ему другой.
Дух единения и братства, слаще которого нет ничего на свете, где бы он ни был — на дружеской пирушке или в вагоне поезда, коснулся и меня. Сердце затосковало, хотелось приобщиться, сказать, что в нашем послевоенном детстве мы не знали тонких пластинок с клубничным или апельсиновым ароматом, их заменял вар. Мы жевали его, выковыривая на пустырях, дворах и в котлованах. А дома: «Покажи зубы! Вар! Неужели опять вар?!.» Мне хотелось также сказать, что отец в детстве брал меня на глухариный ток... но в это время соседка обратилась ко мне:
— Как приеду сейчас, буду всю ночь убирать. Выпивает он. До развода доходили этой зимой, — добавила она хвастливо. — Сама-то ты замужем?
— Разошлась.
— Пил?
— Н-нет.
Она посмотрела недоверчиво, но тут же засветилась догадкой:
— Бил?..
Свободный и раскованный дух единения и братства, витающий над брызгающими помидорами, ломтями пирогов с черникой и малиной, начал обходить меня стороной. Хмельной лукавый пир или дорожный карнавал, в котором, срывая маску, я всей душой желала быть, стал меркнуть и превращаться в унылую скуку, чадящую обывательскими историями.
Вот тут он и появился. Перешагнул через раскрытый чемодан, подтянулся, опершись руками о верхние полки, и занял место, где лежала его газета.
— Ну и жарища, — сказал.
Или наоборот:
— А не прохладно ли у нас?
Я ответила:
— Рамы нам все равно не одолеть... — что-то в этом роде, совершенно незначительное.
Но этого оказалось довольно.
— При отработке траектории поворота сам у себя можешь выиграть пятнадцать — двадцать секунд, а это очень много… — говорил он мне о самом сокровенном.
«А ведь я, — пришло мне на ум, — когда правлю текст, на каждом сюжетном повороте из десяти страниц вычеркиваю восемь... но две остается, а это тоже немало, особенно если пишешь рассказ».
— В тот день тренер собрал нас в клубе. Мы готовились к «Союзу». «Пять чувств?» — спросил он Славика. «Чувство разгона, чувство заноса, чувство торможения, чувство автомобиля, чувство дороги», — сказал Славик. «Теоретики! Едете вы все не то что плохо, от-вра-ти-тель-но! — подбодрил он нас. — На тренировках Слава ехал замечательно, а как начался туман, где был Слава, я не знаю».
Мой сосед, подыгрывая мимикой, дал мне возможность представить себе тренера: эдакий суперхарактер, супернажим, супернасмешка — и все же кумир, бог и единственная опора на этой земле.
Неизвестный Славик предстал подвижно-спокойным, с броней выдержки, за которой бушевали стихии порыва, одержимости и сомнений.
— Тот туман был роковым для всех нас. Славика унесло на развилке, я и того хуже — разбил машину. Направо тупиковый поворот, торможу — педаль колом, а тормозится только одно колесо. Включил третью передачу, машина не тормозит. Включил вторую, выставил машину боком с помощью газа и руля и немного промахнулся. Пролетел дорогу и через левую сторону опрокинулся на крышу.
Рассказывая, он подался вперед. Плечи напряжены, в глазах боль. Сейчас он вновь был на трассе, проходил маршрут.
— А начиналось ралли блестяще. На старте, когда крутили фигурку, можно было уже кое-что предвидеть... Тридцать секунд, тридцать с половиной, двадцать восемь и четыре, мы со Славиком показали по двадцать пять.
За окном проглядывалось перепаханное поле, а я видела освещенную прожекторами площадку, яркие машины с цветными надписями: «Автоспорт», «Avtoexport», названия городов, команд; слышала, как визжит на поворотах резина, а судьи щелкают секундомером.
— Спал? — Тренер испытующе смотрит на гонщика, подозревая самое страшное.
— Спал! — отвечает гонщик, глядя безмятежно-ясным взглядом, и для пущей убедительности добавляет: — С двенадцати до семи. Кранцы все подкрутил, хоть вчера вечером стартуй.
Он мелкими шажками обходит машину — разминается. Впереди двенадцать часов неподвижности, двенадцать часов виртуозного мастерства, двенадцать часов безмолвного порыва.
Стартовый флажок повисает над капотом автомобиля.
— Готов?
Гонщик угадывает вопрос по движению губ. Голова, стиснутая шлемом, кивает в ответ. Флажок мелькает за ветровым стеклом: «Марш!»
Они пришли в клуб из самых разных жизненных сфер: городского таксомотора и со студенческой скамьи, из троллейбусного депо и ремонтных мастерских, со съемочных площадок, из спецгаражей и автобаз. Но у всех в детстве был день, когда кто-то из взрослых уступил им однажды руль и замерло мальчишечье сердце, забилось восторгом предназначения, а тот далекий день на всю жизнь определил им место за рулем.
Спидганы, твинмастеры, спидпилоты...
Спят пригородные домики у шоссе, блестят слюдою их окна, отражают мигающий желтый свет фар, припудренные летней пылью, сереют в неярком освещении деревья, белые фонарные столбы тонким изгибом метят шоссе, заправочная станция с красными буквами «БЕНЗИН» ожидает ночной ураган.
— Буди рыжего, канистра где, бензин...
— Ты что, шлем потерял?
— Время, сколько время? У нас три минуты...
Машина под номером первый, под слоем пыли и грязи потерявшая свой цвет и стартовый шик, бочком останавливается у шоссе. Гонщик, помятый, ошалело выскакивает и искаженной трусцой обегает вокруг машины, машет руками и кричит на техничек, которые кажутся ему недостаточно расторопными.
В соседних машинах, группками и поодиночке притулившихся около шоссе, просыпаясь, зашевелились. Это были друзья участников, энтузиасты-болельщики, любимые женщины, обслуживающий персонал. Они равнодушно смотрели на панические действия соперника, ожидая своего фаворита.
— Вон наши несутся красавцы...
— А чегой-то поддончик сняли с моего двигателя?..
— Гляди-ка, седьмой приехал «домиком», он ведь фары в прошлом месяце на свои покупал. По двести за каждую.
— Во бедолага...
— ...Левый два, яма посредине, пятьдесят; левый три — три опасный, пятьдесят, правый четыре — четыре опасный... Славик должен сегодня рисковать, — говорит тренер. — Если он не сделает этого, я найду что ему сказать. Скажу, что он трус.
Вагон лязгнул. Поезд остановился. Городская окраина кинематографическим наплывом заслонила заправочную, сплющенный верх седьмого, суетящиеся вокруг машины фигуры.
Я вновь была в общем вагоне.
— А я бы поужинала, — сказала я.
Он отозвался с готовностью:
— Попробую достать что-нибудь су-шэст-венное, — и исчез.
Теперь правили бал мы.
Мы ели еще теплые котлеты из вокзального ларька, пили воду прямо из бутылок, потому что мы ездили налегке, потому что чувство разгона и чувство критического заноса не разовьешь, если будешь тащить за собой огурцы и банки с вареньем, а без этих чувств и еще без чувства дороги и чувства автомобиля, а у каждого своя дорога и свой автомобиль, можно развить только чувство торможения.
— Почему вы курите «Беломор»?
— Мне нравится. Хороший табак.
— Его обычно курят люди старшего поколения.
— В ресторане, скажем, кто-нибудь закуривает «Кэмел» или «Мальборо», предлагает. Я говорю: «Нет, я — «Беломор». Впечатляет... А вы курите?
— Нет.
— Я почему спросил. Ехала здесь одна девчонка. Симпатичная. А закурила — ничего особенного, конечно, но сразу стала как все...
— Люблю железную дорогу. Особенно раньше, когда был паровоз, — вырвалось у меня признание.
— Люблю, как пахнут рельсы, — подхватил он. — Они ведь пахнут, рельсы, правда?
Мы и в этом были единодушны.
— Скажите, а что все-таки главное в вашем деле? Собранность, вдохновение — общие слова, — наконец я решилась задать вопрос, который давно уже просился с языка.
Он подумал.
— Пожалуй, самое главное... это... — Он помедлил.
«Спортивная форма» — первое, что пришло ему на ум. Но ее можно приобрести и можно потерять... «Как автомат выполнять все приказы штурмана...» — чуть не сказал он, но сам же покачал головой: ты не автомат, ты ошибаешься и попадаешь в экстренную ситуацию. И надо УМЕТЬ выходить из нее. Тогда он хотел сказать: «Надо знать автомобиль и свои возможности. Надо идти на критические возможности, и надо сохранить автомобиль для финиша, жалеть его и любить его», но вслух он этого тоже не произнес.
— Слиться с машиной, — наконец сказал он. — Чтобы... — он опять помедлил, — если камушек на дороге — то тебе больно. Да, да. — Он рассмеялся, так как был рад, что сумел наконец сформулировать главное. — Но не думайте, что это легко.
Через полчаса мы расстались.
И вновь белели на клумбе флоксы, а табак дурманил ночь, и голос из репродуктора объявлял...
И вновь я пробиралась между сумок и корзин. И вновь за окном крестами темнели Стожары, а из окна тянуло таволгой и тимьяном.
— Девушка, сыграй с нами в карты, красавица.
— Я не умею играть.
— Ай-ай, такой хороший девушка и не играет в карты, ай-ай-ай.
— У вас есть что-нибудь горячее? Чай, кофе?
Мужчина с пометкой «вагон-ресторан» на нагрудном кармане халата посмотрел на меня задумчиво:
— Вы не будете пить наш кофе...
Осенью я вернулась домой. В квартире над московскими крышами с окном, распахнутым навстречу вечерним огням, я принялась разбирать накопившуюся за лето почту. Я срывала сургуч, разрезала бечевку, вскрывала редакционные пакеты. И все мои герои, которых я было выпустила в мир, вернулись домой.
Прошел час, другой. Ощущение катастрофически неуправляемой жизни, летящей по неверным траекториям, стало исчезать. Из моего открытого в осеннюю московскую ночь окна потянуло тимьяном, портной из Риги пригласил меня в модный салон, а слова «камушек на дороге» обратили к моим героям.
Они все были в основном хорошие парни, я даже обрадовалась, что мы вновь вместе, оглядела их придирчиво после разлуки и... принялась за работу.
Запах тимьяна в московской квартире сменился бензином. Я вновь увидела блестящую ленту шоссе, отмеченную тонкими фонарями, мимо и назад пронеслась красная заправочная и столбики бензоколонки.
«У вас скорость, наверное, больше двухсот?» — вспомнила я летний разговор.
«Нет, что вы, сто шестьдесят, сто семьдесят. Больше двухсот — высшая лига. Им многое дозволено».
В эту московскую ночь, когда я стартовала из своего открытого окна на седьмом этаже, скорость была особенно ощутима. Несколько спасал комфорт: термос с горячим кофе, мягкая кожа сиденья, «дворники» в углу ветрового стекла, но... маленький камушек на дороге — и нет мягкой выстроченной кожи, нет серебристо-серого верха, а есть железки, стальные части, провода, серьга рессоры, задняя ось, сцепление, рулевые тяги. Машина вздрагивает, скрежещет — ты морщишься, тебе больно.
Мне предстояло стать здоровым парнем, хранящим память о тихоокеанских баллах, а потому сохранившим привычку и на суше ходить враскачку. Я же предпочитала высокие каблуки.
Я еще раз мысленно прошлась улицей дальневосточного города. Морвокзал и торговый порт остались позади. Виктор, так звали героя моего рассказа, боялся оглянуться, так как с горы бухта была особенно красивой, а решение, которое подспудно зрело в нем, но определилось только сейчас, еще было зыбким от внезапности, и он боялся, что, оглянувшись, подпадет под магию плаваний большого масштаба. И потому не оглядывался. Мощеная улица кончилась, он шел грунтовкой и чувствовал сквозь легкую летнюю подметку острые камушки в мягкой серой пыли. Во внутреннем кармане его пиджака лежало письмо, он все время его ощущал оттого, что неровно оборванным краем оно шуршало по рубашке. Из столовой с высоким деревянным крыльцом вышел на улицу Пастухов. Виктор сказал ему о письме и о своем решении.
— А у меня брат не пишет. Пока не нашлю ему матюков, не напишет...
Виктор с грустной усмешкой думал о себе в то прошедшее лето, о радостном возбуждении сборов домой. И вот что получилось.
На днях Виктор встретил Саньку Чумака с судоремонтного.
— Как драгоценное? — Санька покосился Виктору на руку. — На бюллетне еще?
— Выписываюсь.
— Не штормит? — Санька прищурился. В глазах заходили огоньки. — Бросай ты эту тюльку.
Виктор промолчал.
— А я на Полиграфмаш подаюсь.
— Что так?
— Жинка в голову взяла.
— Такой послушный?
— Всем не угодишь, а жене над угодить. — Санька достал из кармана часы без ремешка. — Побегу. Оставлю в проходной автограф.
Виктор посмотрел ему вслед. Санька шел легко, возле киоска наподдал ногой бумажный ком.
«Значит, уходит, — подумал Виктор. — Зарабатывает он прилично, может...»
«Не штормит?» Что имел Санька в виду. Что Виктор боится, что ли? Мне это очень не понравилось. Я тоже, признаться, думала, что Виктору пора уходить с моря. Подставлять себя под браконьерские пули, когда уже одну получил... Но это: «Не штормит?..» Выходит, каждый, кому не лень, всю жизнь просидевший на одном стуле и за одним столом, будет мыть тебе косточки и говорить или хотя бы думать — струсил.
«...При отработке траектории поворота...» Да, да, при отработке траектории поворота...
«...Славик должен сегодня рисковать, — говорил тренер. — Если он не сделает этого, я найду что ему сказать...»
Я поймала себя на том, что растираю запястье.
«...При отработке траектории поворота...» Молодой человек в клетчатой рубашке современного покроя с пачкой «Беломора» в нагрудном кармане считал секунды, что приведут его к финалу.
Да, да, при отработке траектории поворота, подумала я о своем рассказе.
«...Славик должен сегодня рисковать, говорил тренер. — Если он не сделает этого, я найду что ему сказать...» Тренер намекал, что уколет в самое уязвимое место, упрекнув в трусости. При этом он знал, что будет несправедлив.
«Норадреналин — гормон мужественности, — продолжал он. — Он должен брызгать. Они ничего не жрут, держаться на психике, все с язвой...»
При чем же здесь трусость? И все же. А мой герой? «Не штормит?» — спросил его Санька Чумак. Выходит, каждый, кому не лень, всю жизнь просидевший на одном стуле и за одним столом, будет мыть тебе косточки и говорить или хотя бы думать — струсил.
Я отложила рукопись.
Письменный стол исчез. Против меня, ухватившись обеими руками за рулон ковра, сидела тридцатилетняя женщина. Рядом с ней двое мужчин.
Один из них, не испытывая ни малейшего снисхождения к ее возможным чувствам, гордый своей проницательностью, говорил соседу:
— Я спрашиваю: мужик есть или нет? Говорит, есть, а у ней нет! Ха-ха, нет у ней мужика! А говорит, есть.
Женщина яростно-затравленно оборонялась:
— Черти тебя разжигают... бабка тебя встретит... нажрался...
Потом другая оборотила ко мне свое загорелое шелушащееся лицо:
— До развода доходили этой зимой. Выпивает он. Сама-то ты замужем?
— Вы мешайте, чай сладкий. — Я постаралась уйти от ответа.
— Я только холодную, теплой никогда не напьюсь. Работаем в поле, пьем всякую, какую придется. Сама-то ты замужем? — вновь спросила она.
В неярком освещении вагона, когда сумерки занавесили окна, случайная попутчица, маскируя небрежностью тона душевную боль, делилась сокровенным. «А сама-то ты?» — при этом спрашивала она, чтобы сравнить, чтобы выверить свою судьбу с другой женской судьбой. Она развязывала при этом завернутую в платок еду, и руки ее, большие, с коротко стриженными ногтями, двигались спокойно и несуетливо.
Среди вернувшихся рассказов я отыскала тот, в котором две молодые женщины также вели трудный для обеих разговор:
— Что ты все молчишь, таишься? И долго ты будешь одна? Тебе почти тридцать. Еще десяток лет, и...
Алена и Вика сидели за чайным столом на кухне городской квартиры.
Вика, в тонком свитере, по моде без лифчика, гибкая, нервная, то и дело вставала и прикуривала от горевшей газовой горелки. Она хотела во что бы то ни стало вывести подругу из тупика, в который, ей казалось, та попала.
Но Алена, наклонив голову, мешала ложечкой чай и молчала.
Вика сделала еще одну попытку.
— Иду я вчера переулком, — сказала она, — навстречу мне женщина лет сорока.
— Еще десяток лет, и...
— Вот именно. Слушай. Идет такая довольная, вся в гриме. Ну просто килограмм грима. И улыбается. Я решила — чокнутая. У нас диспансер рядом, сама знаешь.
— Это тоже имеет отношение ко мне? — сказала Алена.
— Постой. Вдруг она меня останавливает и говорит: «Извините, скажите, как я, ничего?» И проводит перед собой рукой сверху вниз. Я несколько обомлела, говорю: «Ничего». А она: «Я пять суток не сплю, замуж вышла. У лимитчицы мужа увела. — И опять: — Правда, ничего?»
— Все понятно, — сказала Алена, — обещаю через десять лет увести у лимитчицы мужа и так же от радости спятить. А пока дай мне пожить спокойно.
И не ясно было Вике, что крылось за этим — искреннее ли желание быть одной или это бравада, за которую пряталась Алена от других, а главное — от себя.
Алена продолжала мешать чай. Потом принялась постукивать ложечкой по губам и смотреть сквозь тонкие занавески на улицу.
— Может, я не права, — сказала она. — Все хотят устроить жизнь, копить золото, чтобы после смерти мужа было что продать. А?..
Я всякий раз хоронила себя, чтобы не повторяться, и всякий раз воскрешала для новой вещи.
— А бывают гонки на трое суток, — говорил мне в поезде юноша. — После двух дают два часа поспать, и опять. На третьи чувствуешь себя как Христос и жить не хочется.
В квартире без конца звонил телефон, вековые тополя за окном роняли лист, а я вглядывалась в лица, чьи судьбы были так близки и так по-своему неповторимы.
— Мест нет, дорогуша, но потесниться можем! — говорили мне эти люди.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





