ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
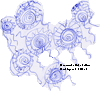
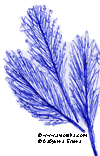

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Войтоловская Лина 1980
В этот большой новый дом они переехали в один день, лет за шесть до войны. Тогда он стоял почти на самой окраине Москвы и казался солидным и красивым. В узкий, заваленный строительным мусором двор только с одной стороны попадало солнце — с трех сторон его охватывала семиэтажная громада с прилепленными снаружи лифтами.
Квартиры обеих женщин были расположены друг против друга в широких частях буквы «П», но двор был настолько узок, что они могли свободно разговаривать, стоя в своих кухнях у окон.
Обе были на последних месяцах беременности.
Мария Никаноровна, маленькая, худенькая, носила широкие платья, куталась в оренбургский платок и старалась как можно тщательнее скрывать свою беременность. Мария Александровна, высокая, крепкая, широкая в бедрах и плечах, нисколько не стеснялась своего тяжелого живота. Да он ей и не мешал — она двигалась быстро, все делала споро, легко; в глубине ее небольших, черных глаз всегда как бы таилась готовность рассмеяться любой шутке, ответить улыбкой на любое доброе слово. Она органически не могла сидеть без дела. Уйдя в декрет со своего шинного завода, где работала уже три года, пройдя путь от чернорабочей до помощника бригадира, она растормошила управдома, заставила убрать и вывезти со двора мусор, жильцов уговорила вскопать грядки, собрала деньги и послала своего мужа шофера куда-то за город; он привез полную машину тоненьких тополиных хвостиков, сиреневых черенков и несколько ящиков никому неизвестной рассады. Он же сколотил скамейки и вкопал их неподалеку от подъездов.
Вот в этом, пока еще карликовом, саду в тихие, светлые весенние вечера сидели две женщины, ожидавшие рождения детей. Что их связало? Что сделало подругами? Может быть, как раз это ожидание? А может быть, их потянуло друг к другу потому, что одна подсознательно жалела другую за слабость, а та, другая, тоже подсознательно искала сильное плечо, на которое можно опереться. Возможно. Но вот так, с самых первых дней знакомства, они и стали подругами.
Однажды, когда Мария Никаноровна чувствовала себя особенно слабой, почти больной, она призналась:
— А мы ведь с Федей не хотели его. Да вот доктор сказал, что нельзя больше...
— Чего нельзя? — не поняла Мария Александровна.
— Ну... избавляться... Я ведь три года уже замужем. А ты говорила — года еще нет, и уже... А любовь? Не может мужчина как раньше любить такую уродину, вот как я сейчас...
— Смешная ты, Маша! — засмеялась Мария Александровна. — И глупая еще, как девочка-подросток. Это только в книжках да в кино бывает — любовь, любовь, а дети не родятся! А я так понимаю — без детей и любви-то никакой нет!
— Философ! — усмехнулась Мария Никаноровна. — А я вот все время боюсь, что Федя мой меня любить меньше будет...
Мария Александровна легонько вздохнула.
— Бывает и так, — сказала она задумчиво. — Но нет, не похоже. Он к тебе добрый... Вон какой занятой, государственный, можно сказать, человек, а все — «не простудись, не поднимай тяжелого, не утомляйся». Ты уж извини, а голос у него зычный, начальственный, мне в моей кухне каждое слово слышно...
Подолгу сидели они на скамейке и разговаривали. Вернее, говорила Мария Никаноровна, Мария Александровна больше слушала.
О своей юности Мария Никаноровна рассказывать не любила; ей казалось, что до встречи с Федей ничего интересного и хорошего в ее жизни не было: маленький белорусский городок, отец — портной, мать — домохозяйка, вечно озабоченная, всегда и всем недовольная; с двумя братьями и сестрой она никогда особенно не дружила, а старшего даже немного побаивалась; он переехал в Москву, стал инженером и после того, как она кончила девятилетку, выписал ее к себе для продолжения учебы. Но ни к чему она не чувствовала интереса и так и не смогла выбрать, куда пойти учиться. Да и не хотелось ей вовсе учиться — Москва увлекла ее шумом, многолюдьем, новыми знакомствами. Как-то у брата она увидела его бывшего однокурсника Федора Петровича Коротича, Федю и... и тут-то началась ее настоящая жизнь. Они поженились через две недели после первой встречи. И вот об этом, об этих первых днях, она могла говорить бесконечно, не замечая, что повторяет все те же подробности, все в тех же выражениях, все с той же интонацией.
Мария Александровна слушала ее внимательно и сочувственно — ей казалось, что подруга говорит обо всем этом так часто не только потому, что ей приятно вспоминать первые дни своего знакомства с Федей, но и потому, что старается убедить себя, что муж и сейчас любит ее так же сильно, как и прежде. И, глядя на ее отекшее лицо, на острые плечи, обтянутые пуховым платком, Мария Александровна жалела ее чуть-чуть снисходительной, бабьей жалостью.
— Да неужто ты ничего хорошего и вспомнить не можешь про молодость, кроме Феди своего? — как-то перебила Мария Александровна подругу.
— А что хорошего было? Жила в провинции... Всю жизнь помню, как мать делила еду — старшим братьям побольше, сестре и себе поменьше, а нам с отцом чуть ли не объедки... И сто раз перешитые на меня сестрины обноски! Да и у брата я жила не лучше... Нет, не люблю я об этом...
— А я вот — нет. Я свой поселок любила. Да и сейчас люблю. Речка у нас веселая. Утром еще туман, а мы с девчонками купаться бегали. А зимой по льду на ту сторону — там у нас на горушке школа была. И знаешь, я здорово любила грибы собирать. Уж и не девочкой была, девушкой взрослой, а не было для меня большего удовольствия, как в лес на целый день с самой зари забраться...
— А я лес не люблю. Одна ходить боюсь: как зайду, так и не знаю, как обратно пройти, — все деревья, все тропинки для меня одинаковые, боюсь заблудиться...
— Да какой у нас лес? Разве в таком лесу заблудишься? Это тебе не Сибирь — Подмосковье. А все равно — грибов! На всю зиму собирала. И знаешь, у меня такая, ну, вроде игра была: вот задумаю — там, за березками, да за большой елью стоит мой великий гриб, самый-самый великий гриб. Он спрятался, не дается, но я знаю — он там. А я к нему не пойду! Не буду его искать. Обману его! Ни за что не пойду! Он ведь тоже может меня обмануть, и его там не окажется. Но нет, я знаю, он конечно же — там! Да пусть стоит — все равно он мой самый большой за всю жизнь гриб... Смешно? А я вот так всегда любила играть... Понимаешь?
Мария Никаноровна безразлично пожала плечами.
— А еще я до Сергея своего вроде бы женихалась. Не то что все уже решено было, да как-то так у нас ладно получалось — он меня на три года старше был, сосед наш; учиться сперва помогал, а потом мы с ним и в клуб на танцы вместе, и по главной улице по вечерам гуляли. У нас поселок маленький, все нас видели, все так и думали — вот из армии придет, и мы поженимся. А я как-то об этом и не задумывалась — замуж так замуж. Ну, ушел он в армию, стал на летчика учиться. А тут в поселок Сергей приехал, с грузом. У нас остановился. Три дня прожил. Как-то так получилось, что стал он почти каждый выходной приезжать. Уговорил в Москву перебраться. На завод устроил, общежитие выхлопотал. А через год мы с ним поженились. Сосед мой, Геннадий, Гена, тот еще раньше женился, мальчишки у него уже родились, двое, близнецы. Пишет он мне иногда. Летную школу кончил, служит далеко, на Дальнем Востоке...
— Жалеешь? — впервые заинтересованно спросила Мария Никаноровна.
— Чего жалеть? Нет, не жалею. Я теперь-то понимаю — замуж я за него если б пошла, — может, у нас и не сложилось бы. Просто молодые были, весело нам было друг с другом, дружили, это так, а замуж? — нет. Это я тогда ничего не понимала, девчонкой была, да и слушала, что все вокруг говорили, а сама я... Вот же, когда женился, нисколечко мне не обидно было. Значит, и хорошо, что так получилось.
— А любит тебя твой Сергей? Ты уверена?
— Наверное, любит. А то зачем же ему было меня сюда тащить, жениться, ребеночка заводить?..
...Как это ни странно, Мария Никаноровна при всей своей хрупкости и внешней слабости родила легко — мальчишка оказался крепким, здоровым и на редкость горластым. Его басовитый рев заполнял узкий дворик и, отражаясь от стен противоположного корпуса, многим соседям не давал спать по ночам.
А Мария Александровна за несколько дней до родов оступилась, ребенок неудачно повернулся, и пришлось помогать ему выбираться на свет божий. И мать и мальчик долго не могли оправиться. Вынесла его Мария Александровна во двор погулять только к осени. Мария Никаноровна еще не вернулась с дачи. Когда поздней осенью увидела подругу — ахнула: из молоденькой и веселой она сразу превратилась во взрослую, озабоченную женщину. С работы ей пришлось временно уволиться — не на кого было оставить слабого малыша.
Ну, а Мария Никаноровна, которая вообще еще в жизни никогда не работала, оправилась довольно быстро и так же быстро удобно устроила свою жизнь — выписала из деревни старшую сестру своего Феди вековуху-горбунью Настю, и постепенно все домашние дела и заботу об Алеше она переложила на нее и зажила свободно и легко: продолжала ездить с мужем в командировки, на курорты, почти каждый вечер отправлялась в театр или в кино, а то и просто поболтать с многочисленными приятельницами. Как видно, она уже не очень беспокоилась, что Федя будет ее меньше любить, — она похорошела, пополнела, перестала походить на испуганную девочку.
Но дружба двух Марий не прервалась. В те редкие минуты, когда Мария Никаноровна, которую по старой памяти все соседи продолжали называть Машей-маленькой, появлялась во дворе, она подсаживалась к медленно поправлявшейся Маше-большой и начинала рассказывать о своих поездках, о спектаклях, которые видела, о картинах — муж ее по положению своему получал билеты почти на все премьеры; часто, когда он бывал занят, а занят он бывал почти всегда, она ходила без него по этим билетам с подругами или теми молодыми людьми, которые пытались за нею ухаживать.
Мария Александровна слушала ее с интересом, внимательно, но иногда ей казалось, что Маша-маленькая немного рисуется перед ней. «А пусть, — думала она в такие минуты. — Пусть и прихвастнет немного, ведь она так и осталась девчонкой...»
Иногда, когда Настя бывала занята по хозяйству, Мария Никаноровна выходила во двор погулять с Алешей. Так было и в этот вечер.
Алешка бегал взад-вперед по узкой дорожке и пронзительно дудел в длинную, ярко разукрашенную дудку.
— Прекрати! — внезапно резко сказала Маша-маленькая. — Голова раскалывается! И сколько раз я тебе говорила — не бегай, как сумасшедший! Вот Коленька спокойно копается в песочке, а ты...
— Да пускай его бегает, — улыбнулась Маша-большая. — Здоровее будет. Я бы рада была, если б мой Коля вот так целый день носился. Слабенький он, — вздохнула она.
— Зато послушный, — ответила Маша-маленькая. — Избаловала мне его Настя вконец!
— Любит его, — ответила Маша-большая. — Она вообще детей любит. Добрая, несмотря что горбунья.
— А что ей остается? — чуть пренебрежительно пожала плечами Маша-маленькая. — Ведь своих-то никогда не будет...
Алешка решительно вырвал у Коли пластмассовый автомобиль и, смеясь, помчался в другой конец двора.
— Отдай сейчас же! — крикнула Маша-маленькая. — Как тебе не стыдно, он же...
— Не трожь их, — строго перебила ее Маша-большая. — Сами разберутся...
Через минуту ребята уже мирно играли вместе, строили какое-то грандиозное сооружение из песка и прутиков.
— Вот что, Маша, — сказала Мария Никаноровна. — Я тебя очень прошу, приглядывай здесь за Алешкой. Мы на той неделе уезжаем. Надолго. Месяца на два, на три самое меньшее.
— Опять, — осуждающе покачала головой Мария Александровна. — Что же ты Алешку с собою не берешь?
— Что ты! Весь завод переводят. На голое место. Двадцать километров от города.
— Так, поди, директор-то в бараке жить не будет, квартиру дадут.
— Да, но... Значит, и Настю туда тащить нужно... А здесь? Бросить пустую квартиру, все...
Что-то в ее голосе заставило Марию Александровну пристально посмотреть на подругу. И снова тронула ее легкая жалость — лицо этой цветущей, ухоженной женщины показалось ей таким же грустным, незащищенным, каким было оно в те давние дни ее тяжелой беременности.
«Что-то здесь не так, — подумала Маша-большая. — Скучают они? А может, Федор-то Петрович и не скучает вовсе?»
Но подруга уже выглядела, как пять минут назад, — спокойное, довольное лицо, веселые глаза.
«Да нет, показалось мне. Все у нее хорошо. Ну и ладно. Пусть едет».
...Федора Петровича и Марии Никаноровны не было более полугода. Алеша и Настя словно бы и не замечали их отсутствия. Настя всегда была спокойна, заботлива, Алешка весел и здоров.
Коленька тоже окреп за это время, пошел в детский сад, и Мария Александровна вернулась на свой шинный завод.
Когда Коротичи вернулись в Москву, его назначили директором треста, и почти год, до самого начала войны, они больше уже никуда не ездили. Но в сентябре сорок первого завод, на котором он когда-то работал, эвакуировали из Белоруссии в Среднюю Азию и перевели на выпуск продукции, необходимой фронту; Федор Петрович снова стал его директором. В том же сентябре вся семья Коротичей эвакуировалась в Ташкент.
Подруги прощались так, как все в те дни, — не надеясь скоро увидеться. Обе плакали. Мария Александровна еще и потому, что неделю назад проводила мужа на фронт; завод ее оставался в Москве, и ей было страшно за Коленьку и тоскливо без него: детский сад перевели «на казарменное положение» — детишек домой не отпускали, а матери могли видеться с ними только один раз в неделю...
Мария Никаноровна эвакуировалась солидно, не так, как многие тогда — с одним рюкзаком за плечами и с детскими вещичками в узелке. Нет, она везла с собой в Ташкент даже хрустальную люстру, упакованную в несколько картонных коробок. В Ташкенте она обосновалась почти так же солидно, как всюду, куда ездила раньше с мужем. Казалось, откуда бралась у нее, хрупкой, с виду довольно болезненной, эта практическая сметка, это умение использовать все и вся для того, чтобы свою жизнь делать незатруднительной и удобной? Оказывается, был у нее талант, да и изрядный опыт, быстро превращать место, где она ненадолго оседала, в теплый, уютный дом. Когда Федор Петрович бывал с нею, она вела себя так, будто не было ни войны, ни голодных людей вокруг; из немудрящих продуктов, которые ей удавалось получать или выменивать на базаре на старые тряпки, захваченные из Москвы, она готовила вкусные блюда и, как и прежде, самые аппетитные куски клала на тарелку мужу. Но как только он уезжал — возил ли продукцию своего завода на фронт или выезжал по вызовам в Москву, — она словно бы отключалась, почти не разговаривала ни с Алешей, ни с Настей, вечера проводила с новыми друзьями — эвакуированными сюда кинематографистами, ленинградскими и московскими писателями. Она органически не умела бывать одна, а Настя и Алешка ее утомляли. Но как только появлялся Федор Петрович, она словно выздоравливала, однако совершенно не замечала, как мало времени она проводит с мужем: было достаточно сознания, что он здесь, при ней, дома, и хоть ночью она может видеть его и знать, что он в безопасности.
Так прошла война, в общем, почти ее не затронув.
В начале сорок пятого Коротича вызвали в Москву. Мария Никаноровна настояла, чтобы он и ей организовал вызов, и уехала с ним. Настю с Алешей они пока оставили в Ташкенте — мальчик перешел в третий класс, и не было смысла срывать его среди учебного года.
Подруги — Маша-большая и Маша-маленькая — встретились радостно, но обе сразу заметили, как по-разному для них прошла война. В жизни Марии Никаноровны почти ничего не изменилось — ее Коротич был здоров и невредим, как и прежде занят большой работой; она же, как и прежде, не работала и все силы отдавала хлопотливому заполнению свободного времени: всегда была занята и всегда куда-то торопилась — то на встречу с приятельницей, то на очередную премьеру, то в чистку, то в магазин, то в парикмахерскую, то в прачечную.
И ни разу ей не пришло в голову, что вся эта суета и спешка просто подсознательное желание заглушить внутреннюю неустроенность, неуверенность в себе, в своих силах. Она этого просто не понимала. Но это прекрасно видела Маша-большая. Может быть, она и не могла сформулировать все словами, но именно за эту шаткость и жалела она свою благополучную подругу.
А у Марии Александровны жизнь после войны сложилась трудно. Муж ее тоже вернулся как будто невредимым, но вернулся соврем не таким, каким уходил на фронт в сорок первом. Он стал с нею груб, выпивал, ни за что поколачивал Коленьку, часто без особой причины менял место работы и однажды уехал, не сказав куда, да так больше и не вернулся. Она ждала его долго, никому ничего не рассказывая, ни у кого ни о чем не спрашивая. Через год она получила письмо из Петропавловска-на-Камчатке от своего старого деревенского друга Геннадия, прилетавшего туда в командировку. Он писал, что муж ее живет с другой женщиной, работает на консервной фабрике бригадиром разделочного цеха, много зарабатывает, так что стоит требовать с него алименты на Колю. Но она не послушалась этого совета, она просто начисто и навсегда вычеркнула его из своей жизни и из Колиной памяти. И с этой минуты ей стало как будто легче. Теперь она знала, что надеяться может только на себя да на подраставшего Коленьку.
Мария Никаноровна не задавала ей никаких вопросов о Сергее. Может быть, не хотела расстраивать подругу, может, потому, что слишком была поглощена своими собственными делами, а отчасти и потому, что инстинктивно отталкивала от себя все неприятное и огорчительное. Осенью приехали Настя с Алешей, и с их приездом атмосфера в доме как-то странно напряглась. Настя ходила хмурая, чем-то озабоченная, Алеша был занят школой, ребятами, дружбой с Колей и по-прежнему всеми своими горестями и радостями делился только с Настей.
Федор Петрович почти не бывал дома — до ночи, а иногда и ночи напролет просиживал на работе, часто ездил в командировки в свою родную Белоруссию, но, несмотря на занятость, со всеми домашними бывал неизменно ласков, весел и ровен. Нет, ссор в доме не было. Даже небольших конфликтов никогда не бывало. Поэтому так однажды всех удивила Настя. Вечером, когда Федор Петрович сидел за столом вместе с Марией Никаноровной и Настей, — Алешка давно уже спал, — сестра вдруг сказала негромко, но очень твердо:
— Вот что, Федя. Решила я просить тебя выделить мне, как бы сказать, зарплату.
— Что? Что ты такое говоришь, Настя? Какую зарплату?
— А обыкновенно — зарплату. За мою работу. Ведь ежели бы меня не было, вы бы домработницу взяли, верно?
— Возможно, — неуверенно отозвалась Мария Никаноровна.
— Ну вот, — упрямо продолжала Настя. — Так считайте, что я у вас домработницей работаю.
— Я не понимаю, — растерянно произнес Федор Петрович. — Ты ведь у нас полная хозяйка, Настенька. Была ею. И будешь. Что же ты?
— Нет, — покачала головой Настя, поведя высокими плечами, отчего еще заметнее стал ее горб. — Хозяйка вот она, Мария Никаноровна.
— Да какая же она хозяйка!? — засмеялся Федор Петрович. — Она без тебя и шагу ступить не может.
— Пусть и не ступает. Я разве что против говорю? А зарплату все равно мне выдели. Немного. Ну, хоть рублей триста.
— Не понимаю, зачем это вам надо? — обиженно сказала Мария Никаноровна. — Вы ведь и деньгами распоряжаетесь, и покупаете себе все, что хотите, и шьете... Не понимаю! Разве я вас чем-нибудь обидела?
— Ничем ты меня, Маша, не обидела, я всем довольная.
— Так что же тебе надо? — возмутился Федор Петрович. — Объясни, я ровно ничего не понимаю.
— Ладно, скажу уж. Не хотела говорить, да вижу — Маша обижается, а у меня и в мыслях нет ее обижать! Ты Устю Колачич помнишь? — обратилась она к Федору Петровичу. — Устю, самую мою верную, самую старую подружку? Помнишь?
— Ну, помню.
— Знаешь, ведь у нее еще до войны четверо ребят было. Мал мала меньше. Погодки все. А в войну — пятый родился, в сорок первом, по дороге, как бежали из села. Выжил мальчонка. Ну, вернулись они в село, а там — ни хаты, ни сараюшки — все начисто немцы спалили. А мужа ее в самом конце войны убило, снарядом разорвало. Одна она с пятерыми. В землянке живет. Я письмо от нее получила. Болеют ребятишки, голодуют. Так вот, решила я ей часть своей зарплаты посылать, а на оставшиеся одежку какую, хоть старенькую, ребятам покупать да чего-нибудь из еды — здесь-то на рынке иногда кое-что достать можно. Понял теперь?
— Понял. Думаю, права ты, Настенька. Конечно, на твоей зарплате Устя не разбогатеет, а все-таки ты как настоящая подруга поступишь. Верно, Машенька?
— Верно.
— А не мало тебе — триста?
— Думаю, хватит. Больше-то с одной твоей зарплаты и не потянешь.
Настя сразу успокоилась, повеселела.
— Я Алешины обноски берегла, не бросала. Можно я их тоже Усте пошлю? Кому-нибудь из ребятишек сгодится...
— Поступайте, Настя, как знаете. Кстати, мои старые платья тоже можете послать Усте.
Федор Петрович весело рассмеялся:
— Да она тебя в два раза выше и в два раза шире!
— Ничего, — кивнула Настя. — Пошлю. Кому из ребятишек переделает, а то и соседкам раздаст. Спасибо тебе, Машенька.
В последний раз она назвала Марию Никаноровну по имени и на «ты». С этого дня она вообще к ней никак не обращалась и говорила ей только «вы».
Мария Никаноровна быстро привыкла к новым отношениям. Настолько быстро, что уже через месяц сказала Насте сухо:
— Советую вам завести тетрадь, куда вы будете записывать расходы по дому. Я, конечно, не буду ничего проверять, но так будет удобнее и вам... и мне.
Настя искоса глянула на Марию Никаноровну; ее веселый, курносый нос чуть сморщился, губы дрогнули в улыбке, но она промолчала, и с того времени на столе в столовой каждую субботу появлялась толстая общая тетрадь с аккуратными столбиками цифр. Настя добросовестно записывала все, вплоть до такого: «Алеша нищему инвалиду — 20 копеек». Само собою разумеется, что при появлении Федора Петровича тетрадь исчезала — которая-нибудь из женщин торопливо прятала ее в ящик кухонного стола. Проверяла ли Мария Никаноровна эти записи? Неизвестно. Во всяком случае, она никогда о них ничего не говорила Насте. Жизнь семьи по-прежнему шла спокойно и благоустроенно, нарушала это размеренное существование только всегда куда-то торопящаяся и опаздывающая Мария Никаноровна. Но к ее нервозности все в доме уже привыкли и просто не обращали на это внимания.
Один Алеша позволял себе слегка подтрунивать над матерью.
— Не торопись, мама, все равно опоздаешь, — говорил он, наблюдая за тем, как Мария Никаноровна ищет то сумочку, то перчатки, то завалившуюся куда-то книжку, которую надо обязательно сегодня отдать. — Лучше скажи, как тетя Маша: «Черт, черт, поиграй и отдай», — и все сразу найдется...
— Что за болтовня, какой еще черт? — возмущалась Мария Никаноровна, продолжая свои лихорадочные поиски. — И не приставай, из-за тебя я действительно опоздаю...
— Вот-вот, из-за меня! — смеялся Алешка, нисколько не обижаясь на мать за резкий тон. — Все плохое всегда делается из-за меня...
Болел Алешка редко, учился превосходно, развлекал себя сам и ни от кого не требовал особого внимания, так что Мария Никаноровна не только привыкла не беспокоиться о нем, но почти его и не замечала. Только в такие минуты что-то в его свободном, насмешливом топе заставляло ее настораживаться. Но она тут же успокаивала себя: «Просто умный, развитой ребенок. И умеет шутить. Это очень хорошо, когда такой маленький уже умеет шутить!»
В конце сорок седьмого года Коротич получил весьма почетное, но довольно странное назначение — неожиданно для себя он стал заместителем министра торговли в его родной республике. Его уверили, что это ненадолго, что года через два, когда он наладит эту сложную область народного хозяйства, он вернется к своей специальности, но сейчас в полуразрушенной и медленно восстанавливающейся республике нужны именно такие — талантливые, инициативные и безупречно честные коммунисты. Конечно, он подчинился. И верил в то, что вернется скоро в Москву, в свое министерство и снова займется тем, что он знал и любил.
Даже Марию Никаноровну удивило это назначение. Но она, как всегда, безропотно согласилась ехать с ним в Минск. И как прежде, не сговариваясь, они оба решили беречь московскую квартиру и прописку — каждые несколько месяцев Мария Никаноровна намеревалась приезжать домой, затем снова уезжать к мужу, прожив в Москве месяц-другой.
Естественно, Настя и Алеша остались на старом месте. Приезжая, Мария Никаноровна по-прежнему уделяла им мало внимания — все дома шло как надо, оба были здоровы, Алешка учился, рос, становился все серьезнее и одновременно все насмешливее и самостоятельнее. Летом вместе с Настей они ездили под Минск, на дачу, расположенную над огромным тихим озером, а осенью Алешка возвращался в свою школу, к своим товарищам, к своим увлечениям и недели через две совершенно переставал скучать по родителям; отца еще он изредка вспоминал, но мать отдалялась так быстро, что, когда она вскоре приезжала, он вынужден был как бы знакомиться с нею заново. Может быть, из чувства самосохранения, так развитого в одиноких детях, он просто боялся накрепко привязываться к ней, чтобы не так болезненно ощущать ее отсутствие. Он был с нею всегда вежлив, послушен, но как-то по-взрослому сдержан — никогда не ласкался к ней и, если бывал огорчен ссорой с товарищами или неважной отметкой, никогда ей об этом не рассказывал. На ее рассеянные вопросы отвечал рассудительно, равнодушно. В вечной своей спешке и предотъездной суете, которая охватывала ее уже в первый же день приезда, Мария Никаноровна ничего не замечала, а наоборот, радовалась разумности и спокойствию сына.
К подруге своей она в каждый свой приезд непременно забегала два или три раза, именно забегала на несколько минут, не вникая глубоко ни в ее жизнь, ни в ее горести и заботы, хотя неизменно привозила дорогие, но совершенно не нужные подарки, вроде хрустальных вазочек или изделий народного творчества. А Мария Александровна радовалась и этим подаркам и, главным образом, тому, что Маша-маленькая выглядит почти так же молодо, так же красиво причесана и оживлена, как в прежние годы. Единственное, что она осуждала в подруге, но никогда ей об этом не говорила, это ее отношение к сыну.
Алеша с Колей проводили почти все свободное время вдвоем — как в раннем детстве, — вместе занимались, вместе играли, вместе конструировали какие-то немыслимые звездолеты, бегали в кино на детские сеансы, в геологический музей, на каток. Мария Александровна понимала, что характер у Коли слабее, что сын попросту находится под влиянием более живого и здорового мальчишки, но, наблюдая за ними, видела, что Алеша никогда не проявляет своей власти, никогда ничего не приказывает, как это бывает среди мальчишек. Наоборот, Колина мягкость часто заставляла Алешу подчиняться более слабому. Словом, они по-прежнему дружили, и Мария Александровна радовалась не только за сына, но и тому, что Алеша растет хорошим и справедливым и что в свои двенадцать-тринадцать лет он был уже полностью сложившимся человеком, со своими жизненными принципами, с точным знанием, что хорошо, что плохо. Нет, конечно, он не был маленьким взрослым, он был самым настоящим озорным и живым мальчишкой, но он стойко переносил разлуку с родителями, презирал лгунов и лицемеров, ненавидел трусость и учился не ради хороших отметок, а потому, что ему было интересно... Мария Александровна жила все так же трудно, ни от кого не ожидая и не принимая помощи. Каждое лето она отсылала Колю в поселок к тетке, сама же, научившись малярничать, весь отпуск ходила «на халтуру» и заработанные деньги отсылала на Колино содержание. Ни ее фабричные подруги, ни тетка, ни соседи не знали об этом, и, возвращаясь после отпуска в цех, на вопрос, как она отдохнула, неизменно и коротко отвечала: «Отлично!»
Несмотря на замкнутость, ее любили на заводе. Она была из тех, кто умеет слушать. Поучать и советовать она стыдилась, но почему-то женщины ее бригады всегда со своими заботами и волнениями приходили к ней. Она выслушивала их доброжелательно и молча, но товаркам казалось, что, уходя после душевного разговора, они получали от нее именно тот, самый нужный совет, которого ждали.
И еще было у нее одно свойство, которое все уважали, а многие и побаивались его: она не терпела малейшей несправедливости, ловкачества. Встречаясь с проявлениями этих черт у любого — от ученицы до мастера, она становилась резкой, даже иногда грубой, и не останавливалась ни перед чем, пока не добивалась того, что считала правильным. Само собою так вышло, что сперва ее выбрали в цехком, потом и в завком, куда все обиженные или недовольные приходили к ней и не уходили до тех пор, пока она не принимала решения, не добивалась правды.
Кончая смену, она тщательно мылась, переодевалась во все «уличное», а дома снова мылась и снова переодевалась. И все же от нее всегда исходил едва уловимый запах лака, ацетона, словно сладковатый аромат нового, еще не стиранного ситца.
В те редкие дни, когда Коротичи бывали в Москве и подругам удавалось посидеть часок на скамейке во дворе, Маша-маленькая прижималась на минуту к Маше-большой и как бы принюхивалась: ей нравился исходивший от нее запах; он напоминал ей спокойную, ленивую чистоту парикмахерской.
— Как от тебя вкусно пахнет, — говорила Маша-маленькая, по-детски морща нос.
Маша-большая улыбалась в ответ...
Спустя лет семь после исчезновения мужа Маша-большая неожиданно получила от него письмо. Он писал, что жизнь его с новой женой не сложилась и, если Маша его простит, он вернется и заживут они снова вместе. Всю ночь Мария Александровна перечитывала письмо и горько плакала. Но наутро порвала вместе с конвертом и выбросила, чтобы забыть адрес и случайно не соблазниться и не ответить. Даже закадычной подруге своей Маше-маленькой она ни словом не обмолвилась, что Сергей захотел вернуться к ней. Было, отболело, прошло. Больше он не писал, видно, поняв, что не нужен ни ей, ни сыну...
Мальчики взрослели. Алеша давно перерос не только мать, что было нетрудно, но и отца; на подбородке у него уже появился пушок, и он втайне мечтал о том времени, когда начнет бриться. Оба кончили восьмой класс — Алешка на одни пятерки, Коля на тройки. С осени, так решили они с матерью, Коля должен был пойти в ремесленное училище. Алеша тоже было потянулся за ним, но родители решительно восстали. Пришлось покориться.
Этим же летом Коротичи вернулись в Москву — Федору Петровичу предложили перейти на другую работу, он ждал нового назначения.
А осенью неожиданно умерла тетя Настя. Она почти никогда не болела, только в последние месяцы начала сильно задыхаться, стали отекать ноги. Но она все относила за счет своего горба да еще за счет возраста — ей было уже под шестьдесят — и к врачам не обращалась. Умерла ночью, во сне, как потом определили врачи — от сердечной недостаточности. Это было первое настоящее горе в жизни Алеши. Несмотря на присутствие родителей, дом ему казался пустым и совершенно чужим.
Вскоре Федор Петрович выехал работать в одну из социалистических стран.
Получив броню на квартиру, Коротичи уехали, поместив сына в интернат для детей дипломатов.
Алеша по-прежнему учился хорошо. Он теперь редко виделся с Колей и Марией Александровной. Дружба их не прервалась, как и дружба обеих Маш, но просто ни у того, ни у другого не было времени на дальние поездки и веселые прогулки. Летом он ездил к родителям, привозил оттуда Коле и Марии Александровне подарки, и по тому, что он привозил, Мария Александровна понимала: выбирал он их сам — это были уже не вазочки и дорожки, а теплые кофты для нее и красивые, добротные куртки или джинсы для Коли.
Школу он закончил с золотой медалью. Летом к родителям не поехал — готовился к поступлению в геологический институт.
Коротичи вернулись через год, снова недолго пробыли в Москве и отбыли в одну из небольших, только что образовавшихся африканских республик.
За четыре года они приезжали один только раз — далека и трудна была дорога домой; Мария Никаноровна сильно прихварывала, у нее открылась язва желудка. Да и Федор Петрович чувствовал себя не наилучшим образом. Не потому, что Африка — жаркая страна. Нет, как раз в этой маленькой республике климат был превосходным; правда, не было зимы, только период дождей, но летом жара нисколько не мучила — жили они на берегу океана, а в доме и на службе безотказно действовали кондиционеры.
Жизнь Марии Александровны тоже постепенно наладилась: она больше не тревожилась за сына — Коля работал на заводе имени Лихачева в сборочном цехе, зарабатывал неплохо, уже год, как женился, и сноха должна была вот-вот родить.
За три месяца, что Маша-маленькая пробыла в Союзе, подруги виделись всего два раза — в день ее приезда и в день отъезда. Они ни о чем толком не успели поговорить — супруги тут же отбыли в санаторий, а потом усиленно лечились перед новым назначением. Маша-маленькая, наверное, так и не узнала, как изменилась судьба подруги, а если и узнала, то просто не обратила на это внимания. Ведь внешне все обстояло так же, как и раньше, — каждый день Маша-большая отправлялась на работу, приходила поздно, все такая же усталая, хотя из цеха она ушла. Химики на пенсию уходят рано, пришел и ее час; никто, да и сама Маша не могли себе представить, что она покинет завод. Как раз в это время перевелся на очное отделение института освобожденный секретарь завкома, и Маше-большой предложили занять его место. Она согласилась не сразу — ей казалось неудобным почти за ту же работу в завкоме, какой она занималась раньше, начать получать зарплату, служить. Ее уговорили товарки.
— Не упрямься, Мария! — подвела итог спорам лучшая ее заводская подруга Наталья из вулканического. — Сколько председателей сменилось, а тебя мы всегда в завком выбирали. Это только так считается, что ты туда для бухгалтерской отчетности идешь! Чепуха! Что раньше для нас делала, то и будешь. В зарплате против пенсии только четыре рубля потеряешь, а когда совсем бросишь работать — свою химическую получать будешь. Иди!
Уговорили. Пошла. Но первое же дело, с которым она столкнулась на новой работе, поначалу поставило ее в тупик.
К лучшему сборщику Ивану Митрофановичу Соколову, знаменитому не только на своем заводе, но и в Ленинграде и Кирове, куда он ездил делиться опытом, прикрепили трех молодых ребят, только что закончивших ремесленное. Двоим было уже лет по семнадцать, рослые, сильные парни, в меру модно подстриженные, с уже заметным пушком на тугих щеках. Они добросовестно перенимали движения и приемы работы наставника и вскоре стали выполнять задания ровно на столько, на сколько это полагалось ученикам. В цеху, видно, за немного нарочитую солидность, к ним обращались по фамилии — Королев, Семенов. Третий же выглядел совсем мальчишкой — худенький недоросток, юркий, быстрый, со всегда смеющимися узкими глазами. Все объяснения и указания он схватывал на лету, был радушно-услужлив, и в первый же день все стали звать его ласково-уменьшительно — Сашок.
Вот из-за этого смышленого паренька и разыгрался конфликт, охвативший вскоре почти весь завод.
Однажды в завком к Марии Александровне прибежал Сашок и попросил ее уговорить мастера разрешить принести на завод любительский киноаппарат.
— Вы не думайте, он мой, собственный, меня в школе премировали за отличную учебу.
— Да я ничего такого и не думаю, — улыбнулась Мария Александровна. — А почему ко мне, в завком?
— Вы, я думаю, сможете его уговорить!
— Зачем тебе это надо?
— Нужно — и все! Вот увидите, не для баловства, для хорошего дела!
Мария Александровна не могла ему не поверить, столько было убежденности и восторженной заинтересованности на его чумазой мальчишеской физиономии.
— Ну, коли для хорошего дела, — попробую уговорить. Только ты меня не подведи, Сашок!
Но как раз ее-то на первых порах он и подвел. Много пришлось ей передумать, прежде чем она поняла, кто прав, — рабочие, встретившие паренька в штыки, или парень, серьезно и убежденно защищавший полезность и нужность своей затеи.
Все началось с того, что он снял своего наставника за работой. Да не просто для портрета, общим планом, а тщательнейшим образом обснял весь процесс сборки, каждое движение Соколова: от накладывания на барабан первого слоя резины, затем дальнейших слоев, повороты барабана для избежания на готовой шине утолщений и зазоров, последовательную обрезку слоев, сокращение объема барабана, все, вплоть до навешивания полуготовой шины на проплывающий мимо крюк. То, как этот тяжелый, гладкий круг в виде трубчатого кольца попадает затем в вулканизацию и превращается в готовую узорчатую шину, Сашка уже не интересовало.
Никто из рабочих не понимал, для чего все это нужно, но Соколов делал таинственный вид и только посмеиваясь говорил:
— Потерпите. Скоро узнаете.
Через несколько дней как-то после смены паренек попросил Соколова остаться и пройти с ним к Марии Александровне в завком, в ее комнату за лабораторией.
Там против двери был уже установлен маленький проекционный аппарат. Усадив Марию Александровну и Соколова, Сашок заговорил, чуть заикаясь от волнения:
— Сперва я покажу, как вы работаете в нормальном темпе, а потом...
— Не пойму, как это — в нормальном темпе?
— Ну просто как мы со стороны обычно видим вашу работу. Ясно?
— Ну, скажем, ясно. А потом?
— А потом — увидите.
На двери, служившей экраном, начал спокойно, размеренно двигаться Соколов. Нельзя сказать, что все это было снято очень хорошо, — при наклонах и поворотах лицо сборщика часто выходило из фокуса, руки вдруг становились непомерно большими, причем фигура сборщика искажалась до неузнаваемости, а иногда медленно проплывавший неподалеку крюк с полуготовой шиной вообще заслонял Соколова. Наконец изображение и вовсе исчезло, и на двери появились какие-то непонятные кресты, круги.
Перемотав пленку, он снова зарядил проектор и опять на двери появился работавший Соколов. Но темп работы резко изменился, да и все, что делал теперь сборщик, было как бы разложено на отдельные, не очень плавные, короткие движения. Однако рывки не мешали вглядываться в то, что происходило на экране. Внезапно руки Ивана Митрофановича застыли в каком-то странном, незаконченном жесте. Потом снова медленно задвигались. И снова застыли. Опять — движение — остановка, движение — остановка. Несколько сменившихся кадров и опять — движение — остановка, движение — остановка.
Соколов минуту помолчал, потом сказал, немного смущенно:
— А ведь вот без этого... ну, без того движения, можно было бы и обойтись.
На экране рука с ножом прошлась по краю одного из слоев у самой кромки, почти у тела барабана. Две руки наложили новый слой и опять — рука, нож, обрез. И так подряд несколько раз.
— Думаешь по несколько слоев сразу срезать? — спросила Мария Александровна у Соколова.
— Да по всем сразу можно! — выкрикнул паренек.
Соколов продолжал молчать, задумавшись.
— Нет, милок, это не всякому под силу. Особенно женщинам. Где ж такую толщину в однораз срежешь? — покачала головой Мария Александровна.
— Подумать надо, прикинуть, кое с кем посоветоваться, — сказал Соколов. — Можешь ты эту штуку прямо в цехе показать?
— Можно... Но я хотел....
— Вот и покажем в цехе. Пусть все сборщики поглядят. Вместе подумаем, как и что, — перебил Соколов и вышел, не попрощавшись.
— Да как это ты решился? — удивленно сказала Мария Александровна, как только за Соколовым закрылась дверь. — Лучшему рабочему завода, своему учителю указываешь, что он, мол, медленно, не так свое дело делает! Эх, знала бы, что ты такой... шустрый, не позволила бы тебе эту твою штуковину на завод приносить! Ну, собирай поскорее свою музыку и... катись-ка ты отсюда. Мне домой пора!
Мария Александровна медленно шла к остановке автобуса.
Как и обычно, она должна была зайти за внучкой в ясли — сноха после работы отправлялась за покупками, потом готовила ужин и обед на завтра, стирала — так они распределили свои домашние обязанности. Когда кончился декретный отпуск, Катя и Николай хотели отдать девочку в ясли на пятидневку, но Мария Александровна запротестовала:
— Две бабы в доме и с одним ребенком не справятся?! Мне с завода как раз по дороге, буду ее каждый день забирать, а ты уж дома, по хозяйству.
Обычно Мария Александровна чуть ли не пробегала короткую дорогу до автобуса, проезжала две остановки, а оттуда, уже с внучкой на руках, снова садилась на тот же автобус, как раз поспевавший сделать круг, и доезжала до дома.
Сегодня она шла медленно — задумалась. Странное у нее было чувство — она как будто и сердилась на Сашу за его, как она определила, дерзость, и вместе с тем ей нравилось то, что он не побоялся заявить о своих сомнениях.
«В чем-то он и прав как будто. Ну, а в чем не прав?»
На этот вопрос она еще не могла ответить себе, но чувствовала, если все хорошенечко продумать, она сможет и себе и ему доказать, что затея его — неосуществима! Но почему? Разве и правда нельзя скорее работать и увеличить выпуск шин? А дальше что? Значит, и все цеха до сборочного, и вулканизацию, все-все надо переводить на другой темп? А нужно ли? И возможно ли? Ну так, может, и возможно. Ну, а людям какая от этого польза? Рабочим? Не таким вот передовикам, как Иван, а всем, рядовым? Вот если бы я...
Подошел автобус, она вошла, привычно стала протискиваться вперед, чтобы успеть выйти на нужной остановке, и мысли ее приняли свое ежевечернее течение — здорова ли Оленька, поскорее бы ее увидеть, ветер сегодня, как бы не застудить, вот не взяла теплого платочка, забыла, заторопилась, не дай бог...
Около месяца прошло с того дня, как Сашок показывал ей и Соколову свой фильм. За ежедневной суетой и домашними делами Мария Александровна позабыла о пареньке и о его фантастических затеях. Однажды к концу обеденного перерыва она по какому-то пустяковому делу заглянула в сборку и поразилась: толпа рабочих окружила кого-то, раздавались угрожающие выкрики:
— Щенок!
— Гнать с завода!
— Умнее всех хочешь быть!
— Он двадцать лет, лучший рабочий, а ты...
— Ишь, выставился! Умник нашелся!..
Мария Александровна подошла к безучастно сидевшему подле своего рабочего места Соколову:
— Кого это так, Митрофаныч?
— Да все того же, Сашку.
— Что он еще нового натворил? — испугалась Мария Александровна.
— А ничего нового — все то же.
— Не пойму.
— За съемку его ту самую.
— Я и сама прикидывала, — задумчиво сказала Мария Александровна. — Ведь если всех заставить так быстро работать, так это...
— А всех как раз и нельзя!
— Почему?
— А вот приходи после смены в клуб на производственное, объясню.
— Приду.
Странно началось это производственное совещание. В клубный зал набилось столько народу, что многим пришлось пристраиваться на подоконниках, по двое на стульях, даже на полу возле сцены. Но народ все прибывал. Наконец председатель собрания — мастер сборочного — крикнул:
— Больше уже некуда, товарищи! Закройте двери. И начинай, Сашок, слышишь?
Погас свет, и в глубине сцены на настоящем экране замелькали кадры уже почти полузабытого Марией Александровной фильма. Потом — кресты, круги, неровный конец пленки, пустой квадрат.
Зажегся свет. В зале зашумели.
— Погодите, товарищи, это не конец, сейчас он перемотает пленку и будет продолжать показывать, — поднялся из первого ряда Иван Митрофанович Соколов. — Имейте терпение!
Свет погас, и все тот же Иван Соколов продолжал работать, но сейчас уже медленно, как бы рывками: движение — остановка, движение — остановка. Но и это кончилось.
Когда загорелся свет, все увидели, что на сцене, у самого края, стоит Соколов.
— Внимательно вы смотрели, товарищи? — спросил он громко.
— Как будто внимательно, — ответило сразу несколько зрителей.
— К чему нам это показывали? Мы за двадцать лет насмотрелись на твою работу, Митрофаныч.
— По картинке видно, что постарел ты как раз на эти двадцать лет! — весело крикнула работница помоложе.
— Да нет, в натуре еще ничего, сойдет! — засмеялись другие.
— Товарищи, товарищи! — взбираясь на сцену, одернул их мастер. — Нельзя ли посерьезнее?
— Можно и посерьезнее, — крикнул кто-то из зала. — Всем видно, что ты, Соколов, хорошо работаешь! Молодец!
— Молодец? — сказал Соколов. — Хорошо, говоришь, работаю? А вот по этой самой картинке видно, что можно и получше. Можно!
— Это как же — по картинке? — удивленно спросили из зала.
— А вот так. Видели вы, как я первый слой — резину — двумя руками кладу? Ну, это так, ее и надо — двумя. А второй слой? Двумя же кладу, потом двумя же и прихлопываю. Два-три раза. А зачем? Можно и одной. Только выработать в себе точность. Абсолютную точность. Тогда — клади одной, прихлопывай другой и в это же самое время тяни другой рукой к себе следующий слой. Понятно? Потом — обрезка. Я тут по одному слою под нож беру. А можно наложить четыре и сразу — по четырем. Только опять же — чтобы абсолютная точность.
— Ты раньше попробуй! — сердито крикнули из зала. — Языком-то все можно!
— А я и пробовал. Тренировался. Вышло!
Зал притих. И сразу взорвался шумом, выкриками.
— Это что же — всем гнать по двести процентов? А потом всему цеху, ого, какой план спустят! Ну, удружил, ничего не скажешь!
— А расценки? Расценки-то как?
— Что ж, всему заводу придется план пересматривать, а иначе мы без сырья останемся — полетят и план, и расценки!
— То-то и оно — всему заводу!
— Спокойно, товарищи! — поднял руку Соколов. — Не придется ни цеху, ни всему заводу планы перестраивать. И не придется никому в эти самые киноперегонки играться!
— Так вы же говорили, что достигли, смогли? — удивился мастер.
— А как же! Смог! Вышло у меня, верно, — усмехнулся Иван Митрофанович.
И на мгновение примолк.
— Так это я, я смог! — сказал Соколов уже вполне серьезно. — Со мной пока еще никто тягаться не может. Разве что вот Сашок вырастет, поднаучится — ну, тогда посмотрим. А сейчас...
Сашок был теперь занят по горло — после рабочего дня оставался на вторую смену и, рыская по заводу, выискивал объекты для новых «картинок».
Однажды, уже поздней зимою, он прибежал к ней в завком. Был взволнован, тороплив и неуловим еще больше, чем обычно.
— Ко мне? — спросила Мария Александровна.
— Ага!
— Случилось что?
— Ага. Случилось.
— Ну.
— Чего это он со мной так строго, грубо даже?
— Да кто? Говори толком.
— Митин. Витька. Комсомольский секретарь. Пришел в цех и — как приказал: приходи непременно сегодня в шесть на комсомольское собрание. И чтоб, говорит, без выкрутасов. А не придешь — пожалеешь!
— Так иди.
Сашок помолчал, потом выпалил:
— А вы туда можете прийти?
— На комсомольское? — улыбнулась Мария Александровна.
— Да! Я... я боюсь... — Голос его как-то по-детски дрогнул. — Нет, вы не думайте, я не трус, но...
— Но — что?
— Понимаете, ребята со мной последнее время как-то не так... ну, будто я им что-то плохое сделал. Я им чего скажу, а они отворачиваются, будто не слышат... Ну, пожалуйста, тетя Маша, пойдемте со мной, а?
Она внимательно посмотрела на паренька.
— А я тебе вроде ширмы, что ли?
— Ширмы? Не знаю... Но я... я без вас не пойду.
— Вот ты как? — и, подумав немного, прибавила: — Что ж, попрошу твоего Митина Витьку, может, и разрешит, как думаешь?..
Собрание было многолюдным и долгим. Мария Александровна уже подумывала тихонько выбраться из зала и уйти, когда услышала голос комсомольского секретаря:
— А теперь приступим к разбору персонального дела Васильева Александра.
Сидевший рядом с нею Сашок удивленно вскинул голову, дернулся было, порываясь что-то сказать, но сдержался, промолчал.
— Так вот, товарищи, — продолжал Митин, — в Америке, в Голливуде — это там, где все кино снимаются, — есть такие актеры, кинозвезды называются. Как станут знаменитыми — так кинозвезда. Ну и многие из них сразу нос задирают — мол, я самый талантливый, больше всех получаю, мне никакой ваш профсоюз не нужен. Это значит, они звездной болезнью заболели...
— А ты откуда про это знаешь? В Голливуде побывал? — со смехом спросил кто-то из ребят.
— Нет. Я в журнале одном читал...
— Ты это к чему нам рассказываешь? — удивился кто-то.
— А к тому, что один из наших товарищей этой самой звездной болезнью заболел. Ему теперь законы не писаны. Зачем ему организация? Он и так теперь — знаменитость. Ему и так теперь — все в руки!
— Да о ком ты?
— Я же сказал — о Васильеве Александре. По всему его поведению видно, что ему на всех нас, да и на комсомольскую организацию просто наплевать! Сколько ни заставляли мы его ходить на собрания, как ни пытались вообще с ним работать...
И тут, не удержавшись, вскочил со своего места Сашок.
— Работали со мной, говоришь? — крикнул он.
— Конечно, работали! — уверенно ответил Митин.
— Плохо работали! Никуда не годная ваша работа! — звонко и как будто даже весело выкрикнул Сашок.
— Звезда! Так и есть — кинозвезда! — окончательно разозлился Митин. — Ему, видите, особый подход нужен!
И вдруг Сашок звонко расхохотался.
— Ты что это? — возмутился Митин. — Перестань сейчас же! Ты!
Сашок прищуренными глазами обвел зал и, еле удержавшись от смеха, крикнул:
— Плохо, плохо со мной работали! Очень плохо!
В зале закричали, кое-кто затопал, кто-то даже свистнул.
Но звонкий мальчишеский голос Сашка перекрыл шум.
— Конечно же, плохо. Потому что, если бы вы со мною работали лучше, я, может, уже комсомольцем был бы! А я — не комсомолец. Я еще не комсомолец! Мне только позавчера пятнадцать минуло! Вот! В ремесленном не приняли — рано было, а тут еще не успел!
Ребята на мгновение притихли и вдруг разразились таким заразительным, веселым смехом, что даже сконфуженный, насупленный Митин рассмеялся.
— Когда же ты в школу пошел? — удивленно спросила девочка, ведущая протокол собрания.
— С пяти.
— Так ты что, вундеркинд? — огрызнулся Митин.
— Да нет, какое там! Просто — мама была учительницей в школе, в Воронежской области, мы при школе жили, я всегда с нею на уроки ходил — меня оставить было не с кем. А когда мама умерла, меня в первый класс записали. А я уже кое-что помнил. Вот так и вышло. Потом перескочил через класс. А потом приехали из Москвы набирать в ремесленное, я и пошел. Вот и все.
Тихо стало в зале. Никто больше не смеялся, никто не подавал реплик. Митин собрался было что-то сказать, но осекся и смущенно замолчал. Всем было почему-то неловко, никто не решался заговорить первым.
Тогда поднялась со своего места Мария Александровна. Ее полное, добродушное лицо показалось ребятам непривычно суровым.
— Вот что, Митин, — сказала она спокойно. — Очень я жалею, что затею Сашка нельзя применить к вашей, к твоей лично комсомольской работе.
И, внимательно оглядев обращенные к ней недоуменные лица ребят, продолжала негромко:
— Хорошо было бы вот так же снять фильм, а потом показать его медленно, чтобы вы все увидели, сколько в вашей, в твоей, Митин, работе есть лишних, ненужных движений, а сколько полезных, дельных. Да, к сожалению, невозможно это.
И, обернувшись к Сашку, прибавила:
— Пойдем, Сашок.
Провожая Марию Александровну до автобуса, Сашок возбужденно болтал, смеялся, раскатывался на ледяных полосках, вертелся, то убегал вперед, то снова возвращался, словом, вел себя так, как обычно ведут себя щенки, без поводка гуляющие с хозяином.
Но Мария Александровна почти не слушала его, не замечала его веселого возбуждения. Уже подходя к остановке, она вдруг сказала:
— Вот что, Сашок, переезжай ты к нам, ко мне домой. С нами будешь жить.
— Ой, нет, что вы, спасибо. Нет! — тотчас же отозвался Сашок. — У меня, знаете, в общежитии замечательное место, у самого окна. А за окном — сад. Большой. Почти как у нас, возле школы...
— Ты не бойся, не стеснишь нас, квартира большая.
— Нет-нет. Не надо... Я... я хочу сам... Мама ведь моя была детдомовская и тоже всю жизнь — сама... А потом меня растила... одна... Спасибо вам, тетя Маша, я вас очень люблю, почти как маму, но я... сам. Не обижайтесь, ладно?
Мария Александровна поняла: в словах его — не мальчишеское упрямство; нет, это было взрослое, окончательное решение. Его юношеская зрелость вызывала уважение. Такое же чувство всегда вызывал в ней Алеша, детство которого тоже прошло без родителей, хотя они и были живы. Может быть, поэтому он так рано научился принимать самостоятельные решения, а этот пятнадцатилетний паренек чем-то напомнил ей дружка сына. Ей стало грустно — Алеша теперь так далеко, один, где-то на Дальнем Севере, осваивает первые шаги своей будущей специальности — он решил стать мерзлотоведом.
Ни отец, ни мать, ни Маша-большая не могли понять, что в этой мало освоенной отрасли могло увлечь молодого человека, никогда раньше не бывавшего севернее Москвы. Но Алеша не привык советоваться с родителями и всегда поступал так, как считал нужным.
Это была его последняя преддипломная практика. Вместе с работниками Якутского института по изучению вечной мерзлоты он вел поисковые работы за Полярным кругом по наметке точек будущих строек, железнодорожных и грунтовых трасс. Он прилетел за день до отъезда родителей, обросший веселой рыжеватой бородой, широкоплечий, обветренный. Оба — и отец, и мать — показались ему сильно постаревшими, уставшими, несмотря на оживление, с которым обсуждали новое назначение отца — торгпредом в Норвегию.
На прощание отец сказал Алеше:
— Как только защитишь диплом, я немедленно вызову тебя к нам. Полетишь через Стокгольм в Осло — хоть одним глазком увидишь Европу, прежде чем осядешь в своей ледяной Азии!..
Но все вышло не так, как хотел отец: сразу же после защиты диплома Алеша получил назначение в Якутский институт и, не использовав свой последний студенческий отпуск, вылетел на Север.
А через несколько месяцев он летел из Якутска через Москву, Стокгольм в Осло, вызванный тревожной телеграммой матери: «Отцу плохо. Нетранспортабелен. Вызов оформлен. Получи министерстве».
Когда Алеша увидел отца, он подумал, что отец уже из больницы не выйдет, а по грустному его, но твердому взгляду понял, что отец об этом знает. Когда мать, которая безвыходно находилась с отцом в палате, вышла куда-то на минуту, отец сказал очень тихо, с трудом:
— Ты, Алексей, не оставляй мать. Она не умеет быть одна. Всю жизнь она обвивалась вокруг меня, как плющ. Теперь ты должен быть тем стволом, вокруг которого она обовьется.
Алеша молчал, боясь расплакаться, выдать свою слабость, свое горе. Но и утешать отца он не стал — оба они были мужчинами и знали, что эта ложь во спасение будет только оскорбительна для обоих...
...Через четыре дня Алеша, мать и гроб отца прибыли в Москву...
Едва живую мать Алеша прямо с кладбища отвез к Марии Александровне. Оба они с Машей-большой надеялись, что Мария Никаноровна хоть немного отвлечется, оживет при виде маленькой Колиной дочки.
Но окаменело и молча просидев полчаса, Мария Никаноровна вышла и, забыв надеть пальто, направилась через двор к своему подъезду... Алеша бросился за ней. Они вместе вошли в темную квартиру. Алеша хотел было зажечь всюду свет, но Мария Никаноровна тихо и твердо сказала:
— Не надо. Иди ложись. Ты устал. Я хочу побыть одна.
Всю ночь она просидела в темной кухне. Она не плакала. Алеша, который тоже не спал, а только изредка ненадолго задремывал в своей комнате на диване, слышал, как она закуривала; треск зажигаемой спички и легкое постукивание сигареты о край пепельницы слышны были во всех углах пустого, грустного дома...
А утром, когда Алеша вышел в кухню, стол был накрыт к завтраку, а на плите уютно попискивал кофейник. Мать была бледна, но причесана и одета аккуратно, словно собиралась куда-то уходить.
— Ты готов? — спросила она спокойно. — Садись завтракать.
— А ты?
— Я с тобой.
Они молча поели. Мать собрала со стола, помыла посуду и снова уселась за стол, вынула сигарету, закурила, протянула Алеше пачку.
— Хочешь?
— Я не курю, мама.
— Ах, да, я забыла.
Алеша подошел к окошку и некоторое время сосредоточенно смотрел на покрытый грязным пористым снегом двор. Потом тоже подсел к столу, несмело дотронулся до руки матери и сказал как мог ласковей:
— Мамочка. Мне самое позднее завтра надо улетать. Мой... отпуск, что ли, кончился, в понедельник я должен быть на работе. Я помогу тебе собраться. Ребят я просил купить нам билеты.
Мария Никаноровна посмотрела на сына внимательно и пристально, словно видела его в первый раз в жизни. Что-то в этом взгляде, в ее осунувшемся, постаревшем лице поразило Алешу. Через секунду он понял, что его так удивило: впервые он увидел у матери выражение не растерянности, не упрямства, а решимости.
— Что ж, поезжай, — негромко сказала она.
— То есть как это — поезжай? Мы едем вместе!
— Нет. Я никуда не поеду.
— Не могу же я оставить тебя здесь... одну!
— Нет, Алеша, я никуда не поеду, я останусь здесь. Это мой дом, и теперь я никуда уже и никогда не буду ездить.
— Но, мама...
— Не надо спорить, Алеша. Я так решила.
— Но как же ты будешь жить?
— То есть в смысле материальном? Не беспокойся обо мне. Я получу за папу хорошую пенсию. И потом, у нас... у меня есть сбережения. И очень много ненужных вещей, от которых я свободно могу отказаться. Так что ты будь спокоен. Все будет в порядке.
— Да я не об этом! Как же ты будешь жить одна?
— Не знаю. Но буду. Наверное, недолго, но пока буду. И потом — я ненавижу холод. И ни за что не соглашусь даже в гости приехать за твой Полярный круг!
— Но, мама, я же не могу сюда переехать! Ведь это моя работа. Моя специальность — холод!
— Что ты! У меня и в мыслях не было, чтобы ты бросал свое дело! Я не хочу быть тебе обузой, ни в коем случае! Помни это!
— Почему обузой? Просто ты моя мама, и мы должны быть вместе!
— Нет, Алеша. Так уж получилось в нашей жизни. И не надо ничего менять...
— Но ты никогда не жила одна...
— Ты этого не поймешь, Алеша, — перебила Мария Никаноровна сына. — И не будем больше возвращаться к этому разговору...
Она поднялась, аккуратно поставила на место стул и вышла из кухни.
Ни уговоры, ни просьбы не помогли. Алеша уехал один...
Первые два-три месяца после отъезда сына Мария Никаноровна почти не выходила из дома — раза два в неделю в магазин за продуктами да изредка в поликлинику или в аптеку. Она ни с кем не виделась, сухо отвечала на редкие телефонные звонки. За долгие годы, что она жила далеко от Москвы, выветрились непрочные приятельские связи, а настоящих, ее собственных, личных друзей, как оказалось, у нее никогда и не было, никого, кроме Маши-большой. Но даже к ней она не заходила и к себе не звала. Так прошла зима.
Но в первый же теплый весенний день ее потянуло в их разросшийся сад, на ту скамейку, где часто сиживали они в молодости с подругой, глядя, как дружат и ссорятся их маленькие сыновья.
Теперь на этой скамейке долгие часы, возле коляски со спящей внучкой, просиживала Мария Александровна; привыкшие к работе руки ее неустанно двигались: она вязала, не глядя на спицы, только дойдя до конца рядка, близоруко отсчитывала петли и снова принималась быстро и уверенно набирать на спицы упругие шерстяные колечки. В ее позе, во всех ее движениях было столько спокойствия, что Марии Никаноровне, наблюдавшей за нею из окна, неудержимо захотелось снова посидеть с нею рядом, почувствовать ее доброжелательность и ту внутреннюю силу, которая всегда была для Маши-маленькой опорой и поддержкой в жизни, как бы редко они ни бывали вместе.
Мария Никаноровна торопливо оделась, вышла во двор и тихо присела рядом с подругой. А та, не поднимая головы от вязанья, сказала приветливо:
— Ну, здравствуй, подружка. Наконец и тебя солнышко на улицу вытащило.
— Соскучилась я по тебе, Маша, — тихо ответила Мария Никаноровна. — И вообще — тоскливо мне, жить не хочется.
— Одной — какая радость? Ехала бы к сыну. Зовет.
— А ты откуда знаешь, что зовет?
— Так ведь пишет он мне. И Коле пишет. Тоже ведь и ему тоскливо — родная мать, а помочь ей ничем не может!
— А мне никто уже помочь не может...
— Брось, Мария, брось, милая. Живешь ведь, так надо правильно жить.
— А я, по-твоему, неправильно живу?
— Не знаю.
— Нет, — упрямо тряхнула головой Мария Никаноровна. — Я живу правильно! Я все время, каждую секунду вспоминаю Федю. Не вспоминаю, нет, а перебираю в памяти все свои с ним дни, все часы, даже минуты. Его слова, его остроты, места, где мы с ним бывали. А ведь мы много по миру с ним поездили. Ты знаешь, в скольких мы странах бывали? Не перечесть! И всюду я с ним... Все время, день и ночь, день и ночь я вспоминаю все, все, что было...
Мария Александровна искоса глянула на подругу, и снова сердце ее дрогнуло от жалости. Мария Никаноровна была все такой же ухоженной, аккуратно одетой, волосы были тщательно выкрашены, на маленьких, все еще полных руках розовели покрытые лаком ногти. Она постарела, конечно, легкий слой пудры не мог скрыть морщин, а накрашенные ресницы только подчеркивали, как выцвели глаза и из ясно-голубых стали бледно-серыми... Но не это больно поразило Марию Александровну, а то, что лицо подруги, словно пылью, подернуто было тусклой, болезненной усталостью.
— Язва болит? — с тревогой спросила Мария Александровна.
— Да нет, сейчас не болит. Закрылась.
— Что ж ты... такая? Может, что другое болит?
— Нет. Я здорова, — равнодушно откликнулась Мария Никаноровна.
Обе надолго замолчали.
— Ты, Маша, говори чего-нибудь, — прервала наконец молчание Маша-большая. — Ты говори.
Мария Никаноровна не ответила, все так же тускло и скучно глядя перед собой.
— Помнишь, ты мне рассказывала, как вы с Федором Петровичем встретились да как поженились. Помнишь? Так вот расскажи, как ты жизнь-то прожила? Столько ездила, столько видела, а все ни о чем рассказать не хочешь.
Маша-маленькая продолжала молчать.
— Тихая ты больно стала, — с укором сказала Маша-большая. — Бывало, и не остановишь...
— Старость, — откликнулась Мария Никаноровна.
— Какая же старость? Мы ровесницы, а я себя в старухах еще не числю.
— Ты — другое дело. У тебя вот сын, внучка, хозяйство.
— Так и у тебя сын. Женится, и у тебя внуки будут.
— Внуки? Нет! Я не хочу внуков! То есть, — смутилась Маша-маленькая, — не то, что не хочу, а не буду с ними возиться...
— Да ты не больно-то и с Алешкой возилась, — сердито ответила Маша-большая.
— Конечно. Но я... я не могла без Феди. Ни минуты. Ни дня...
И словно бы прорвался какой-то мешавший ей заслон, она торопливо, возбужденно заговорила:
— Знаешь, я вспомнила сейчас нашу первую с ним дальнюю поездку. Алешке тогда уже два года минуло...
С этого теплого весеннего дня, как только Маша-большая выносила внучку гулять, Мария Никаноровна торопилась вниз, во двор, усаживалась на скамью и начинала говорить.
Как и в дни своей молодости, она не замечала, что по многу раз рассказывает одно и то же, описывает те же места, повторяет все те же шутки и остроты мужа. Но Мария Александровна не перебивала ее, не говорила, что она это уже много раз слышала, — она понимала, что только в этом, в этих воспоминаниях и заключается вся жизнь подруги. Иногда она старалась отвлечь ее, заставить рассказать поподробнее о тех странах, где они бывали. Ей интересно было, как там живут люди, какая там молодежь, какие песни поют, каково там живется женщинам. Но ничего этого Мария Никаноровна не знала — она всегда жила только в узком кругу советских колоний и, кроме магазинов, не бывала нигде, не замечала ничего.
Коротич в свое время изучал английский, неплохо объяснялся на французском, свободно говорил по-польски, правда, с заметным белорусским акцентом; Мария же Никаноровна знала только несколько слов, необходимых для объяснения с продавцами в магазинах. О городах, путешествиях, музеях она говорила бегло, словно повторяя стандартные фразы из путеводителей, увлеченно и подробно она рассказывала только о том, что и где говорил Федя, что он делал, какие он носил костюмы и какие дарил ей подарки.
А Мария Александровна жалела ее все больше. Не потому, что она потеряла мужа, отвернулась от сына. Нет. Она жалела ее за то, что подруга прожила такую, в сущности, ограниченную, узкую жизнь, наполненную суетой передвижений и ненужных встреч, легкостью пустого благополучия...
Пришло лето. Зелень в саду потускнела, покрылась пылью. Колина дочка, маленькая Катя, уже бегала по двору, играла с ребятишками, а подруги продолжали подолгу сидеть на той же скамейке, и Мария Никаноровна рассказывала о том же... Марии Александровне с каждым днем все острее хотелось вырвать подругу из этого заколдованного круга воспоминаний, который с каждым днем сужался, и казалось, вот-вот задушит маленькую, аккуратную и беззащитную женщину.
Однажды вечером, уложив Катю спать, Маша-большая вышла во двор и, став под Машино окошко, крикнула:
— Выходи, Мария Никаноровна, посидим, посумерничаем.
Мария Никаноровна вскоре вышла и села рядом с Машей-большой на скамью.
Было душно. Медленно собирались тяжелые тучи, но гроза все не разражалась, хотя где-то далеко за городом ходили по небу бесшумные зарницы.
— Я тебе чего хотела сказать, Машенька, — начала разговор Маша-большая. — Коля получил от Алеши письмо, у него, пишет, девушка появилась, хорошая девушка, может, они и поженятся...
— Да? — обиженно поджала губы Мария Никаноровна. — А мне — ни слова.
— Так ведь еще ничего не решено, зачем тебя заранее тревожить.
— А я и не тревожусь...
— Так вот, — продолжала Маша-большая, — поезжай ты к сыну. Может, понравится невеста, так там и останешься с ними жить, а?
— Вот еще! Пусть сюда привозит ее показать!
— А пусть, — легко согласилась Мария Александровна. — Только я не о том... Не о том, подруга, я...
Она смущенно примолкла.
— Жарко, — сказала она наконец. — Хоть бы уж дождичек пошел...
— Да.
Обе опять надолго замолчали.
Наконец Мария Александровна, словно рассердившись на себя за нерешительность, сказала громко и несколько суше, чем хотела:
— Ну, вот что, Маша, ты на меня не обижайся, я тебе по дружбе, любя.
— Что? — испуганно спросила Мария Никаноровна.
— Неправильно ты живешь! Неправильно! Нельзя только одними воспоминаниями жить. Не по-людски это!
— Что ж ты прикажешь — забыть? Все забыть? — со слезами в голосе тихо спросила Маша-маленькая.
— Зачем? Как это можно — забыть? Помнить всегда надо. Но так, как ты, одними воспоминаниями — это и не жизнь вовсе. Раз не померла — живи!
— Это и есть моя жизнь…
— Нет! Разве жизнь только в прошлом? Так не бывает! Не должно быть.
— А я не могу иначе... Меня все время тянет и тянет назад... Если бы можно было...
— А нельзя! Понимаешь, нельзя! То ли я в какой книжке прочитала, то ли умный человек мне сказал слово правильное такое, жизнь, мол, не овраг, обратно не перешагнешь! Хочешь не хочешь, а коли живешь, дальше идти надо...
Мария Никаноровна не ответила и продолжала молча глядеть куда-то в пространство. И опять, как в давние дни, Маше-большой захотелось защитить ее: не тормошить, не уговаривать, а просто оградить от горя и боли. Она обняла ее узкие плечи и крепко прижала к себе. И почувствовала, как та всем лицом прижалась к ее шее, потом отстранилась и посмотрела подруге в лицо. Маше-большой показалось, что в глазах Маши-маленькой мелькнула улыбка, и они снова на секунду стали ясно-голубыми.
— Вот сколько лет, как ты из цеха ушла, — удивленно сказала Мария Никаноровна, — а от тебя все так же вкусно пахнет!
— Ох, дурочка ты моя, дурочка, — облегченно рассмеялась Маша-большая.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





