ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Турчинская Агата 1967
I
Я хочу рассказать историю моего детства, которую назвала — «Аистов-цвет». Чтобы лучше понять, что это значит, перенеситесь мыслью на луга ранней весной. Там между расцветающими травами ходят высокие голенастые птицы и розовеет высокий аистов-цвет...
В 1931 году я с бригадой писателей и певцов уехала на Октябрьские праздники в Славуту, выступать у пограничников. Возглавлял эту бригаду Дмитро Михайлович Косарик.
Пока мы ехали до первой заставы, у нас в лесу сломалась машина. Была глубокая ночь, мы пешком добрались до какого-то села, а там, в сельсовете, который заменял и клуб, как раз было в разгаре праздничное гулянье. Скрипки томно выводили польку-кокетку, и тут мы вошли. Должно быть, Дмитру Косарику эти пляски показались недостойными такого праздника. Он выступил с докладом об Октябрьской революции и о международном положении, который затянулся до рассвета, пока не наладили нашу машину. Ни на какие другие выступления времени уже не осталось.
Эта вынужденная остановка развеселила нас, а талант Дмитра Косарика заговаривать в пути любые невзгоды еще больше сдружил нашу бригаду.
Пограничники на всех заставах встречали нас сердечно. Мы были молоды, и казалось, в наших сердцах никогда не сможет найти себе место такое чувство, как грусть. Но она поднялась в моей душе именно во время той поездки, поднялась, как черный смерч.
На одной из застав нас повели к границе. За белыми полосатыми столбами лежала дорога, по которой ехал на каком-то растрепанном возу оборванный галицкий крестьянин. Он ехал так близко! В моем воображении эта дорога вела к хате, где я родилась, где впервые сказала «мамо». Человек на возу напомнил мне отца. А передо мной стояли полосатые столбы, от них тянулась колючая проволока, которую можно было бы перерезать ножницами. Нет, не эта проволока — иные границы отделяли нас от дороги, от хаты, где я родилась, и, может быть, при моей жизни границ этих никто не разрушит. Грусть, глубоко гнездившаяся в моем сердце, вырвалась наружу и уже не покидала меня ни днем ни ночью. Мне часто снились детские дороги, родная хата, и что-то твердило: «Этому не бывать. Этого не будет при твоей жизни». И смерч грусти поднимался выше и выше...
И вот то, что казалось недоступным, невозможным, осуществилось 17 сентября 1939 года. Разве не эта радость обозначила такие темы моих произведений, как поэма «На родной отцовской земле», сборник стихов «Привет, Галичина», драматическая поэма «Милана», повесть «Звезды на Верховине», поэма «Последний день Борканюка» и даже роман «Друг мой Ашхабад».
Осуществилась мечта наших дедов, прадедов, отцов, наша извечная мечта.
Я кланяюсь тебе до земли, время мое, по которому прошла, оставив тоненький след, и моя жизнь. Славлю сынов твоих, увенчавших тебя радостью, осуществленной мечтой нашего народа.
Я еду во Львов. Еду туда в составе бригады писателей. Есть чувства, которых дважды не пережить.
Разве можно задержаться в Киеве хоть на минуту, если невозможное стало возможным. Другие ехали просто в освобожденный Львов, а я — чтобы ступить на землю, которой не видела двадцать пять лет.
Позднеосенний день был серый, поля затянуло серой мглой. Но для меня все казалось торжественным. И серые туманы с мелкой изморосью, и стук колес, и голоса людей в поезде, ехавших туда, куда и я, во Львов, во Львов.
В вагоне много военных — из тех, кто 17 сентября с Красной Армией переходил Збруч. Теперь они ехали устанавливать границу между нами и Германией. Каждый из них в моих глазах был героем. В июле умер мой муж. Я летела мыслями во Львов, а в сердце было великое горе. Он тоже служил в Красной Армии и тоже мог бы переходить эти тысячелетние границы. Мне казалось, что среди этих военных есть и мой милый.
Во Львов приехала вечером. В нем я уже была когда-то — еще маленькой девочкой. Высокий потолок львовского вокзала пробудил во мне странное чувство. Казалось, навстречу выйдут сейчас мои погибшие родители...
Но возле меня были эти военные, родные люди, освобождавшие землю, где я родилась. И это не давало печали заполнить сердце.
Мои спутники сказали, что не оставят меня, пока не устроят на ночлег. О себе им беспокоиться нечего: они возвращались в свои части.
Мы ходили вместе от гостиницы к гостинице — они уже хорошо знали город. И хоть везде нам отказывали — не было места, — тревога оставила меня. Затемненные львовские улицы радостными песнями вливались в душу.
В гостинице «Народная» меня приняли.
Как оказалось, здесь уже были наши писатели Иван Иванович Гончаренко и Петро Иосипович Панч, которые приехали сюда раньше. Мои спутники со спокойным сердцем оставили меня.
«Народная» приятно выделялась из всех гостиниц города Львова. Яркие гуцульские дорожки красовались на полу, на стенах и над кроватями — замечательной работы ковры.
Портьеры над дверьми и занавески на окнах — с украинскими орнаментами. На первом этаже был магазин, там продавались искусные гуцульские поделки из дерева и всевозможные народные вышивки.
Многие киевляне из тех, кто в эти дни приезжал во Львов, а больше всего писатели, художники, композиторы и артисты, выбирали именно эту неказистую на первый взгляд гостиницу, а не модный «Жорж». И я была рада, что остановилась именно здесь.
Первая ночь во Львове, после двадцатипятилетней разлуки... Можно ли найти слова для нее?.. Ночь воспоминаний, полная родных глаз, улыбок, слов, которых не стереть из памяти. И как я ждала утра, чтобы поскорее увидеть родное местечко. Родная хата.... Все, что было связано с нею, вставало передо мной, как дорогая трагическая повесть.
II
В седьмом томе УСЭ о нашем местечке Куликове сказано, что это поселок городского типа Нестеровского района Львовской области, расположенный на реке Думный поток (бассейн Западного Буга), за 2,5 километра на восток от железнодорожной станции Куликов. Ударение поставлено на Ку́ликов, а не на Кули́ков, как на моей памяти говорили у нас и как сейчас говорят лишь старые люди. Из других документов я узнала, что Куликов — это было владение Яна Коннецполя, потом он принадлежал Одневским, Муравским, Радзивиллам, а в польском географическом словаре 1883 года можно прочитать о Куликове, что в нем Ян Третий поселил турецких и татарских пленных, которые вырабатывали там ковры и бурки.
Понятным становится, почему по-уличному нас называли турками, моя мать — старая Турчиха, я — малая, а моего отца никогда не звали Турчинским, а говорили просто Федько Турко; почему и были у нас люди — Шахи, Пешки и другие с турецкими и татарскими корнями в фамилиях.
От старинных укреплений остались у нас валы. Было в Куликове место, которое мы называли гора Магазин. На моей памяти под нею в летние дни куликовцы любили плясать, и мы, детишки, вертелись возле старших. С этой горой связаны и страшные истории. Старые люди рассказывали, что на ней стоял замок, а в горе спрятаны клады.
Как и большинство галицких местечек, Куликов был безземельным. Люди жили сапожным, портновским, скорняжным ремеслами и торговлей. Львов и окружающие села были источниками его жизни. Скорняки шли в села чинить овчинные полушубки или брали работу на дом. Это был их подсобный заработок, если не хватало работы в цехах, которых в Куликове издавна было несколько.
Помню, что отцу в скорняжном цехе почему-то не находилось работы и он больше скитался по заработкам, его часто и подолгу не было дома.
Женщины в Куликове большей частью занимались торговлей, ходили по окрестным селам с большими корзинами и скупали масло, яйца и творог. А потом тащили все это на себе во Львов на рынок.
Когда я вспоминаю свою мать, теток и большинство бедных куликовских женщин — всегда вижу их склоненными чуть ли не до земли под тяжелой ношей. Многие бедные безземельные куликовцы работали в садах. У хозяев в ближних селах, или во львовских монастырях, или у панов брали на год или два, по соглашению, сады, обрабатывали их, а что уродит — выносили на рынок. О таких людях в местечке говорили, что они держат «пивные». Это значило, что не проданные за лето «ябки», как любили говорить куликовцы, и груши они сохраняли в львовских подземельях, в погребах, где и сами зимовали, чтобы доставлять свой товар утром пораньше на рынок.
Кто горел на этих заработках, пускался на другие: шли на лесопилки, занимались извозом или скитались в поисках работы в чужих далеких странах.
Местечко Куликов не славилось ни садами, ни лесами, не было поблизости ни пруда, ни реки. Известно оно было пыльными, почти лишенными зелени улочками, старыми бедными хатами с маленькими лоскутками огородов или садов. Хаты жались одна к другой, как и люди. Куликовцы привыкли объединяться в работе и по цехам, и по садовому делу, и в торговле. Любили все собираться группами, поговорить и повеселиться. Охоч был куликовец до дальних дорог, но где бы ни скитался — возвращался в свое пыльное местечко. И упаси боже кому-нибудь сказать о Куликове что-нибудь плохое. На весь Львов и в его окрестностях славился куликовский пеклеванный хлеб. О куликовцах почему-то во Львове говорили с усмешкой. Как упомянут Куликов, сейчас же почему-то называют и Пациков, который стоит тоже недалеко от Львова.
Поднимали голову и глаза кверху и говорили с иронической усмешкой: «Куликовцы? О, это мудрецы!» А в народе ходила пословица, которую записал Иван Франко: «Куда бог уехал? — В Куликов».
Таким запомнила я мое родное местечко.
Кто может забыть свою родную хату? Но наша была, кажется, самой памятной для каждого, кто ее видел. От старости хаты большей частью уходят в землю, морщатся, ссыхаются, как старые люди. А наша опрокидывалась назад, выдаваясь спереди своими старыми стенами, словно беременная женщина животом. И разбухала — от сырости, от стоножек, которыми кишели ее потемневшие от плесени стены...
В моем воображении и сейчас мерцает коптилка или маленькая лампа, а возле нее сидит отец над починкой чужих полушубков. Его тихое с трагическими интонациями пение проникает в мой детский сон.
Я не подаю виду, что проснулась, притихла, наливаю свое сердце этой песней. И я уверена: с той ночи грустная отцовская песня поддерживает мое сердце в радостные минуты творчества. Она идет с моими книгами, чтобы утверждать правду в мире и наступать бунтующим отцовским сердцем на кривду. От этой отцовской песни я и теперь иной раз смеюсь слезами, плачу радостью, как героиня повести Ольги Кобылянской «Царевна».
В тусклых отсветах лампы, полуприкрыв глаза, я на всю жизнь всматривалась в отцово худое лицо. Не зря моего отца по-уличному прозвали Турко. От его смуглого красивого лица, от высокой тонкой фигуры веяло Востоком, который, придя на украинские земли, пережил много поколений, но не утратил своих черт. Об этом говорили и чуть продолговатые глаза отца, и линия низко уложенных над ними бровей, и загнутые кверху ресницы. А песня, которую пел отец, была украинская, самая печальная из всех песен, что я слышала в своей жизни. «А в местечке Берестечке сталася нови́на. Чаровала вдовушка казацкого сына». И эта песня была — отцовское сердце; не отуреченное, не онемеченное и не ополяченное. Сердце галицкого бедного работяги, который кормил большую семью — зимой на крейцеры, заработанные на починке чужих полушубков, а летом — на то, что добывал, скитаясь по дорогам, работая в чужих садах, на лесопилках или еще где-нибудь.
Я слышала, говорили люди, что у отца красивый голос, что, еще будучи парнем, пел он в церковном хоре и все заслушивались его пением. Но на моей памяти отец уже не пел в церкви. И я не слышала, чтобы он когда-нибудь пел. Может быть, потому и запомнилась мне та песня, которую он тихо пропел однажды ночью. И его высокий тенор, полный драматического звучания, — этот голос и сейчас для меня самый лучший на свете. Такой красоты голос я услышала только у своего брата Ивана — через много лет.
Отец запомнился мне красивыми черными, обычно усталыми глазами — в минуты, когда он возвращался из своих странствий. Мы бежали рвать для него свежих листьев подорожника, чтобы он мог приложить их к венозным ранам на ногах, которые вечно открывались после походов на заработки. Ноги у отца были синюшные, почти черные, они страшно щерились на нас, а мы не отходили, каждый хотел приложить листочек к отцовской ране. Нам казалось, что, если мы сами его приложим, отцу будет легче. После этого, перевязав свои израненные, обложенные листками подорожника ноги, отец чаще всего растягивался на нашем старом шлябанте.
Усталость трудной жизни приглушила песню в его груди. Наверно, потому я и услышала от него только одну песню, и то ночью, приглушенную и будто прикованную к груди.
Мы любили смотреть на отца, когда он был в кругу людей, там он становился веселым — от желания что-то рассказать народу. А наше детское сердце загоралось гордостью, народ любил послушать отца. Нам, детишкам, не разрешали слушать эти беседы, в них была политика и веселые — не для малышей — приключения. Но отголосок отцовских речей долетал и до нас. Разговор шел обычно про турецкую войну, про императорскую власть и про вечно занесенный, как нам тогда казалось, снегами и льдами Киев, куда москвофильские политики зазвали учиться некоторых наших куликовцев.
И как нам было тяжело, когда отец, подвыпив, начинал браниться с матерью. На слезы и сетования матери, что он своим пьянством отнимает у детей крейцер, который нужен на хлеб, отец зло усмехался, сплевывая сквозь зубы на землю. А в глазах его появлялись зловещие вспышки — это говорили его далекие восточные предки. Так нам было тяжело, когда отец с матерью бранился...
А мать все стоит передо мной на пороге нашей хаты, с большой корзиной на плечах. Она или отправляется еще до рассвета в села покупать масло, яйца и творог, а я остаюсь на целый день с детьми в роли мальчика из моего рассказа «Самый старший» и повести «Смок», или она возвращается из этих скитаний со своим тяжелым грузом, чтобы затем пешком на рассвете нести все это на рынок во Львов. От ее тонких и почему-то всегда синих губ сбегают скорбные складки, хоть мать и силится улыбнуться нам. А щеки ее всегда освещены румянцем, который даже сквозь пыль ее дорог все равно играет. И черные глаза ее, пригасшие от слез, на прощанье все же светятся для нас, как росинки в солнечном луче.
Бедная наша мать, ей все приходилось, как говорили люди, тянуть беду за хвост.
Какой печалью проникалась моя душа, когда я видела ее на пороге. Вот-вот закроется за матерью дверь, и я, самая старшая, останусь в хате с целым выводком детей, из которых один в колыбели, другой ползает по полу, а остальные все держатся за мою юбчонку. Мама ушла — все на мне. И земляной пол, что холодом прилипает к босым ногам, становится еще холоднее от тоски, которая просачивается в каждую клеточку моего тела.
А кроме детей у нас еще есть свинья, которая может высадить дверь в хлеве и отправиться в путешествие по огородам соседей. А мне так хочется спрятаться куда-нибудь подальше от этих домашних хлопот. Больше всего любила я скрываться в кустах «янгруса», как у нас называли крыжовник, и там, где меня никто не сможет найти, побыть в одиночестве. Одиночество... Оно мне было дороже даже тех калачиков, которые мама приносила нам из Львова.
Туркменская пословица говорит, что одному быть хорошо только богу. Но как же хорошо было мне слушать с глазу на глаз землю и всю природу в зарослях смородины или крыжовника и мечтать.
Самой заветной нашей детской мечтой был теленок. Он такой славный, когда произносит свое «ме-е», и нам больше бы хотелось ухаживать за ним, а не за этой свиньей с ее хищными глазами и страшным визгом. Теленок... А из него вырастет корова, и она будет давать молоко. Как я мечтала гнать ее на пастбище, подальше от хаты, где всегда кругом малые дети и непосильные хлопоты, оставленные на мою голову. А там, на зеленом выгоне, я буду рисовать в своем воображении Львов, далекие огоньки которого чуть поблескивали на горизонте, если выйдешь, бывало, за Львовское предместье. Во Львове я учусь на учительницу. Уже вижу себя приехавшей на каникулы домой, вот я хожу по улицам, и мои подружки с завистью смотрят на меня. «Вон, вон малая Турчиха (так меня по-уличному называли) из Львова приехала. Ну чисто как пани стала. Вот что значит, людоньки, наука».
А когда самое малое дитя укачано и спит в колыбели, что стоит посреди хаты, как корабль, я обвязываюсь до пояса платком матери, так, чтобы он был похож на длинную юбку, и хожу среди младших детей учительницей. Они должны меня слушать, они ученики, они те, кем мы все так хотели бы стать. Но мы еще малы и в школу не ходим. И мать, когда уходит из дома, приказывает нам не разжигать огня.
Но разве мне не хочется побыть настоящей хозяйкой. И хоть мать просит и молит, хоть я обещаю не разжигать огня, но один раз все же решаюсь нарушить материнское и свое слово. Ведь как приятно поесть свежей мамалыги, от которой еще идет свежий пар, а не питаться целый день и даже несколько дней всухомятку. Младшие детишки, услышав о моем намерении, даже подпрыгивают от радости, а потом замирают и смотрят на меня сияющими глазами. Я уже не только старшая для них, я такая, что могу зажечь огонь на шестке в сенях и сварить для них мамалыгу.
Лето... Оно гудит пчелами за той дверью сеней, что выходит на огород, оно клубится горячей пылью за дверью, ведущей на улицу. Хоть жизнь вокруг будто замерла, люди где-то на заработках или возле своих клочков земли в поле, но я не открываю дверь, выходящую на улицу. Еще заглянет кто-нибудь и остановит, прекратит мои хозяйственные хлопоты, пригасит мой порыв.
Детишкам приказываю идти в садик и там ждать свежего варева. А их было на ту пору: Иванко, Петро, Оленця и еще такое дитя, что только ползало по земле. Этого я по своему возрасту могла лишь тащить перед собой, и ноги его волочились по земле.
— Вы, меньшие, смотрите мне за малым, чтобы не заполз куда-нибудь в крапиву. А ты, Иванко, возьми мешок и иди на огород рвать ботву для свиньи.
И побежала в хату. С каким вдохновением готовила я это первое в своей жизни варево.
Вот уже вода кипит. Сыплю в нее кукурузную муку — и пою.
Нет, это не желтая, хорошо мне знакомая на вкус мамалыга, а солнечное яство, какое бывает только в сказках. А как приятно переворачивать ее ложкой и чувствовать, как она густеет под рукой. И почему это мать запрещает мне ее варить? Посмотрела бы, как хорошо варю. Вот! Уже готова, без комков, как у мамы. Пусть детишки видят, что я не зря у тата самая любимая его дочь, его первое дитя, его Гасунця. Есть за что такой быть. Несу в садик, словно счастье, большую, горячую миску с мамалыгой, завернутую в какое-то тряпье. А она так еще тяжела для меня... Несколько раз ставлю ее на тропинке и отдыхаю. А когда уже появляюсь на виду у детей, стараюсь держать ее торжественно, как, наверно, держат каравай на свадьбе. Ложки у меня подвязаны в фартучке. Несу. Интересно, как посмотрит на это Иванко, который недолюбливает меня за то, что я любимая дочь тата.
— Нате, ешьте! — ставлю миску на зеленую полянку среди слив. Где еще есть такая зеленая трава, как в нашем садике? Много я видела за свою жизнь зеленой травки, славных сенокосов над карпатскими реками. Но кажется мне, что нет более зеленой и нежной травы, чем та, что красовалась среди тоненьких слив на полянке моего детства. Недалеко от них, уже за тропкой, отделявшей наш огород и садик от соседей Курил, стояла старая дуплистая черешня. И хоть она была на их земле, но почему-то с незапамятных времен считалась нашей. И никто этому не перечил. Вот что значит добрые соседи. На черешне сидел Иванко, который был на два года моложе меня. Самый некрасивый, самый незадачливый в нашей семье. Отец не раз ломал себе голову, в кого бы могло уродиться это нелюбимое дитя. С маленькими черными, как терн, часто мигающими глазами — все время болели, — с небольшим маленьким и круглым носом, с острым взглядом, почему-то всегда настороженным и недоверчивым, он был похож на какого-то монгольского или турецкого предка. И мать умела ответить отцу, когда он задумывался, в кого мог уродиться Иванко. «Разве не видно, что это такой же турок, как и ты?»
Но, может быть, потому, что отец его не любил, и еще потому, что он болел чаще всех, Иванко был ее дитя, к нему у нее было больше всего жалости и нежности.
— Вот как ты рвешь ботву для свиньи, — набросилась я на Иванка. — Не дам тебе мамалыги.
Но Иванко мигом слез с черешни и, не ожидая, пока я развяжу фартучек и выложу оттуда ложки, не боясь обжечься, обмакнул палец в миску с горячей мамалыгой и облизал.
— А мамалыга без соли. Тоже мне хозяйка, — скривил свои пухлые губы, чувствуя себя победителем.
Что еще худшее можно было бы услышать? Я хотела быть настоящей хозяйкой, заранее наслаждалась тем впечатлением, которое произведу. И вот на тебе, Иванко так меня осмеял.
Но мамалыга действительно была несоленая. Я метнулась в хату за солью, оставив миску с горячей мамалыгой на полянке, памятной для меня на всю жизнь своей светлой, зеленой травой и трагическим событием.
Когда бежала с солью по тропке, такой, что другой нигде на свете не сыщешь, уже слышала, каким страшным криком нашего самого младшенького дитяти, которое могло только ползать по земле, был наполнен наш садик. Этот крик подгибал мои ноги, а мне хотелось поскорее добежать и увидеть, что случилось.
И я увидела: на этой полянке, облитое желтой горячей мамалыгой, корчилось наше младшее дитя. Возле него валялась миска, которую оно перевернуло с горячим варевом на себя, и разбросанные по траве ложки. На его крик бежали остальные малыши и Иванко с мешком в руках.
Дети жалобно и виновато говорили:
— А мы хотели помочь Иванку нарвать ботвы для свиньи. Чтобы ты не ругала его, что мало собрал. А то еще тато мог бы его за это побить.
Беда была великая. Дитя заливалось от плача, а мы не знали, что с ним делать. И на этот плач никто не прибежал из старших — все были в поле или на заработках. А надо было как-нибудь угомонить этот надрывный крик. Нам почему-то казалось, что если мы искупаем ребенка в жиже, что вытекает из хлева, из-под свиньи, то ему сразу станет легче. Все вместе несли к этой вонючей канаве не ребенка, а один страшный крик. Окунули в нее несколько раз, а потом обожженное тело посыпали солью. Кто знает, почему мы так делали. Может, видели когда-нибудь, что обожженное мать посыпает чем-то белым, но не додумались, что это не соль, а сода.
Ребенок краснел и синел. И никто до вечера так и не прибежал на этот отчаянный детский крик. Местечко словно вымерло. Только звонкое горячее лето с гуденьем пчел и шмелей дышало возле нас, но оно было бессильно чем-нибудь нам помочь. А мы продолжали лечить дитя, напуганные мыслью: что будет, если мать придет, а оно не перестанет кричать. И вот оно начало хрипнуть, а когда солнце пошло на спад, совсем притихло. Как красиво это алое солнце. Я взяла притихшее дитя на руки, а меньшие вцепились за руки Иванка, и мы все пошли на гостинец, как у нас называли мощеную дорогу, — навстречу маме. Увидели ее еще издали, как солнце. Только оно спадало все ниже, а мать подходила все ближе к нам. Добрая наша мама, она несла нам калачик из Львова. Но каким станет ее лицо, когда увидит, что ребенок так посинел?
Уже люди, возвращавшиеся с поля, обступили нас.
— Людоньки, людоньки! — кричали они. — Да ведь они несут...
Мать взяла из наших рук уже мертвое дитя. И стоит эта полянка моего детства среди молодых слив на всю жизнь в моей памяти. И я не забываю ее зелени, а боль, упавшая на душу после того события в садике, заставила меня, наверно, написать рассказ «Самый старший», и повесть «Смок», и поэму о детских годах Т. Г. Шевченко — «Детство поэта».
III
Стояла поздняя осень. Ноябрь затянул дали туманами, сыпал серой, мокрой мглой. С редактором польской газеты «Красный штандарт» я после двадцатипятилетней разлуки с родными местами ехала в свой Куликов. Для меня в тот день все было торжественно: и хмурые львовские улицы, на которых так радостно было видеть наши войска, и этот затянутый туманами день, и мое сердце, переполненное событиями, похожими на сказку. Мечта сбылась — я возвращаюсь в свое родное местечко...
За бывшей Жовковской рогаткой на окраине Львова начиналась та памятная для меня дорога — гостинец, которая, если посмотришь на нее с Высокого замка, летела ровной стрелой на Дорошев, на Куликов, на Жовкву.
Памятная дорога... Сколько раз родители мои, уходя на заработки, мерили ее ногами. Сколько впитала она слез моей всегда согнутой под ношей труженицы матери.
Я еду по ней сейчас будто для того, чтобы собрать эти материнские тяжелые слезы. И каждая слезинка оживает, говорит по-своему в моем сердце.
Шофер-поляк, который везет нас, роняет словцо о нашем местечке. Голос его с польским говорком будто пробуждает меня. Шофер, видно, хочет меня рассмешить:
— О, Куликув то есть такое вельке място, где на углу возле костела стоит полицай и показывает свинье дорогу, куда ей идти.
Он еще что-то говорит с добродушной улыбкой про наше местечко, но я уже его не слышу. Я смотрю на эту незабываемую дорогу, по которой когда-то устремлялись мои детские мечты увидеть Львов...
Это впервые произошло в дни войны. И хоть в нашем местечке была москвофильская читальня, про которую говорили «кацапская», и хоть отец мой обивал ее порог, как и Проць из повести «Смок», а мы, дети, бегали туда смотреть на танцы, и слово «русский» было у нас в большом почете, — но, когда наступали в 1914 году русские войска, мать заложила дверь хаты колышком, и мы всей семьей подались наутек во Львов. Чего только не говорили у нас тогда об этом незнакомом для нас войске: донские казаки с длинными пиками и с одним глазом, гарцуют на конях. Какой это страх! А тато на заработках. Может, этот страх и прошел бы, будь он дома. Бежать, бежать во Львов.
И мы бежим, как и многие другие люди. Тем и памятна мне была с детства эта дорога на Львов. Кто сжалится — подвезет малышей, но я, старшая, иду с мамой пешком. И пристала эта дорога своими горячими камнями навек к моим ногам. Когда уже в сумерках летнего вечера поднялась перед нами зеленой шапкой Княжья гора с Высоким замком, дорога стала остывать. А когда совсем стемнело, Львов коснулся уже холодными камнями наших босых ног. И Львов прожигает меня навек холодом своих ночных тротуаров. Вскоре мы вернулись в свое местечко.
Как дорога после этого путешествия была мне родная хата и стежка, что вела на наш огород и в наш садик.
Но приехал русский царь. Говорят, будет с ратуши во Львове говорить с людьми. Могут ли куликовцы, которым так интересно все происходящее вокруг, пропустить это событие? Тем более что с русскими солдатами куликовцы уже ведут себя как со своими.
И бегут, бегут, запыхавшиеся, с горящими от интереса глазами. Собирается туда и мой отец. Вот так же собирался Проць — Маринцин отец из повести «Смок».
Я хмуро слежу за ним, тоже хочу во Львов. Но тато говорит, что политика не для детей. Вся политика в его мудрой голове.
Настал торжественный день, сбылось то, чем забивала людям головы москвофильская читальня. Россия уже в Куликове, уже во Львове. И русский царь снизошел, не отказался поговорить с галицкими людьми. Как же не пойти туда отцу. А ты, отцова дочь, сиди с мамой.
Мать с тревогой смотрит на отцовские сборы, ее и раньше беспокоили визиты отца в москвофильскую читальню. С усмешкой в глазах смотрит на отца и Иванка. Его не тянет, как меня, во Львов. То, что очень интересует отца, уж никак не будет интересовать его. Он — мамин. Все его болезни она старательно лечит: и частое воспаление легких и припухшие железки. То, что большинство своих болезней он сам себе набегал, носясь босиком по снегу или проваливаясь на коньках в воду, — это Иванка не трогает. Мама его за это не бьет, мама его жалеет. И за это он ее сын.
Иванко стоит в углу и, поглядывая на меня, иронически кривит свои пухлые губы. Что ему царь, чтобы на него смотреть. Но он хорошо знает, как мне хочется идти во Львов. А вот не берут. И он прожигает меня своими черными насмешливыми глазами.
Но я буду во Львове! Потихоньку от матери и от всех я тоже бегу смотреть на русского царя. С отцом я там не встретилась. С нашими куликовскими людьми я добралась до рынка, что около ратуши, откуда говорил Николай Второй львовским жителям свое царское слово.
И кровавился путь из Львова от моих сбитых ног, когда я возвращалась домой, как и мои мечты, а позднее и мечты всех куликовцев, надеявшихся на ласку русского царя.
И этот москвофильский дурман совсем выветрился из голов и из душ куликовцев, когда познали они на дорогах царской России беженское счастье.
Сначала нам, малышам, даже интересно было смотреть, как спешит австрийское войско к русской границе. Правда, когда оно начало отступать, было очень жалостно смотреть на солдат, какие они запыленные и измученные.
Тато наш в такие дни где-то прятался. Зато когда пришла Россия, он уже ходил, задрав голову, по местечку, разговаривал о политике, проклинал Австрию и поляков.
Но вот начала отступать Россия. Однажды летним днем громкая весть пригнала с поля нашу маму.
Отца нашего забрали копать окопы где-то за Львовом. Что нам делать без него, как быть? Ведь тато ходил в москвофильскую читальню. Что будет с нами, когда вернется Австрия? И мать собрала наспех кое-какую одежду, связала в узелки, меньшие дала мне и Иванку, а самый большой взяла себе.
И она навек закрыла на колышек в этот день нашу хату. Миновав предместье Жовквы, мы подались полевыми дорогами на восток. А вышло нас всех: мать, я — старшая, за мной Иванко, потом Петро и младшая сестричка Оленця и еще — нерожденное дитя, которое должно было скоро увидеть свет. Каково будет матери с таким большим животом в дороге?
Полевые дороги теперь заменяли нам родную хату. Нам, детишкам, пока не заболели ноги, было даже интересно куда-то идти. Но уже под вечер, когда солнце за нами будто облилось кровью, красные пожары на горизонте обдали наши души горячей тревогой.
Говорили, что горит наш Куликов. Война гналась за нами, как Смок. И быстрее стали ехать фуры с людьми; у кого была скотина, тот гнал ее в страхе, коровы надрывно ревели, плакали малые дети. Но хуже всего было таким, как мы, — мы не сидели на возах, а бежали сзади.
И я не могла не написать свою повесть о беженцах «Смок», как и романа «Рондюки». В повести «Смок» я хотела показать судьбу беженцев, пришедших в Россию. А в романе «Рондюки» — долю того бедного люда, который жался к украинской читальне и с наступлением русских войск бежал в Австрию, отдав своих сыновей в «сечевые стрельцы» сражаться неизвестно за кого и за что. Но роман этот не увидел света.
Лишь первая часть романа «Рондюки» была напечатана в журнале «Жизнь и революция» еще в 1930 году.
Могу ли я не помнить кровавое солнце в тот день над Куликовом, когда оставили мы летом 1915 года родную хату. Оно жжет меня тяжелым воспоминанием и поныне, а погибшая рукопись романа «Рондюки» могилой чернеет в сердце.
IV
Есть ли на свете человек, который не помнит улицы своего детства? У кого ее нет, жизнь такого человека словно обворована.
Родная улица, улица детства... Время меняет очертания сел, местечек, рек и целой страны. Земля, расцветавшая садами, может стать пустырем, а пустыри — заголубеть водой, зазеленеть садами и рощами, покрыться строениями. Могут пролечь дороги там, где зеленели травы, где стояла ваша хата, веяли свежестью леса и звенела птичья песня. Но улица детства живет в памяти такой, какой была в те незабываемые дни. Время не изменяет ее. И каждое дерево цветет в памяти, как цвело тогда, и садятся на него знакомые птицы, и легкий ветер детства, самый свежий и самый приятный из всех ветерков, овевает сердце.
Наша улочка Загорода с ее будто покачнувшимися назад хатами, голая, без деревьев, с горячей в жару и прохладной, бархатно-нежной к вечеру пылью, была в моем детстве самой широкой, большой улицей.
Сколько посидела я в ее пыли возле нашей хаты вместе со всем нашим выводком, высматривая с заработков мать. Левее от нас, если идти из местечка, стояла хата добрых наших соседей Курил. Туда пришла из Жовкивского предместья голубоглазая, с золотой косой вокруг головы молодая невестка Оленка Барычиха. К ней не раз приходил ее младший брат Сильвестр, одетый в гимназическую форму; он учился во Львове, и мы с завистью посматривали на него.
Для нас он был уже пан. Мы бегали смотреть на свадьбу Оленки Барычихи, и нас там хорошо угощали. И эта свадьба и щедрое угощение памятны мне, как и наша улица. Против нас и Курил была хата Пьюриков, а дальше улица сбегала туда, где жили Шахи, а перед ними в глубине сада белел красивый дом нашего священника. Дальше через несколько хат Загорода кончалась, там уже начинались зеленые луга, опоясывавшие центр местечка. За ними в селе Надичи пышной зеленой шапкой поднималось панское имение. Мимо него шла дорога на Гребенцы и Новое село, которое, как мне казалось, враждовало с куликовцами из-за того, что ходило в украинскую читальню, а куликовцы больше тяготели к москвофильской. Из Надичей по нашей улице не раз проезжал в бричке помещик, пан-дидыч, как мы его называли, и проходил к церкви наш «его милость». Мы тогда срывались из пыли нашей улицы и бежали за хату или рассаживались в ряд на завалинке, притихнув голосами и мыслями. Так же гнали нас из этой пыли за хату и стада коров, возвращавшихся с пастбища. Но лишь только они проходили, мы опять выбегали на улицу, чтоб смотреть в ту сторону, откуда должна прийти мама. Если мы ждали ее из Львова, то сразу же правее нашей хаты мы пробегали глазами хату соседки нашей Сорочихи. В ее хате мы никогда не были, как и она у нас, какой-то холодок прошел между нашими родителями. Что именно — мы не знали. А за этой хатой чуть подальше стоял дом, и мы мечтали, чтобы и у нас был такой.
Там помещалась почта, а против нее из узенького заулка вылезала одним боком хатенка сапожника Галайко. Возле нее не было ни двора, ни огорода. И летом вся трудовая жизнь выглядывала из этой хаты прямо на улицу.
На пороге сеней всегда сидел вуйко Галайко, постукивая молотком. На всю улицу оттуда тянуло запахом вареной картошки, заправленной поджаренным на масле лучком. Как манил нас этот сладкий запах, как тянул к Галайковой хате. Не раз кто-нибудь из нас, наголодавшись, отваживался подойти и стать сиротой у двери, за которой ели эту самую вкусную на свете картошку. И ему давали ее поесть, не скупились. Но тато, если узнавал об этом, не жалея, сыпал ремней и бил так, чтобы все видели. Потому что это был срам для всей семьи, на все местечко — пойти и стать под чужой хатой, когда там едят.
За Галайковой хатой улица Загорода бежала к старому костелу, который стоял среди разлапистых с глубокими дуплами древних лип. Нам казалось, что война дохнула на нас оттуда. Когда убили Фердинанда, среди этих лип на костеле висел черный флаг, напоминая о кровавом Смоке, который разевал свои огненные пасти на людей. Но если пройти мимо этого страшного места, дальше тянется такой заманчивый для нас гостинец, а на нем, как солнце, можно увидеть нашу маму, когда она будет возвращаться из Львова. Она будет сердиться, что мы бросили хату и вышли так далеко ее высматривать. Но ее гнев быстро перейдет в жалость и слезы. Мы это уже знаем.
— Деточки мои, сладенькие! Как натужились, как наплакались по маме. — И она тут же вытащит долгожданный рогалик, разломит его на кусочки и каждого наделит. Мама, дорогая наша мама!
И каким зловещим мраком дышала на нас тревога от этих лип вокруг костела, когда подходила ночь, а матери не было.
Улица детства... Как я порывалась к ней сердцем в тот осенний прохладный день, когда после двадцатипятилетней разлуки возвращалась, чтобы опять встретиться с нею.
Машина уже ехала Львовским предместьем. Скоро, скоро будет и наша Загорода. Надо было пройти через все местечко, миновать костел, а от него, если идти гостинцем, слева будет аптека, а справа — группа езрейских облезлых домиков, стоявших в такой тесноте, будто их приклеили один к другому.
Ниже был мостик над Думным потоком, который мы гордо называли рекой, а за ним каменистый гостинец перерезал, как мне казалось, самые широкие в мире луга. Старые люди помнили, как все луга, отделявшие Львовское предместье от центра местечка, залило водой. В память той великой воды, наверно, и осталось слово «пруды», как до сих пор называют куликовские луга, где так заманчиво розовеет весной памятный для меня аистов-цвет. С той дороги, правее за лугами, виднеются две мервицкие горы, они всегда притягивали мой взор, а впоследствии о них напоминали мне закарпатские Близнецы. Там заходило солнце, и мне казалось, что оно садится на эти горы и прячется в них. Как хотелось туда пойти, прикоснуться к этому солнцу.
Гостинец, прорезая луга, поворачивал возле мельницы чуть левее, чтобы бежать через Львовское предместье, уже не сворачивая никуда, напрямик — во Львов.
От мельницы отходили памятные для меня две улицы. Та, что левее, вела к моим теткам. А правее бежала от мельницы тропка в тот садик, где отец в шутку обручил меня с мальчиком Васильком.
Это было в ту пору, когда лето вызванивало своими последними днями. Но еще гудели пчелы, еще было тепло. Отец в хорошем настроении сидел со своим приятелем в его садике, а я была неподалеку, прислушивалась, о чем говорят старшие. Мальчик Василь принес красное большое яблоко. Он был всего на год или два старше меня, но в церковь один еще не ходил. Яблоко в его руке будто излучало тепло этого дня, и песню пчел, и наши детские мечты. Товарищ отца взял яблоко с ладони Василя и разрезал ножом надвое. Одну половину дал мне, а другую Василю.
— Обручим наших детей, — обратился он к моему отцу.
— А почему бы и нет. Еще какая получится пара.
Отец весело смотрел на нас, а меня это красное яблоко прожгло стыдом, который запомнился на всю жизнь.
С того времени я стала бояться встреч с Василем. Как это хорошо, что он живет далеко и мне легко избежать встречи с ним. А когда шла в Львовское предместье, стыдно было даже взглянуть на тропку, что вела в садик, где меня обручили.
Вот уже машина пересекла Львовское предместье и приблизилась к мельнице, откуда разлетаются эти памятные для меня тропки. Но меня сейчас больше волнует та, что бежит к улочке, где стоит хата моей кривой тетки Маринки. Дальше на той же улочке, на той же стороне — хата тетки Оленки, а за нею та старая прабабкина хатенка, где родилась моя мать Гафия Соколовская. Я помню, тогда здесь уже жила тетка Пазька, младшая сестра моей матери. А за хатенкой стелилось поле, и там во ржи горели красные маки. Бывало, перескочишь через перелаз и идешь этой зеленой тропкой между стенами ржи. Есть ли еще где в мире такая приманчивая тропка? А по ней можно дойти до травяного островка, от которого начинается и наш клочок поля.
Поле... С какой завистью наши тетки, что жили только случайными заработками, смотрели на эти наши полморга. Для них это была недостижимая мечта.
С Минкой — дочерью тетки Маринки — у нас была одна школа, одни песни. Это ничего, что она немного старше меня. А против этой моей сестренки жила Оленця Стельмах, с которой мы сидели в школе на одной лавке и дружили. Как сложилась их судьба за эти двадцать пять лет, что мы не виделись? Живы ли?
Скоро, скоро родное местечко с судьбами его людей войдет в мое сердце.
Машина уже миновала луга за Львовским предместьем и будто взлетела вверх — в местечко. Возле костела шофер повернул направо, на нашу улицу. Конечно, первая встреча должна быть у меня с нашей хатой. Шофер уже припрятал свои шутки про наш Куликов. Святое молчание — самая лучшая речь для такой минуты.
Свет мой! Какая узенькая наша Загорода! А мне когда-то казалась самой большой улицей в мире. На ней и машине не развернуться. Но хаты те же, каждую я узнаю и знаю, кто в какой живет. Вот хата Евки Шах, Бащихи, как еще говорили о ней по-уличному. А вот и хатенка сапожника Галайко. Кажется, вот-вот сейчас запахнет вареной картошкой, заправленной поджаренным луком. Скоро должна быть и наша хата, но я ее не вижу. Она только стоит в моей памяти, эта старая наша родительская хата, и, наверно, так будет стоять, пока я живу. На улице безлюдно. Все где-то за работой, потому что сейчас не воскресенье, не праздник. Только позднеосенний, безрадостный, мелко моросящий день вышел пока ко мне навстречу на этой улице, к которой порывались когда-то через проволочные границы мои мечты.
Но где же наша хата? Неужели я ее не могу узнать? Или, может быть, проехали, или не доехали до нее? В голове моей еще не вмещается мысль, что за эти годы ее могло не стать. А как мне хочется переступить через ее порог! Но узнаю колодец, что стоял сейчас же за нашей хатой в начале маленького переулка, отходившего от нашей Загороды. Пожилая женщина — не в платье, а в одних заплатах — идет от этого колодца к нам с полными ведрами воды на коромысле. И я всем сердцем в эту минуту затужила по матери. Она тоже носила воду на коромысле. Вот-вот мать подойдет и скажет сейчас мне долгожданное слово...
Я спрашиваю у женщины, где здесь хата Турчинских. Она ставит ведра с водой, молчит и смотрит на меня. А потом вскрикивает:
— Ей-богу, вы будете Турчиха Федькова. Я же по глазам узнаю вашего тата. Ой, людоньки, ой, людоньки!
Женщина заливается слезами и причитаниями. И уже по всему местечку идет молва, что малая Турчиха приехала из России.
— Нет, нет, Гасунця, вашей хаты. — Женщина плачет, и плачет не столько по нашей хате, сколько по уничтоженной семье. А может, от радости, что вот настало такое долгожданное время и свои люди возвращаются в родные места.
Шофер хочет развернуться, и для этого ему приходится проехать в самый конец нашей улицы, к панскому двору. А я уже стою на месте, где была наша хата, и она возникает передо мной во всех мелочах, со всеми ее заплатками.
Словно переступаю высокий порог, через который когда-то мне было так тяжело перелезать. И как было радостно чувствовать, что ты уже вырос, что можешь его одолеть.
Против уличной двери, в сенях с земляным полом была другая — вела на огород, и за нею голосила страшная тогда для нас свинья. Но с какой жалостью мы покидали ее, когда выходили из дома, уходили в тот горький пятнадцатый год. У нее как раз были поросята. И как такое богатство оставить, и как его возьмешь с собой, если все надо нести только на себе.
В сени выходила одной стороной печь, на которой я варила ту, памятную мамалыгу. Дверь в хату и из хаты открывалась нажатием щеколды. Холодок от нее на большом и указательном пальцах чувствую и до сих пор. Сразу же вправо от двери в хату стоял мисник с разной утварью и тарелками, налево печка — пьец, как говорили мы, а к нему была придвинута вплотную лавка, исписанная всей нашей бедой, нашими детскими радостями и мечтами. Как мы, малыши, любили посидеть на ней зимой, когда в печке теплело. И не было ничего печальнее, как сидеть на ней, если в хате не топлено. Тогда, казалось, холод и разные болезни крепче и назойливее скалили свои зубы, а мечты увядали. Уж лучше было прижиматься друг к другу на шлябанте, что стоял напротив, дышать на замерзшее оконное стекло, чтобы отогреть хоть маленький уголок и через него смотреть на улицу.
Против шлябанта, в той стороне, где была печь, будто вросла в землю большая деревянная кровать, которая пережила не одно поколение, не одну жизнь в этой хате. Она кишела клопами, и, чтобы от них избавиться, можно было только сжечь эту кровать. Но она нужна была здесь еще не для одной жизни, а клопы уже к нам попривыкали, как и мы к ним.
За кроватью, под стеной стоял сундук, где хранилось все богатство нашего рода. А дальше, ближе к шлябанту, — большой стол, за которым отец чаще всего при лампе чинил полушубки. Дощатые стены в хате были черны от старости и сырости. По ним все бегали стоножки, с которыми мы тоже свыклись, как и они с нами. Потолок тоже был деревянный, перекрещенный тяжелыми балками, за них мать в лучшие минуты своей жизни любила втыкать бумажные цветы, прикрепленные к прутикам. Какая это была великая радость в хате, когда мать делала эти цветы! Розовые, синие, желтые, оранжевые, они лежали перед нами, как живые мечты, которые вот-вот должны были осуществиться. Такими цветами были украшены потолки в тех хатах, где были девушки на выданье. А в нашей хате в последние годы перед войной эти цветы торчали уже поблекшие от времени, подобные маминым молодым летам, что увядали, хирели на наших глазах. Годы уходили на малых детей и на заработки для нас, а отец хоть и не часто, но любил побыть в веселом обществе и выпить. Мать ему этого никогда так не оставляла. Что будут есть дети? Ведь из нужды семья не вылезала.
Как тяжелы были для нас эти ссоры в хате между отцом и матерью! И как было хорошо, когда мать садилась делать эти цветы и учила меня. Тогда, наверно, и на сердце у нее все было в цветах, как на наших лугах весной.
Земляной пол в нашей хате — в нем была и беда и радость. Зимой он был нестерпимо холодным. Лишь дедух — сноп соломы, который бросали на землю под рождество, скрашивал его тогда. Как мы ждали минуты, когда несколько таких снопов соломы расстелют на полу и мы сможем прыгать на этот дедух с лавки, словно в золотые волны.
И как приятна была земля этого пола летом, когда жара и духота гнали нас с улицы!
Запомнилась еще мне большая колыбель среди хаты, в ней лежало, или выглядывало, или свешивалось с нее мое несчастье, малое дитя, которое причиняло мне больше всего забот. Особенно тогда, когда еще не могло само ни есть, ни сидеть. Но на рождественские праздники эту колыбель отодвигали в сторону, потому что в такой день родители были дома. И ребенок был уже их заботой. Золотела на земле солома, на стол было положено пахучее сено и застлано сверху чистой скатертью, на ней были кутья, юшка с грибами и галушками, сладкий узвар из груш и слив и пироги.
В будни это все могло быть только в мечтах, а на рождественские праздники красовалось на столе.
Я стояла со склоненной головой на месте нашей хаты в тот осенний день 1939 года и видела своей памятью ее черные деревянные стены, ее дорогую землю.
А когда подняла глаза, вся улица уже собралась здесь и, онемев, смотрела на меня. И никто не нарушал этого молчания, понимая, что значит прийти после долгой разлуки на землю отцов. От места, где была наша хата, я пошла по следам нашего огорода и садика, который кончался холмами — их здесь называли валами. Внизу за ними были огороды, дальше луга, где цвел весной памятный мне аистов-цвет. А дальше на взгорьях поднималось Жовкивское предместье.
От нашего садика не осталось ни одного дерева. Но каждое росло в моей памяти. Я всматривалась в места, где они стояли когда-то, и птичья песня тех детских лет наполняла мое сердце. И я шла по тропке, которую там уже проложили люди, шла по беде нашего рода, по нашей нужде, по следам нашей уничтоженной войной, вымершей семьи. Я одна выжила, одна, и настал день — рухнули границы, и я приехала поклониться родной земле.
А люди на улице в молчании ждали моего слова, пока я проходила памятью свое детство. Им так много хотелось расспросить у меня. Ведь до них еще при панской Польше дошел слух, что меня будто бы расстреляли в Советском Союзе, а выходит, что это неправда. Я жива и приехала хорошо одетая, а для них много значит, в какой одежде человек стоит перед ними. У беды есть свой язык. Человеку не до шика в одежде, если нечего есть. А может, специально нарядили?.. И люди волновались, забрасывали меня вопросами: «А правда это, что Советы позволяют иметь только одну сорочку? А правда, что по их законам семьи не должно быть и женщины должны быть общими, как и все остальное?» Потому что разное им про нашу жизнь здесь говорили. Вопросы звучали как немыслимая чушь, но люди спрашивали, тревожились.
Красная Армия, когда шла, много им рассказывала о жизни у нас. Но люди верили и не верили. А я первая своя ласточка — дочь Федька Турка, с которым они гуляли в молодости, ходили вместе на заработки. Я должна сказать правду. Разговоры не угасали, на этом месте можно бы и три дня простоять — и им не было бы конца. Но кто-то среди людей сказал:
— Люди добрые, да ведь ей же надо и с родней повидаться. Наверно, она захочет послушать и про своего брата.
— Про какого брата? Ведь я же одна осталась из нашей семьи в живых. Одна.
— Да про Ивана. Он здесь был при Польше, только... — Люди недоговаривали. Может, не хотели при первой встрече сказать мне про моего брата горькую правду. Добрые куликовские обычаи не позволяли вот так сразу влить человеку в сердце горечь.
Иван... Я не виделась с ним двадцать лет и уверена была, что он погиб. А он, выходит, был где-то здесь, и, может быть, даже скоро я с ним встречусь.
— Тебе, детка дорогая, наверно, тетки расскажут все о нем. Они знают, где он сейчас.
А уже слух, что малая Турчиха из России приехала, облетел все местечко, и улицей Загородой бежала мне навстречу моя двоюродная сестра Минка.
Изрытая печальными событиями, лежала в моей памяти повесть моего детства. А та, что ждала меня, была еще печальнее...
Перед самой войной Иванко выскочил через окно из школы и заявил родителям:
— Не буду учиться.
Это произошло после того, как учитель начал сечь его по ладоням розгами, приговаривая:
— Будешь знать, что в Куликове школа польская, и отвечать мне по-польски.
И это действительно было так. Хоть на весь Куликов, может быть, и нашлось бы тогда две-три польские семьи, но школа была польская.
Но если пан учитель оказался таким настойчивым, то пусть он знает, что Иванко может заупрямиться еще крепче.
— Не буду говорить по-польски, и все.
А когда учитель так начал сечь розгами по ладоням, что уже трудно было сдержаться, Иванко через окно выскочил из школы и заявил родителям:
— В такую школу не пойду.
Но отец хотел, чтобы дети его учились. Когда не помогли уговоры, начал бить Ивана ремнем. Мать плакала, заступалась, прикрывала сына собой и наконец выпалила:
— А ты доучился в этой школе? Сам на втором году науки выскочил из окна. Ты спрашиваешь, в кого бы это Иван мог уродиться. Тебя, тебя повторяет во всем. Так за что же, за что его так бить?
Да, кто-то рассказывал нам, как отец сцепился за что-то с егомостем на уроке закона божия и, когда тот начал его сечь палкой по рукам, выскочил через окно из школы, так же как теперь Иванко. И больше туда не ходил.
Что на это мог сказать отец? Хоть и зол был на Ивана, но бить перестал.
Так Иванко, любимое мамино дитя, перестал учиться. А вскоре началась война, и уже было не до наук.
Дороги, беженская жизнь, а потом сиротство стерли между мною и Иваном то, что я была отцовой любимицей. Из горя нашей семьи вырастала в нас теплота родственных чувств, и чем дальше, тем становилась сильнее. Но мы разлучились, я думала, что Иванко погиб, а вот, оказывается, брат жив и где-то здесь, во Львове. И из памяти поднимались события, написанные жизнью на той длинной дороге, которая соединяла, разъединяла нас и опять сводила вместе.
V
Радость сияет той или другой краской не сама по себе. Все зависит от той минуты, когда она приходит в нашу жизнь.
А на памятных полевых дорогах, где гналась за нами война, радость пришла к нам ночью, когда мы подошли к лесу. Это уже был не первый день нашей беженской жизни. Люди остановились отдохнуть.
Натужно мычали коровы, кричали грудные дети, слышно было все громче, как бухают пушки. Война не отступала, гналась за нами, а люди обессилели от тяжелых узлов и дороги.
Но рев детей, казалось, пересиливал пушечную канонаду. И самым голосистым был младший наш, Петро. Он все время повторял, что у него болят ноги и он хочет домой. Мы, старшие, утешали его, говорили, что домой нельзя, там война. Перед нами был невиданный лес и ночь. Лес пугал нас своей высотой и темнотой, и слова утешения, которые мы могли бы сказать Петру, таяли в нашем страхе.
Мать лежала на траве, безмолвная, с посиневшими губами, и смотрела на небо странными глазами. Ее большой живот выпирал, как гора. Мы уже все понимали, что у нее должен быть ребенок, только не знали, как скоро это произойдет. Мать, казалось, была равнодушна к плачу Петра, она словно улетала туда, куда смотрела, и нас охватил страх — как бы она не умерла. Это высказал вслух Иван, пугая Петрика: «Вон, вон, мама умирает, а ты кричишь». Петрик смолк и окаменевшими, полными страха глазами впился в безмолвное лицо матери. А нам еще страшнее стало от этого.
И вот тогда появился наш тато. Ой! Ой! Сколько же он людей расспросил, пока напал на след куликовцев. А сколько насмотрелся дорог, ведь люди не идут гостинцем, а все полевыми дорогами, и каждое село придерживается своей. И это хорошо, иначе он вряд ли нашел бы своих. А теперь вот радость, все уже вместе.
Отец был где-то за Львовом. Неизвестно как, но дошел до них слух, что уже тронулись с места Гребенцы, Дорошев, — значит, и Куликов. И это счастье, что удалось сесть в поезд с солдатами. Их взяли только потому, что солдаты видели, как они рыли окопы, и знали, что им уже разрешено возвратиться домой.
Но эта тревога уже позади. Есть тато, есть тато! И все дети для него сейчас дороги, все равны. Даже Иванка он так прижимал к своей груди, словно больше всего боялся его потерять. Иванко от этого даже расплакался, а мы говорили:
— Глупый, что же ты плачешь, если тато вернулся. Ведь это радость.
Казалось, большей радости мы еще никогда не переживали. И мать повеселела, и уже не страшны нам были ни лес, ни война. Тато с нами, тато...
С появлением его нам сразу стало легче в дороге. Он нашел среди людей таких, кто согласился взять на воз Петра, Оленцю, один из наших узлов. «Только бы не растеряться», — убивалась мать. И теперь самый большой узел лег на плечи отца, а матери и нам, старшим детям, стало легче. Но война махала языками красного пламени вслед нам и подгоняла все вперед. Уже у отца потускнела в глазах радость от встречи, от мысли, что мы нашлись. Пот струился черными потоками по его лицу, он злобно сплевывал себе под ноги, тяжело дышал, и мы боялись с ним заговорить. Нам казалось: отец сердится за то, что у него есть мы (а куда нам деться?). Вот и бежали, держались поближе к нему, чтоб не потеряться. Но на нас ли сердился в те часы отец? Не на войну ли, что выгнала нас из дома, бросила на чужие дороги?
И мать наша родила в лесу, как Проциха — мать Маринци из повести «Смок».
Она тяжко кричала, от этого стона содрогались сосны и весь беженский лагерь, плакали женщины. Отец в отчаянии чуть ли не бился головой о стволы деревьев, а мы каменели... А потом наш отец отправился искать подводу, как ходил Проць. Ведь кто мог бы взять нашу мать на воз? Куликовцы были такие же безлошадные, как и безземельные. Если и начнешь считать тех, кто с возом, много будет пальцев и на одной руке. А ведь и у них семья, свои узлы и своя беда. И мать же не открывает глаз, ее треплет лихорадка, на возу она не сядет, ей нужно только лежать. Кто захочет брать на себя такую беду, чтобы свои дети пешком шли.
Люди плакали, прощаясь с нами, тяжко охали, но все-таки трогались в дорогу и шли дальше, гонимые неудержимым страхом войны.
И вот мы уже одни в этом лесу. Летняя лесная тишина ласково касается нашего горя шумом сосен. Ведь даже в самую тяжелую минуту всегда находится какая-то своя отрада.
Насколько прекраснее всех красот земли человеческая доброта, особенно если она приходит к тебе в тяжелую минуту. Нашелся добрый простой человек, и он привез нашего отца, помог ему положить мать на воз. А мы сами повскакивали на него, словно на небо, где был рай, о котором нам толковали наши ксендзы. Уселись вокруг матери, сидим и счастливы: все вместе, все живы и можно ехать дальше. А благодаря кому есть у нас воз? Конечно же благодаря нашему малышу, который родился в дороге. И уже все рады, что нашелся он на нашу беду. Едем, едем! Да что говорить! Не знаешь, когда и где придет к тебе радость. А скоро будет и граница. Мы так ждем ее, словно с нею положен будет конец всем войнам и всей беде, словно там ждет нас то, что люди называют счастьем, которое не дается никому, чтобы посмотреть ему в глаза. Мы-то его обязательно увидим. Но раздается гром, падает дождь, а дальше громы начинают бить так, словно хотят со всех сторон взорвать землю. Сидим на возу, словно в реке. А потом увязли и падаем все с воза в полесскую грязь, как Ганка из повести «Смок» со своими малышами.
Но и такую беду можно пережить. Все старшие собрали нас вместе. Грязь облепила нашу одежду, но что она для нас, если мы уже стоим под какой-то елкой, словно возле родной хаты. Светает, и можно видеть, на кого мы похожи: черные, как черти, блестим слизью болота, от этого уже смех начинает нас душить, но не успевает сорваться с губ: мать кричит на весь лес:
— Где маленький, где маленький?
Мы не видели, как она до этого в страшной тревоге шарила руками по грязи, искала ребенка, а теперь кричит на весь лес. Не иначе как его захлестнуло грязью, и нет уже нашего маленького, которого мы успели так полюбить. Идем все. Но и на эту беду пришла к нам радость. Дитя спокойно лежало в сторонке от грязи и спало. Наверно, его выбросило сюда в ту минуту, когда конь задумал нас спасать и рванул воз.
Даже в такие страшные воробьиные ночи может прийти счастье. С этой радостью мы и переезжаем границу.
Наш возчик поворачивает назад.
Мы жалеем, что не будет больше с нами доброго человека, да еще с возом. Боязливо, с опаской касаемся пальцами коня, прощаясь и с ним.
— А теперь идите туда, — показывает нам возчик на длинный поповский хлев. И мы вошли в этот первый на нашем пути беженский пункт. И увидели чудо. Что-то большое, блистающее золотом стояло на земле, дышало теплом, и из него вылетали искры.
Самый смелый из нас — брат Иванко — коснулся пальцами этого золотого чуда и, отскочив, сказал, что оно горячее. А люди жались к нему, толпились вокруг. И это золотое, обжигающее люди называли самовар.
На этом пункте мы встретились со многими беженцами, но куликовских не было. Задерживаться долго здесь не разрешалось — подходили все новые беженцы. И опять начались наши странствия от села до села, от местечка к местечку. То пешком идем, то кто-нибудь подвезет. Люди выносят нам хлеба, сала, молока. Мы и дома не имели столько еды, как в дороге. Люди здесь жалостливые, добрыми глазами смотрят на нас. Уже Петро не плачет по нашей хате, уже без этих скитаний, кажется, нам трудно было бы и прожить. Но в Здолбунове задерживаемся — мать уже тревожилась, что наше малое дитя некрещеное. Хоть отцу это было безразлично, к церкви его не тянуло, но на просьбу матери согласился.
Приняла нас к себе на несколько дней одна семья. Впервые мы попробовали здесь надднепровского, украинского борща, — у нас его варили без картошки и капусты, с одной лишь свеклой. Мальчика крестили, назвали Владимиром и двинулись дальше. Отец узнал, что куликовские подались в сторону Киева. Киев, говорят, большой город, значит, и работу быстрее можно будет получить.
А куликовцы все привыкли держаться большого города, и он хочет туда. А за то, что бросили нас в лесу под Бузьком, он на земляков не гневается. Что им еще оставалось делать, свои дети и своя беда ближе, чем чужая.
В Чернобыле мы сели на пароход.
VI
Большего чуда за всю свою жизнь мы еще не видели. Едем, едем в Киев на машине, которая везет нас по воде и так пыхает трубой, как когда-то наш умерший дедушка трубкой. Разве не лучше быть беженкой, разве не лучше любоваться этой водяной дорогой, чем сидеть целыми днями на завалинке, а зимой в холодной хате и забавлять детей. Но меня схватила какая-то кровавая хворь. Люди шарахаются от меня, говорят: может, это холера? Слышали, что уже ходит она среди беженцев. Страшная горячка у меня, так и тянет прижаться лицом к окнам. Я то и дело срываюсь с места, хочу бежать, броситься в воду. Мать удерживает меня, слезы ее обливают мое лицо. «Гасунцю моя, Гасунцю!» Ведь я ее первая помощь. Что она будет делать, если меня не станет.
Как приятно на сердце, когда тебя жалеют. Даже Иванко, который был самым непослушным, когда я оставалась с детьми на хозяйстве, теперь первым хочет подать мне воды и говорит: «Гасунцю!»
А как поднес мне чашку ко рту, даже слезы потекли из его глаз.
Холера...
Отец дома не раз бросался этим словом, ссорясь с матерью. Но в пути мы не слышали, чтобы он говорил это, — он словно боялся накликать беду. Но вот она пришла к его любимой дочери. Не наказание ли это, чтобы не бросал этим словом в мать?
Глядя на меня, он чернеет от тоски. Тато мой, тато! Ей-богу, я не умру. А может, это и не холера.
И я не умерла. Может быть, мою болезнь победили сказочные огни на киевских горах, что уже были видны нам с парохода. Такие невиданные, манящие. Это, наверно, глаза счастья, ожидающего нас. Не знаю, что они обещают другим, а мне — жизнь. И я не умираю, я живу, и веселеют глаза моего отца, и детишки подпрыгивают: доехали!
Вот уже мы высадились на киевской пристани. А куда дальше? Портовые грузчики помогают нам добраться до беженского пункта, который размещен в Доме контрактов.
Длинный двухэтажный дом, покрашенный желтой краской, с одной стороны отгороженный от площади штакетником. Двор напоминает цыганский табор. Нас ведут внутрь, и мы располагаемся на одной из полок среди других людей. Длинное помещение, обнесенное вокруг по стенам нарами, захламленное пожитками и людьми, после таинственных огней, увиденных с парохода, казалось каким-то страшным подземельем.
Но и здесь нас ждала своя радость. Некоторые куликовские семьи, как оказалось, тоже были здесь. Вот и встретились со своими людьми.
Люди советовали не говорить, что я больная, иначе меня сейчас же заберет черная карета и увезет в госпиталь.
— Делай такой вид, Гасунця, будто ты здорова.
Я старалась улыбаться всем, кто к нам подходил. Делать вид, что здорова! Это тоже дает силу жить. И я уже хожу за пшенной похлебкой, которую выдают беженцам здесь же, при Доме контрактов. А отец с матерью бродят по городу в поисках работы и думают о том, как нам жить здесь дальше. Я опять первая помощь матери, я — старшая.
Но разные болезни в беженском пункте все раскрывали и раскрывали свою пасть на людей. Каждый день черная карета выхватывала нескольких и увозила куда-то. Затаив дыхание, мы провожали ее испуганными глазами и вздыхали облегченно: и на этот раз миновала нашу семью.
Но вот она схватила нашего Иванка. Мать кричала, ломала руки. В этом страшном доме эта черная карета так — по одному — может забрать всех ее детей. Но на ее крик, на ее слезы отец нашел доброе слово:
— Разыскал работу на кирпичном заводе. Там, на Юрковской улице, снял и жилье.
Дорогой наш тато! Он стал теперь добрее всех отцов. Не лакомился больше водкой. Не наша ли беда загородила ему к ней дорогу?
С матерью не бранился, нас жалел. Все хотел нам что-нибудь хорошее сделать. Как взяла Иванка черная карета, сразу же сказал:
— Завтра перебираемся отсюда.
И мы перебрались.
На беженском пункте у нас был на нарах уголок. А на Юрковской снимали целую комнату, и наша семья была в ней одна. Это ничего, что комнату наспех сделали из какого-то хлева. У наших хозяев был хороший дом и карета, на которой они и зарабатывали свой хлеб. Но они хотели еще заработать и на таких, как мы. На каждой беде, приходящей к людям, кто-нибудь находит себе корысть. Но мы радовались, что был у нас свой угол. Тато будет работать — заплатим как-нибудь за жилье. А то, что спать придется на земле и нечего постелить, — это мелочь, пустяк.
Разве не бывало нам хуже? Уже узнали, что значит потерять родную хату, которую сможем себе вернуть, только когда кончатся все войны. Ох, скорее бы это время наступило!
Как дорога теперь для каждого из нас наша хата!
Хоть и опрокидывалась от старости назад, хоть сырая, с мокрыми стенами, но она, с ее клопами и стоножками, была теперь для нас милее и красивее всех каменных домов. Родная хата, слышишь ли ты наш голос? Или война уже испепелила тебя, а ветры развеяли твои дорогие останки? Увидим ли мы тебя когда-нибудь?
Но живем уже под глиняной горой в маленькой комнатке на Юрковской улице, — значит, надо любить и ее. Отец еще затемно тихонько встает, чтобы нас не будить, и идет на работу. Я уже хорошо знаю те глинища, где он носит кирпичи, потому что каждый день ношу ему пшенную похлебку, за которой мать ходит на беженский пункт. Одну меня мать еще туда не пускает, — далеко. Мало ли что может статься с малой девочкой. Для отца еще покупаем французскую булочку: он работает, и у него болит живот. Младшие дети разрывают ее глазами, когда мать кладет ее в торбочку. Туда же она ставит и горшочек с похлебкой. Все это я должна отнести отцу.
— Знаю, мои сладенькие детки, хотелось бы вам это съесть. Но это только для тата. У него болезнь и тяжелая работа. Кто, кто заработает для нас, если его не станет?
И смотрит на нас, как святая, эта французская булочка, а мы на нее. Но разве посмел бы кто-нибудь отломать от нее хотя бы крошку, даже если бы оказался с нею один на один.
Булочка эта для тата. У него тяжелая работа.
Уж я-то вижу какая, когда приношу ему пшенный суп и булочку, как приносил Федорко для своего отца из повести «Смок». Сядет он где-нибудь на холмике хлебать суп, а земля сыплется с его рук, и у меня сжимается сердце. Так почернел, такой худой стал наш тато. Куда делись острые огоньки из его глаз? Где то шутливое слово, которое он любил говорить людям? Черные небольшие его усы, казалось, падали теперь вниз, как оковы, и придавили его прежнюю задорную усмешку. Когда брал булочку из моих рук, всегда хотел отломить от нее кусочек для меня. Но я не брала, хоть, кажется, могла бы ее в ту же минуту всю проглотить. Каином надо было стать, чтобы взять у него этот кусочек.
На дорогах было лучше. Люди там были добрее. Выносили нам всякую еду, а в Киеве даром никто не давал. И хозяйка, у которой мы жили, уже напоминала, чтобы мы платили за жилье, хоть в нем должен был стоять ее конь. Да разве мы не заплатим? Пусть только тато заработает. Только бы она подождала, только бы не намекала каждый день матери, чтобы несла деньги. А сердце наше и мамы тоскует еще об Иванке, который лежит где-то в госпитале, на другом конце Киева.
Надо ведь и к нему сходить и что-то снести. А где взять, где? Отцу еще не заплатили. Если бы ты слышала, родная хата, как мы горюем по тебе. Хоть мы с тобой видели голод и холод, но за тебя не надо было платить. Своя, своя родная хата!
А здесь, на Юрковской...
Но худшее нас уже поджидало. Скоро занемогла мать. Горячка так сушила ее губы, что мать рвалась к окну лизать стекла. Рано утром отец, перед тем как идти на глинище, вытаскивал из-под нее мокрую солому, давал маме пить, прикладывал дитя к ее груди и учил меня, как это делать. Об Иванке, который был в госпитале, уже некогда было вспоминать. Ему там, наверно, было лучше.
И со всем этим я должна была справляться. И справлялась. Но горше всего для меня было идти на беженский пункт за похлебкой и проходить через одну улицу, мимо военной казармы. Этого места никак нельзя было миновать. Там каждый раз подстерегал меня один солдат, шел за мною и по-всякому заманивал пойти с ним пройтись. Как ненавистны, как противны были эти сизоватые маленькие глазки, которые пожирали меня своим взглядом, гнетом падали на душу. И когда позднее в жизни я встречала людей с подобными глазами, всегда ждала от них чего-нибудь плохого.
Ох эта нагорная Юрковская улица в Киеве!
Один раз принесла из Дома контрактов похлебку, застала мать под горой — окровавленную, обеспамятевшую. Она выбила окно, выползла через него на двор, а теперь лизала, ела землю и каталась по ней.
Младшие дети онемели со страху, а увидев меня, стали громко плакать. На этот детский плач прибежала хозяйка, увидела нашу маму и сразу же хотела вызвать черную карету. Но мы так вцепились в ее одежду, так ловили и целовали руки, моля не делать этого, что и она, безразличная к нашей беде, удержалась. Мать мы все вместе кое-как втащили в комнату. В этот день я уже не понесла отцу похлебку. Сделать это взялись Петро и Оленця, но они еще были слишком малы, чтобы их куда-нибудь пускать одних. Но все-таки ушли, разыскали отца. А когда он пришел — бился в отчаянии головой об стену. Мать уже лежала тихая, и мы сидели притихшие, у другой стены, испуганно смотрели на это отцово отчаяние. И как мог выжить в этой беде наш самый маленький братик? А ведь жил и даже пробовал улыбаться...
Но в те тяжелые дни пришла к нам и радость. С какого-то дня мать уже не смотрела безразлично на нас и, когда мы хотели приложить ребенка к ее груди, сама взяла его из наших рук и покормила. Болезнь дотемна подсинила ее искусанные губы, сама она словно вымокла. Но уже могла сесть.
И тогда пришло более страшное. Заболел отец. Он пришел с работы с пылающими глазами, кричал, бился о стену головой, собирая своим криком людей. Хозяйка не могла больше терпеть в своем дворе такую беду и вызвала черную карету. Мы смотрели на нее, как на лихое Смочище, которое забирает навсегда нашего отца. Потому что большинство из тех, кого карета забирала, не возвращались. Могла ли наша мать и дальше лежать, хоть болезнь еще от нее не отошла? Горе подняло ее на ноги. На Юрковской улице нам не давали больше пристанища, и мы опять вернулись на беженский пункт в Дом контрактов.
В эти дни я с младшими детьми вышла на улицу просить. Теперь не было уже около нас отца, чтобы можно было рассчитывать на его заработок.
Мать была такая слабая, что проведать отца и брата пошла я. В Александровской больнице в бараках, которые были размещены там же в саду, лежало очень много больных беженцев, и всегда кто-нибудь шел туда в дни, когда пускали. И я присоединилась к этим людям. Киевские улицы того времени, по которым я шла проведать отца и брата, живут в моей памяти, как одна дорога. А в конце ее — длинная койка в бараке, на которой лежал наш больной тифом тато. Он был высокий, а болезнь вытянула его еще больше. Лежал навзничь, с закрытыми глазами, высокая температура уже не заставляла его кричать и рвать на себе волосы, а приковала, как глыбу, к постели. Отец чуть-чуть шевелил губами. Ничего, ничего ему не хочется есть из того, что я принесла. Пусть Гасунця все это заберет, чтоб не пропадало, пусть будет детям. Только бы чего-нибудь кислого, кислого...
Как ему хочется винограда! Но доктора запрещают приносить это таким больным, как он. Но, может быть, Гасунця все-таки принесет...
Я должна исполнить просьбу отца. Выпрошу на улице несколько копеек и в другой раз принесу ему винограда.
VII
Как бы ни был беден человек у нас в Куликове, но в нищих ходить постеснялся бы. А я вот хожу. Это лишь в первый раз было тяжело протянуть руку, а теперь ничего. Пусть дают, у кого есть, а у нас нету. Принесу, принесу вам, тато, винограду. Чтобы только выздоровели, чтобы только встали.
Иванко лежал в другом тифозном бараке. Он сильно изменился, похудел, лицо его стало такое маленькое, запомнились лишь черные, как угольки, глазки. Они светились и говорили, что это не мертвец, а наш живой Иванко. И в них уже опять поблескивало то, за что Иванко не раз получал отцовского ремня.
— Хорошо, что пришла, а я уже хотел удирать, — сказал мне, хмурясь.
За все время болезни его только впервые сейчас проведали. Теперь он уже знал, что было с нами, и хотел только, чтобы его перевели в барак, где лежал тато. Иванку сразу же пообещали, — наверно, натерпелись с ним хлопот и хотели от него избавиться. Санитарка и сестра жаловались, что Иванко уже срывается с постели, а ему это запрещено делать, бежит к окну, хочет его открыть. А сейчас даже чем-то замахнулся, чтобы его выбить. Да, это Турчинский.
— Отец просил винограду? — переспросил Иванко.
Вот когда он будет в том бараке, где тато, сумеет подговорить какую-нибудь санитарку, чтобы потихоньку ему передала. Он знает, как это сделать. Только бы его перевели.
— И мне принеси, — приказывает.
Но когда в ближайший день я пришла, пройти в барак, где лежал мой отец и куда перевели Иванка, мне не удалось. Отец был уже в морге.
Каким памятным стал для меня этот виноград, который я несла для отца и брата. Но и Иванко его не отведал. Услышав, что отец умер, я поскорее хотела увидеть своего отца, хоть мертвого, но увидеть. Как будто этим своим приходом я могла вернуть его к жизни. И я отдала сторожу свой виноград за то, что провел меня в подвальное помещение, где лежал наш мертвый тато. На ноге его я увидела привязанную дощечку с надписью, что это не кто-нибудь, а Федор Михайлович Турчинский. Да я узнала бы отца и без этой дощечки с надписью, хоть смерть уже меняла его дорогие черты. Глаза его были открыты, и это были глаза отца, которые не сравнить ни с какими другими. Только в их стеклянном окаменелом блеске светилась безмерная тоска. И она навек вошла в мое сердце. И идет за мною еще не рассказанная никому судьба отца, у которого был такой красивый голос, такая любовь к жизни.
Потом страшно кричала мать. Когда я возвратилась после этого последнего прощания с отцом, застала ее во дворе Дома контрактов. Она развешивала белье. Увидев меня, застыла вся, словно предчувствуя, какую весть я ей принесла. Но слова о том, что отец умер, коченели на моих губах. Их выговорила женщина, которая тоже вернулась из Александровской больницы.
— Нет, нет уже вашего тата. Выгнала нас война из дома, разбросала по дорогам, по баракам, сосет нашу кровь, нашу жизнь. Ой, людоньки, ой, людоньки! Где нам, где, у кого искать спасения?
И моя мать выпустила из рук мокрое белье и стала кричать. Такой страшной, разъяренной горем я еще никогда ее не видела.
Отчаянный, безумный крик ее слышен был, казалось, на весь Киев. И этот крик моей матери на дворе Дома контрактов не стихает в моей душе до сих пор.
Черная карета сразу же услышала его, стояла наготове, и схватили мою маму, чтобы увезти ее туда, откуда редко кто возвращался. Мать отбивалась, кусала санитарам руки, кричала: «Дети мои, дети, сиротки!», а ее тащили внутрь кареты. Наверно, чтобы ее успокоить, туда втолкнули и меня. Мать схватила мою руку, сжимала в своей. Наши руки коченели от этого пожатия, а мать говорила вполголоса:
— Ты, ты у меня старшая дочка, будешь детям за маму и за тата.
Это не были слова сумасшедшего человека. Так мать приказывала мне, когда уходила надолго из дома, и так она говорила мне в своем последнем пути.
Кто знает, какая была у нее болезнь. Но ее положили в холерный барак. Может, только потому, что там было место. Я знала: как только холерных больных привозили, сразу же клали в горячую ванну. Может, когда будут переводить ее из этой ванны в палату, она вырвется и подбежит к окну, чтобы еще повидаться со мной. До ночи я стояла под окнами холерного барака. И моя мать все же прорвалась ко мне через все препятствия и запреты. Голая, с растрепанными волосами, с протянутыми вперед руками подбежала к окну, припав к стеклу, подняла руки вверх, будто навсегда прощалась с нами и с землей. «Дети, дети мои, сиротки!» Этот ее стон пробивал окно и западал в мою душу навеки. Ее оттащили назад, меня отгоняли от окна, а мы рвались друг к дружке в этот холодный день поздней киевской осени 1915 года, предчувствуя, наверно, что это было наше последнее свидание.
События дальше не бежали, а летели, налетали как буруны. Когда я вернулась в Дом контрактов, уже не застала на нарах ни Петрика, ни Оленци, ни того ребеночка, что родился в дороге.
Петрик и Оленця «ходили кровью», как говорили у нас, а иначе — болели дизентерией. Мать всячески берегла их от ока черной кареты, и в последние дни они, прячась, большей частью лежали на нарах между узлами. А когда услышали, что мать куда-то увезли, то, наверно, сползли с нар и начали реветь, и вот их тоже схватила черная карета.
Люди мне сказали, что детей увезли в какую-то детскую больницу, это для них лучше. Куда делось грудное дитя, никто не знал. Одни предполагали, что оно умерло и его забрали уже мертвым, потому что лежало оно в последние дни тихое, покорное, с обложенным белым языком. И лучше умереть, чем вот так мучиться, а кому-то еще смотреть на его муки и страдать. Другие говорили, что, может быть, дитя еще было живым. Мать выздоровеет — разыщет своего ребенка. И я до сих пор думаю, что ходит где-нибудь по миру мой самый младший братец Владимир и не знает своего роду. Люди вздыхали, плакали над моими малыми летами, сколько им выпало горя увидеть, и расходились к своим нарам, к своей беде.
— Засни, засни, деточка, мама вернется, выздоровеет, — успокаивали.
Но она не вернулась. Смерть ее наступила так быстро, что отца еще не успели забрать из морга. Со сжатыми губами, только еще более синими, чем тогда, когда я везла ее в больницу, и с таким же, как у отца, номерком на ноге, она лежала рядом, возле него. Мама, моя мама...
К Ивану в этот день не пускали. И из Александровской больницы я пошла сразу в больницу, где лежали Петро и Оленця. Их уже я увидела в синих гробиках в коридоре, с черного хода больницы. Испитые болезнью личики их светились прозрачностью, как чистая вода.
— Перед смертью они все просили кофе, — говорила, плача, санитарка.
Я хотела отдать ей виноград, но она не взяла. Слезы не переставали заливать ее лицо, а мои каменели, как и виноград, который был никому не нужен.
А когда я, возвращаясь после посещения родных, села на шумном Крещатике против теперешней улицы Ленина, не зная, куда мне дальше идти, как сидел Иванко из повести «Смок», ягоды винограда из разорванного пакетика покатились по тротуару.
Гудели тревожно гудки. Они словно возвращали меня к жизни драмой нашей семьи, навечно входили в мое сердце.
VIII
Брат Иван появился во дворе Дома контрактов на другой или третий день после моей встречи с мертвыми родителями. Он был очень изнурен болезнью, а его черные глазенки еще больше подчеркивали его худобу. Иван хотел увидеть поскорей свою маму, которая всегда его жалела, была ему ближе всех. Отца он видел в больнице. Иванко все-таки допросился, чтобы его перевели в барак, где лежал тато. Но отца сжигала такая лихорадка, что он не узнавал сына. На глазах у Иванка поздней ночью он и умер.
— А где мама, мама?
На этот вопрос я ответила, что Петро и Оленця тоже умерли. Слезы рвались из моей груди, рвались, выносили мое горе. Это были первые мои слезы после всего пережитого. Они, наверно, досказали Иванку об остальном. Он притих и ни о чем уже у меня не спрашивал.
— Двое мы с тобой только остались. Двое...
Иванко не плакал, только смотрел онемело на меня. Разве мог он поверить? И он не верил и все хотел куда-то идти и искать всех, кого не видел перед собой: маму, отца, Петрика, Оленцю и того маленького, который родился в дороге.
В тот же день мы пошли их искать. Но в морге Александровской больницы отца и матери уже не было. И не увидел Иванко Оленцю и Петрика в гробиках, потому что их уже похоронили. Раньше между мною и Иванком всегда стояло то, что я была любимая отцова дочь, а он забияка и насмешник, часто поротый отцом. В Иванковых глазах постоянно мерцали огоньки настороженности ко мне, а в моих: «Я, я лучше, чем ты, меня тато любит».
Теперь мы печально смотрели друг на друга глазами сирот. Только двое нас осталось, только двое. И мы об этом помнили, держались вместе, бродя киевскими улицами с протянутыми руками, и даже улыбались друг другу, если кто-нибудь из нас говорил:
— А я уже не стыжусь побираться.
Теперь мы были способны и требовать, чтобы нам дали. Если кто-нибудь слишком равнодушно обходил нас, могли вслед ему запустить недоброе слово. А что нам могло быть от этого, что? На такое больше был способен Иванко, хоть ему больше перепадало в руку, чем мне: он был меньше, а его вид после перенесенной болезни нагонял на людей страх и жалость. Но со временем ветер освежил его лицо, оживил, и уже меньше копеек стало падать в его руку, зато у него вырывалось больше острых слов вслед киевской публике. Но нам надо жить, есть, а на базаре возле Дома контрактов продается такая вкусная кровяная колбаса. Где взять денег? Можно продать что-нибудь из нашего тряпья. И мы охотно за бесценок сбывали вещи там же, в Доме контрактов, пока какая-то женщина и дед не напали на людей за то, что пользуются нашей бедой, и на нас — за то, что не бережем память родителей.
— Ведь это же их пот и кровь, все, что от них осталось.
Мы заплакали, и с той минуты оставшиеся вещи нашего рода уже по-иному смотрели на нас. Обливая эти остатки своими слезами, мы связали их в узелок и больше ничего не распродавали. И люди больше не выманивали у нас, и ничто из нашего добра не пропадало, когда мы оставляли его на нарах, уходя бродить по городу.
Теперь мы принадлежали самим себе и улице. Никто о нас не печалился — где мы ходим, как добываем себе на жизнь. И в этом была своя прелесть: свобода, свобода, что хотим, то и делаем. Но, воспитанные добрыми традициями своего местечка, мы тогда еще не дошли до того, чтобы что-нибудь украсть. Даже и мысли об этом не допускали. Так вели себя, наверно, все первые беспризорники. Только просили. Я подметила, что копеек нам падало в руку гораздо больше, если я рассказывала о наших скитаниях по военным дорогам. Войны со всеми ее батальными сценами я не видела, потому что в наше местечко и во Львов русская армия вступала без боев, а когда отступала, то мы, убегая, опередили ее. Но я видела, что мои истории про войну без боев куда меньше производили впечатления на киевскую публику, и тогда, разумеется, нам перепадало меньше копеек. Поэтому я начала рассказывать уже о том, что видела и чего не видела. Складывала истории про войну так, как хотелось тем, кто собирался вокруг нас. Иванко обходил людей с протянутой кепкой и просил платы. Слушаете истории, значит, платите деньги, так говорили его сомкнутые губы и весь его вид.
И опять на киевских улицах в жизнь мою вошли глаза. Это уже были не скользкие маленькие блекло-серые глаза человека, в мыслях которого было что-то скверное, глаза, которые пронизывали страхом и отвращением. Нет, это были глаза какого-то юноши, слушавшего на одной из киевских улиц мои рассказы про войну. И он не отошел с облегчением от нас, бросив копейку в сиротскую руку, как делали другие, а заинтересовался нашей судьбой. И этот юноша подобрал нас и устроил в приют по Кузнечной улице, 93. Это был так называемый карантин, куда направляли бесприютных детей с улицы. Оттуда их распределяли, кого куда.
Так начались наши с Иванком скитания по приютам, а потом по детским домам. Сначала я попала в Татьяновский на Марино-Благовещенской улице, 82. В 96-м доме по той же улице был приют для мальчиков, туда направили Иванка. С нами путешествовал узел с материнскими и отцовскими вещами, который был сначала при мне, поскольку я была старшей. Но подушку из дома мы разделили на две. Так посоветовала мне сделать одна няня и сама же сшила наволочки.
Вдвоем с нею мы проведали Иванка, вручив ему эту памятную подушечку из дома.
— Это радости и слезы твоей мамы. Пусть согревают тебя, Иванко.
Добрые люди!.. Какое это счастье, если чье-нибудь слово может прожить в сердце доброй памятью целую жизнь.
С тех лет образ нашей воспитательницы Ольги Викторовны Будде теплым лучом прошел сквозь мою душу. Как для художника на всю жизнь запоминается его первый учитель рисования, так и для осиротевшего ребенка, попавшего в детский дом, запоминается воспитатель, сумевший своим взглядом, добрым словом, всем своим поведением согреть сердце сироты. Ольга Викторовна была фребелистка[1].
Молоденькая, с постоянной приветливой, ласковой улыбкой и с бархатным блеском больших синих глаз, она вводила в нашу жизнь столько хороших незнакомых песен, игр, веселила, скрашивала наше сиротство. Водила с нами хоровод вокруг елки, рассказывала сказки, подслушивала наши мечты и находила слова, которые не давали им погаснуть. Меня она звала «Гася», как называла моя мама. И для нас она была матерью и старшей сестрой, умела стать и подружкой, которой не стыдно было рассказать что-нибудь интимное.
Сколько лет прошло с того времени, как мы с Ольгой Викторовной расстались. Целая жизнь. И вот встретились в 1961 году на улице Коцюбинского. Оказывается, она жила рядом, около меня. Хоть и изменили нас годы, все же узнали друг дружку.
— Ольга Викторовна!
— Гасю!
И это мое имя, произнесенное ею так, как произносила мать, сразу поставило возле меня мое детство, скрашенное Ольгой Викторовной — моей первой воспитательницей.
А вот брат мой Иванко на первой своей приютской дороге не встретил сердца, которое сумело бы заглянуть в его душу, ущербленную скорбью, драмой нашей семьи. Иванко невзлюбил воспитателей, а они — его. И это не могло не сказаться на дальнейшей его судьбе.
В 1917 году, накануне Октябрьской революции, мальчиков и девочек свели вместе. И в Святошинском приюте мы с Иванком были уже вместе. Но там не было возле нас Ольги Викторовны или подобных ей воспитателей. Мятежный Иванко не хотел учиться, проказничал, не слушался воспитателей. Но хорошо рисовал и лепил, любил собирать бродячих собак, играл с ними, учил их всякой всячине, и они его слушались и любили. У воспитателей Иванко был на последнем счету. И если на кого-либо из детей напускались за шалость, то говорили: «Ты хочешь быть таким, как Турчинский?» Иванко от этого становился еще более непослушным.
В тот памятный день, когда революция снесла Николая Второго с престола, заведующая приютом — жена царского полковника — поставила нас на колени перед портретом царя, заставила молиться, а потом петь «Боже, царя храни». Но Иванко не стоял тогда на коленях перед портретом царя, а был в лесу и веселился там со своими собаками. Теперь Иванка перед детьми начали выставлять, как преступника. На него показывали пальцем, дети не хотели с ним играть, а он еще больше бунтовал, словно рад был тому, что стоит первым из первых на виду у воспитателей. Как горько было об этом знать мне: ведь меня ставили в пример, я считалась хорошей девочкой, а Иванко, Иванко... его вскоре отправили в дом для трудновоспитуемых детей. Начались реорганизации. Я после этого побывала в детдоме в Пуще-Водице, на Степановской, потом снова на Кузнецкой, 93. Сколько, сколько прошло приютов и детдомов через мою и Иванкову судьбу!
Когда я была в детдоме, который называли первой бурсой, он помещался на нынешней улице Октябрьской революции в доме бывшего института благородных девиц, Иванко сбежал из своего детдома и ходил уже по Киеву беспризорником.
Что гнало детей на улицу из детдомов? Голод, а Ивана и скорбь по родителям, его ненависть к воспитателям, их отношение к нему. Об этом признался он мне, когда стоял оборванный, нищий на дворе перед нашей бурсой, прося устроить его в наш детский дом. Из того, где был, ушел: не понравились воспитатели ему, и еще хотелось найти маму и всех, кого не застал, когда вышел из больницы. Потому и ходил по беженским лагерям, и вот пришел к сестре.
Иванка в нашу бурсу не приняли. Его удалось устроить в детский дом на Сырце, а оттуда перевели в детский дом на Лукьяновке.
А дальше нахлынули события, они разлучили нас надолго, пока не пришел тридцать девятый год, который привел меня на родную улицу, где я услышала, что брат жив. Родной брат...
И припомнилась весна двадцатого года. Я уже живу в детском доме на Малой Подвальной, 12. К моей подружке приехал из местечка Ракитное брат, чтобы взять ее на весенние праздники домой. Зовут и меня. Как заманчиво для круглой сироты хоть один день побыть не в своем, так хоть в чужом доме. Мы, сироты, всегда с завистью смотрели на детей, имевших кого-нибудь, кто мог бы их взять хоть на праздник домой. И вот кто-то хотел взять и меня. Ракитное недалеко от Киева, меня отпускают. Какая это радость! Ведь времена суровые, живем в детском доме впроголодь. Как хочется хоть раз почувствовать, что у тебя не сосет под ложечкой, побыть хоть и в чужой, но семье!
Забежать к брату и похвалиться, что меня забирают на несколько дней, некогда. Идти к нему надо на другой конец Киева. И может, лучше это, что он не знает, а то ведь загрустит, обидится, что его не взяли. Кому, если не мне, понимать сироту. Да и еду я всего на несколько дней. Но...
Войска Пилсудского с их планами создания Польши «от можа до можа» хлынули на украинскую землю. И из Ракитного вернуться в Киев стало тяжелее, чем попасть куда-нибудь за океан. Поездом невозможно, ехать на лошадях люди боялись: по дорогам рыскали бандиты, грабили, убивали. Идти пешком? Но девочки не спешили, они были дома, а за весной шло лето, и занятия в школе были прерваны.
Возвращаться будем осенью, до того времени, может быть, Красная Армия прогонит пилсудчиков или станут давать пропуска, разрешающие выехать из Ракитного, тогда нас пустят и в поезд.
Лето в Ракитном не проходит для нас зря. Днем ходим на поле вязать снопы, ведь надо на что-то жить, а вечером играем на самодеятельной сцене. Особенно хорошо мне удавалась роль Василины из драматического этюда С. Васильченко «На первое гулянье».
По справкам, что мы любители искусства, нам осенью удается сесть в поезд. Я еду на паровозе прямо на угле. Радости нет конца: возвращаемся в Киев. Киев... там мой дом. В киевской земле лежат где-то мои родители, и там меня ждет мой единственный брат.
Что он, бедняга, переживал, ведь не раз приходил, наверно, на Малую Подвальную, а ему все отвечали: сестра еще не вернулась.
И вот я уже в Киеве, и мне рассказывают, что брат действительно приходил несколько раз и спрашивал обо мне, но с того дня, как поляков прогнали, он больше не появлялся. И вот я узнаю о нем всю правду.
Когда буденновцы гнали пилсудчиков из Киева, группа мальчиков из того детского дома, где был он, убежала на фронт. Среди них был и мой брат. Где-то на Житомирщине ребята попали в зону тяжелых боев. Отведав фронтовой жизни, они вернулись назад, в детский дом, но брат мой не захотел.
Скорее всего, он погиб, ведь выбраться из боев было очень трудно.
Это все рассказывали мне, а я стояла и плакала. Мальчики начали утешать меня: может быть, Иванко все-таки жив и вернется.
В 1956 году, когда Киевский театр оперы и балета имени Шевченко начал работать над оперой «Милана» по моему либретто, об этом осеннем дне и об этих моих слезах напомнил мне директор театра Виктор Петрович Гонтарь:
— А помните, как вы плакали по брату, когда он убежал на фронт, а мы вас утешали.
Оказывается, среди мальчиков, что стояли вокруг меня, был и Виктор Петрович.
Он узнал меня и приблизил своей памятью мое заплаканное детство.
IX
Не было большей радости в те детские годы, как ходить среди светло-зеленых трав, когда в лугах распускался тонкий, как кружево, нежный цветок, чтобы потом розоветь в моих мечтах всю жизнь. Это значит — мать дома, и мне можно пробежать через наш садик, выйти на холмы, откуда открывается такой простор, скатиться вниз, туда, где узенькими полосками пролегли к прудам огороды. И я уже среди трав, среди розового аистова-цвета и тону, погружаюсь в песню своего сердца. А в ней — мотыльков разноцветные пятна, летучими звездами касаются трав, летят над ними.
Эта песня, расцвеченная светло-розовым аистовым-цветом, и привела меня, наверно, к литературе.
Иванко тоже здесь, бегает неподалеку. Я могу не расслышать, не заметить, что происходит вокруг, а он уже кричит: «Злап, злап!»
Места эти кому-то принадлежат, каким-то хозяевам. Кто же это топчет хозяйскую траву? Вот уже увидел, уже настигает, хочет сцапать лапами этот страшный злап, и конец тогда аистову-цвету и всем мечтам. Скорее бы добежать до холмов. Но не так-то легко по скользкой траве карабкаться на гору с мыслью, что сейчас тебя схватят за юбчонку, заголят и высекут по тому, на чем сижу. Может получиться и хуже: штраф. Разве можно такую беду причинять матери? Но кто в силах вырвать из моих рук букет аистова-цвета? И прижимаю его одной рукой к груди, как счастье, которое вот-вот могу потерять. А другой карабкаюсь, будто хочу подгрести холм под себя. Иванко уже вскарабкался, уже стоит наверху. Может быть, он в шутку напугал меня злапом. Но, может быть, и правда.
Такой тревогой дышит этот свежий весенний аистов-цвет, и придает сил, и тянет меня вверх. И я уже на холмах, уже не боюсь злапа и никого на свете, цветы свои я не потеряла, и никто не вырвал их из моих рук.
Это припомнилось мне, когда услышала я в тот памятный осенний день на родной улице, что брат где-то здесь, во Львове.
Бывало, если в теплое время года свернешь возле мельницы с дороги, соединявшей центр местечка с Львовским предместьем, и пойдешь напрямик к моим теткам, то приходилось идти по зеленой мураве. И здесь всегда паслись гуси. Вытянув длинные шеи и пригибая к земле свои красные клювы, бросались за нами вслед, чтобы схватить нас, малышей, за ноги. Так хотелось пересечь эту мураву и такой страх пробирался в грудь, когда, бывало, издалека увидишь на ней белые пятна. Страх перед сердитыми гусаками был еще сильнее, чем тот, что охватывал нас, когда мы подходили к дуплистым старым липам, возле костела. Страх... Он заставлял подолгу стоять на том месте дороги, откуда сбегала вниз и звала нас заманчивая тропка. Победить нерешительность, переступить через страх в груди и пройти по этому шелковому лужку — это было подвигом. И нам хотелось его каждый раз совершить.
И на этот раз — через двадцать пять лет — мне опять захотелось пройти к моим родным той же тропкой, через тот самый лужок.
Я уже побывала у моей тетки Пазьки, которая, вернувшись с дорог войны, закинувших ее в далекий Омск, теперь жила не во Львовском предместье, а в центре местечка. От нее и от двоюродной сестры Минки уже знаю, как сложилась жизнь нашего рода и многих куликовцев. Тетка Оленка умерла, а мать Минки, моя тетка Маринка, во Львове. Она, только она может мне подробнее рассказать о брате. Лишь со слезами могут они выговаривать слова: лихим человеком стал Иванко, батяром. Можно ли таким словом ранить сердце сестры в первый день, когда она после такой долгой разлуки ступила на родную землю?
Но ведь целая жизнь человеческая разбита. Они еще беднее стали при Польше, чем были при Австрии. А из беды что может вырасти? Про Иванка только и могут сказать: стыдился он своих и редко наведывался в Куликов, а если приходил, то для него не жалели ложки супа, если была у самих: из нужды не вылезали. А у него такое сердце, что у бедного не возьмет, даже если тот будет ему давать. Но уже несколько лет ничего про Ивана не слышали. Уж не в тюрьме ли — ведь большую часть своей жизни там просидел.
— Больше о нем тебе расскажет моя мама, — говорит двоюродная сестра Минка. — Она знает улицу, где живет мать, и дом, — часто бывает там, только номера не помнит. Но он у нее где-то записан, где-то есть. Да и на детей ее мне надо взглянуть — их целых пять орешков. И на ее хату, ту самую, где мы вместе пели...
С Минкой мы и проходим той тропкой через лужок. Но таким, как был, он остался лишь в моей памяти. И хоть здесь ничего не построено, хоть слева от него так же течет ручей, через который мы тогда не могли перейти, а сейчас переходят и куры, лужок стал другим. Может, ему придала иной вид тропка, что теперь чернела на нем, а не была чуть-чуть проведена, будто карандашом, по траве. И со мной по этой тропке уже шла изувеченная Иванкова судьба, а не он сам, разбитной и насмешливый, веселый мальчишка. Найду ли его во Львове, встречу ли? Как и где его искать? Батяром стал, батяром...
Батярство в Галичине имело свои причины, свои обычаи, свои дороги, свой язык. Безземелье и безработица выбрасывали людей на улицу. Оборванные и изувеченные, они слонялись по большим городам, жили возле базаров и на базарах, ходили с улицы на улицу, из дома в дом в поисках случайного заработка. Перед ними часто хлопали со злобой дверью или со страхом ее закрывали и на вопрос домашних, кто позвонил, отвечали: «Какой-то батяр».
Но многие уже не искали заработка, бродяжничество стало их стихией, воздухом, жизнью. Они слонялись возле магазинов, базаров, подстерегали беспечных людей, чтобы их при случае обмануть, а если удастся, то и обокрасть. Из среды батяров настоящие преступники вербовали себе помощников, пополняли свои кадры. Среди львовских батяров были и сыновья зажиточных родителей, которые пошли скитаться по свету ради интереса. Были, однако, и такие, для кого батярство стало протестом против жизни, жестоко их обманувшей, жизни, которая их не удовлетворяла. Кто же мой брат?
Такие мысли шли вместе со мной по живущему в памяти зеленому лужку моего детства.
Уже виден был дом моей школьной подружки Оленци Стельмах. Он выделялся среди других хат Львовского предместья тем, что стоял будто на сваях. Внизу под домом была мастерская. Оленцин род с давних пор был из скорняков. Я уже знала от своей сестренки Минки, что Оленця умерла, а она, Минка, вышла за вдовца, Оленцина мужа, и стала матерью для ее детей.
Уже знакомая улочка зовет меня свернуть вправо, на ней вся левая сторона — сплошные хаты моих теток. Я хочу сначала пройти ее всю, а потом уже войду в Минкину хату, которая стоит первой. Мне хочется поскорее увидеть хату, где родилась моя мать и где жила наша бабушка, к которой я часто водила с улицы Загороды целый выводок своих братьев и сестер. За этой хатой был перелаз, а дальше — тропка среди высоких хлебов, где словно светились со всех сторон глаза моей мечты — красные маки. Но хаты моей бабушки уже нет. А остальное все на этой улице осталось таким, каким было и двадцать пять лет назад. Ничем не застроено, ничем не украшено, как и во всем Куликове.
В бывшую хату нашей тетки Маринци я вошла вслед за ее дочерью Минкой с таким чувством, словно была здесь вчера. И все в ней было как когда-то: убожество и полно детей. Когда-то это были дети тетки Маринки, теперь ползали по полу, бегали по хате Минкины малыши и дети умершей Оленци. При виде чужого человека они затихли и сразу же уселись рядышком на лавке. А уставились глазами так, как мы когда-то на нашей улице уставимся, бывало, на тех, кто проезжал или проходил по ней, одетый по-пански.
Я для этих детей была пани, которая оказалась так добра — зашла в их несчастную хлопскую хату.
Муж моей двоюродной сестры был сапожником. В хате пахло дратвой, деревянными гвоздями, старыми сапогами и бульбаками, поджаренными на масле.
Что могло быть вкуснее, чем эти бульбаки, которые я ела когда-то. Это значит, что мать не где-нибудь, а дома, жарит их и подает, чтоб ели горячими. Мы не едим, а глотаем их, обжигаем горло, но продолжаем есть. И быстрее всех хватает с тарелки эти бульбаки Иванко.
Минка тоже угощает меня бульбаками, но они уже остыли, и на их вкусе словно бы отразились долгие годы, принесшие смерть моим родителям и батярство для Иванка.
Где же ты, несчастный брат мой? И какова будет наша встреча, если она произойдет?
Тетку Маринцю я нашла во Львове на какой-то улочке неподалеку от вокзала. Жила она в высоком каменном доме, ее комната на первом этаже, когда-то служившая, наверно, кухней или ванной, была еще меньше и беднее, чем та, в которой жила ее дочь. Слезным ее причитаниям не было конца.
— Гасунцю моя, Гасунцю! Где же это мамунцю твою и татунця искать, на какой улице, на какой земле, в какой могиле? Какие горы надо перейти, какие реки, какие моря? Померли, все померли. Если бы и прошла, сиротка моя, все земли, все моря — не найдешь их все равно, не найдешь. А как же они должны были сердцем тужить, когда умирали и оставляли вас в чужом месте, среди чужих людей. Деточки мои, куда девать вам было свое горе: тучей громовой его раскидать и дождями выплакать? Или, может быть, кукушкой серой о горе об этом куковать? Но нашлись люди добрые там, на Советщине, одели тебя, сиротку, напоили, накормили и выучили. Но не дал пан-бог этого для Иванка, не дал. Пропали его молодые годы и вся жизнь. Где его, где искать? Двое вас только осталось. Двое...
Выплакавшись, тетка сказала:
— Только лазыки могут знать, где он. Только они. А я его уже несколько лет не видела.
Лазыки — это бездомные люди, слонявшиеся на базарах. Так их называли во Львове те, кто чувствовал к ним жалость и не хотел произносить злобное слово «батяр». Лазыки жили с базара, но не воровством, а мелкими заработками: помогали снести корзину, разгрузить фуру, подержать коня, постеречь товар. Лазыки знали все, что делается на львовских базарах, и их знали все. Обычно им доверяли. Тетка Маринка, у которой было доброе сердце, относила моего брата к лазыкам. Она обещала с ними встретиться, а через них найти и Ивана.
Я хотела пойти с нею, но она возразила:
— Лазыки, деточка, могут испугаться, если ты пойдешь со мной. И ничего не сказать. А вдруг Советы собираются их выловить? А меня они знают в лицо, и я их знаю.
Но и тетке не удалось разведать что-нибудь об Иване. Лазыки насторожились и сказали, что такого не знают. «Сестра приехала?» Но такое могли и придумать, чтобы сманить их на откровенность. Они-то знают, к каким хитростям прибегала польская полиция. А как с такими, как они, будут обращаться Советы — еще неизвестно. Хоть они и не преступники, а обыкновенные лазыки, но паспортов у них нет.
И лишь после того, как мой двоюродный брат пошел к ним и сказал, что хочет повидать Лимонадку, а иначе Куликовку (так называли у них моего брата), — лишь тогда лазыки поверили.
____
Иванко уже сидит против меня за столом в маленькой убогой комнате моей тетки Маринци. Двадцать лет, что разлучили нас, висят над столом перед нами и своей тяжестью сковывают нашу речь. Двадцать лет моей жизни в Советском Союзе, а Иванка в панской Польше. Я получила высшее образование, стала писательницей. А Иванко?..
Вечерние сумерки огоньками соседних домов уже заглядывают в комнату тетки Маринци. Но мы еще хорошо видим друг друга. А сумерки с этими вечерними проблесками словно подчеркивают, как необыкновенна наша встреча. Ведь ее могло и не быть, если бы стояли по-прежнему столбы, разделявшие Львов и Киев. Радость этого события нельзя не почувствовать, когда мы смотрим молча друг на друга. Но эти сумерки сейчас здесь напоминают и о другом, о невысказанном, что лежит между нами: двадцать лет прожитой жизни в разных государствах. Я еще не знаю, кто мой брат: бедный лазык или уже стал преступником? Одно вижу: он очень оборван, и лохмотья, которые на нем, слишком легки по этой поздней, уже с заморозками осени, и он такой изнуренный, словно долгое время просидел в подземелье.
Эти первые минуты молчания лишь тетка Маринця нарушает своими слезными причитаниями. Она хочет зажечь свет, но мы с братом одновременно ее удерживаем. Мы еще хотим узнавать друг друга, говорить друг с другом языком этих сумерек, а может быть, Иванку стыдно, что он такой оборванный, ведь для куликовца хорошо одетый человек — это уважение. А последним человеком считают того, кто плохо одет. Как не вспомнить нам отца, которому лучше было недоесть, недоспать (этого никто не видит). Но быть плохо одетым? О, это великий позор.
Когда свет вспыхивает в комнатке, мы уже немного свыклись друг с другом, и улыбка роднит эти минуты. Брат уже уверился, что я не стыжусь видеть его в таком батярском одеянии. Но я еще живу памятью об Иванке, еще вижу его в своем воображении мальчишкой, который не хотел подчиняться ни родителям, ни воспитателям, который так отличался своими симпатиями и вкусами от других мальчиков в приюте. А передо мной сидит уже человек в летах, будто мне незнакомый. Но этот чужой человек смотрит на меня узкими черными — материнскими — глазами, которые поднимают в душе столько наболевшего, грустного...
Тетка Маринка обливает нашу встречу горячими слезами. Можно ли столько плакать? А она плачет и причитает, плачет и причитает. Ее красные глаза и лицо с синюшным румянцем на щеках напоминают мне мать, у которой тоже не просыхали слезы.
Меня тревожит, что Иванко часто отводит глаза в сторону или опускает их, словно не может с чистой совестью смотреть на свет. Что лежит на его душе? Но все эти тревожные мысли отступают перед радостью: мы нашлись! Где живет сейчас Иванко? Нигде. Где придется. При Польше таким не разрешалось показываться на центральных улицах Львова. А как будут относиться к нему Советы, он еще не знает. Полицейские всех таких, как он, знали в лицо, имели при себе список. Ведь не было в его компании ни одного, который бы не сидел в тюрьме по нескольку раз.
Иванко тяжело дышит. Весь его вид говорит, что он недавно вышел из тюрьмы. Так оно и есть. В последней, где пробыл несколько лет, его так били, что начал кашлять кровью. Другой такой он уже не вынес бы.
Я еще не знаю, за что получил он эту тюрьму.
Но чем дальше, тем охотнее рассказывает Иванко об этой тюрьме.
Это было в 1936 году, когда весна еще только набухающими почками говорила о себе. Безработные шли с плакатами по улицам Львова, и на них было написано: «Хлеба и работы!» Не был ли это крик и его души? Что, что погнало его на эту собачью жизнь? И он с остальными бездомными пристал на улице к тем, кто шел и просил: «Хлеба и работы!» На эту просьбу безработных панская Польша ответила стрельбой, и тогда же, на его глазах, был убит рабочий Владислав Козак. Тело его лежало в морге близ Лычаковского кладбища, и польская власть хотела его похоронить только там. А как же иначе! Боялась шума, он мог бы начаться во время похорон. Но коммунисты решили похоронить Владислава только на Яновском кладбище, чтобы убитого товарища пронести через весь город.
Так и сделали. Тело Козака тайно вынесли из морга, и 16 апреля эта похоронная процессия со знаменами и песнями проходила по львовским улицам. Рабочие несли гроб. В каждых воротах сидели полицейские и стреляли. Но когда падали одни, гроб подхватывали другие. Гроб и тело покойника были пробиты пулями, как решето. Прошли улицу Пекарскую, площади Бернардинскую, Галицкую, улицу Легионов, Казьмижовскую. Рабочие переворачивали трамваи, устраивали баррикады, загораживая дорогу полиции. С костелов Бернардина, святой Анны, с тюрьмы Бригидки начали стрелять в процессию из пулеметов. А люди на улице и заключенные в тюрьме пели «Интернационал». Он, Иванко, тоже пел со всеми, и та песня будто несла его с львовских улиц в другую жизнь. И так у него было на душе, как в те погожие весенние дни, когда рвал на куликовских лугах аистов-цвет. А когда на углу улиц Казьмижовской и Городецкой вылетели на конях уланы с шашками наголо и начали рубить людей, как капусту, он ухватил одного «пся крев» и стащил с коня. В этой схватке, барахтаясь уже на земле, этот «пшек» рассек ему шею. Сразу не болело, только стало жечь, но он потерял сознание и пришел в себя уже в тюремном госпитале, где пролежал шесть месяцев. Потом был суд на улице Батория и тяжелая — на несколько лет — тюрьма, где его так били, что начал харкать кровью. Все хотели выведать, с кем из коммунистов он был связан, и не верили, что он всего-навсего львовский батяр. А когда выпустили, то уже за ним присматривал полицейский глаз, и не так, как за батяром. Все таскался следом какой-то шпик, посматривал, куда он идет. А он уже хорошо умел таких распознавать. И бегал по всему Львову и его оврагам, изматывал их. «Ходите, ходите за мной, проклятые. Мне не жаль ваших ног, а мои выдержат. Выдерживали и не такое». И смеялся над ними от души. Но теперь уже, если припекала беда, боялся заходить к какой-нибудь доброй душе во Львове, чтобы не накликать беду и на нее. Потому и обходил своих теток. Но хорошо, что теперь уже не ходят за ним шпики, — ведь до последнего дня, перед тем как должны были прийти Советы, мучили его своим преследованием. Уже он может свободно ходить по городу и везде, как и все. Искать бы ему сейчас свои молодые годы на тех улицах, где растерял. Да найдешь ли их, если навек пропали? Не найдешь, как и ту песню, что так нравилась ему. Теперь уже староват петь ее, да и грудь у него отбита, изъедена болезнью. Только сердце еще живет, но это значит, что есть еще жизнь.
Жалостная, доверчивая и добрая, как у ребенка, улыбка пробегает по губам брата. Она стирает грань лет, пролегавшую между нами.
И, как в детстве, я говорю ему «Иванко» и забираю брата в свой номер, в гостиницу «Народную».
Номер на втором этаже, маленький, но очень теплый, светлый и уютный.
Как радостно ему, одинокому, прожившему двадцать лет на улицах или в подземельях львовских тюрем, рассказывать сестре о своей жизни в таком тепле, в такой светлице.
И в эти минуты рождается во мне желание написать повесть «Батяр». Я обойду с братом все львовские улицы, где скиталась, ютилась его изувеченная, забитая, горькая судьба. Я так должна изучить жизнь Польши тех времен, чтобы могла ясно видеть каждое скрытое пятнышко на ее теле. Переворошить множество судебных дел, представить себе по ним людей, которых жизнь привела в тюрьму Бригидки. Окинуть взором эту тюрьму не только с улицы Яновской, где высится это недоброй памяти серое здание с решетками на окнах, а обойти ее камеры и подземелья и через них пробиться взглядом в самое сердце капиталистической Польши.
Но разве можно эту тему раскрыть полно, не изобразив подпольную борьбу Коммунистической партии Западной Украины? Мой брат — это только одна судьба, которая, скитаясь по львовским улицам, пришла к тем, кто нес гроб с телом убитого польской полицией товарища...
Батяр... Он уже лежит в моем номере с тяжелой болью в спине. Эта боль пришла к нему в те времена, когда впервые ни за что попал он в Бригидки и полицейские толкнули его в камеру к преступникам, чтобы они могли повеселиться и взять его к себе для прохождения школы своей воровской. Но это — моя ненаписанная повесть... И несколькими словами ее не перескажешь.
За окном летят первые снежинки. Такие белые, такие хорошие. Их полет словно говорит мне, что все пережитое, тяжелое — все это миновало, а в этой светлой комнате, и на львовских улицах, и повсюду на украинской земле — радость, что Киев встретился с Львовом, сестра с братом. Две Украины — Восточная и Западная — обнялись, чтобы быть вместе навеки.
Нашей бригаде писателей предстоит во Львове несколько литературных выступлений. Все дни и вечера проходят на высокой волне. И в эту гамму высоких чувств вплетаются мои задушевные беседы с братом.
Когда острая боль у него в спине стихает, он поет мне свои любимые песни. Они родились в казематах русских тюрем. Кто знает, как перелетели они на галицкую землю.
Может, их переносили журавли и аисты на своих крыльях. Для них не было границ. Грустные и протяжные их мотивы Иван выводит своим драматическим тенором, который по тембру напоминает мне голос отца.
Когда брат выздоровел, мы обошли с ним памятные для него улицы. И уже шла с нами моя ненаписанная повесть.
Один раз Иван повел меня на улицу Пелтевну, где жила женщина, у которой мог иногда приклонить свою голову, за что не раз присматривал за ее детьми. Улица Пелтевна была в районе львовской толкучки, которая славилась среди жителей и носила заманчивое название «Париж». Чего только не выносили львовские люди туда, чтобы сбыть. И дорогие ценные вещи, и старые лохмотья. Какими только красками не играл этот «Париж» в эти осенние дни 1939 года. И кого не приманивал останками «Жечи Посполитой». Были на этой толкучке и чудесные изделия славных косовских и яворовских народных мастеров. Женщины, к которой меня вел Иван, мы не застали дома. А когда возвращались через этот львовский «Париж», мне бросился в глаза светло-зеленый, чуть модернизованный гуцульский ковер с розовым, как аистов-цвет, темнолистым орнаментом. Я купила этот ковер, чтобы подарить брату в память нашей встречи.
Держа ковер, брат растерянно смотрел на него. Ковер словно должен был заслонить его прежнюю жизнь...
Иван прожил ее, не имея никогда своей комнаты или хотя бы угла. Где повесит он этот ковер, как теперь будет жить? Этот вопрос волновал каждого из нас.
Оставив толкучку, мы вышли на широкую улицу Легионов. Перед театром низенький худощавый человек подметал тротуар.
Он подбежал к нам и, поздоровавшись с Иваном, хотел поцеловать мне руку, а когда я не позволила, огорченно сказал брату:
— Вижу, что эта пани твоя сестра. А не хочет, чтобы я ее так приветствовал, как у нас привыкли.
— Ты почему не дала ему руку поцеловать? — напал на меня Иван, когда мы отошли. — Человек рад, что может теперь свободно на улице стоять, подойти к пани и даже поцеловать ей руку. Он подумает, что ты брезгуешь. На этой улице при Польше мы не имели права появляться.
Как оказалось, тот, что подметал улицу, был из давних друзей брата.
— Ой, ой! Как нам с ним удавалось обманывать людей на картах. Раскинем их где-нибудь на рынке или в саду, чтобы неопытные увидели, чтобы потянуло их к игре. А мы наперед сговаривались, кому из наших людей должна в руки попасть та карта, что выиграет. Кое-кто из тех, что смотрели, загоревшись, решался попытать счастья и проигрывал. На такие делишки этот человек, что хотел тебе руку поцеловать, был у нас первый мастак. Если не удавалось подработать на картах, в других делах везло.
— Откуда он мог знать, что я твоя сестра? — спросила я.
И брат мне с гордостью ответил:
— Можешь быть спокойна. С твоей головы во Львове и волосок не упадет. Все мои бывшие коллеги тебя знают, раз ты моя сестра. Не бойся, можешь и поздно ходить по Львову.
Мы уже шли бульваром по бывшей улице Легионов, снежинки летели нам навстречу, словно радуясь, и каждый из нас думал о своем...
Стройный, красивый милиционер в новой форме, которая очень ему шла, повернулся нам навстречу. Меня поразило: Иван отошел в сторону и долго о чем-то с ним разговаривал. А когда вернулся — не раз еще оборачивался и с завистью смотрел ему вслед.
Я поняла брата. Он был сутулый и болезненный, в армию его не брали, и военная форма, которая так хорошо была подогнана на этом стройном милиционере, наверно, вызывала в его глазах зависть. Когда я спросила брата, о чем он говорил с милиционером, словно тот был его приятель, он ответил:
— Это был наш гершт[2]. Я таким только хотел стать, да мне не удалось. Что я. Был только рядовым, самым младшим. Если пани молилась в костеле, мне еще удавалось утянуть из ее рук сумочку. А чаще мне приходилось быть на стреме и в тюрьме. Да ведь и в ней кому-то надо было сидеть. В полиции тоже были свои договора с батярами и преступниками. И они должны были перед старшими отчитываться, кого поймали, чтобы посадить в тюрьму.
— Ты, ты мечтал стать великим преступником?
— А почему бы нет? Мир не может обходиться без них. И они хорошее дело когда-то сделали. Когда Иисуса Христа распинали, воры сумели украсть несколько гвоздей и потому ему меньше их забили. Бог про это помнит.
Я заметила, что брат и сейчас религиозен. Живя у меня в номере, он по утрам тайком бормотал молитву.
— Ты веришь в бога, каждое утро молишься и мог ходить в костел красть сумочки у женщин?
— А почему бы нет! Бог слушал мою молитву. А на то, что мне удавалось, не гневался: это было на жизнь. А вот Советы против бога, и мне это очень больно.
Вот так раскрывался Иван передо мной со своими злыми и несчастными дорогами жизни. Не стыдился и не скрывал того, что делал во время панской Польши. И словно был рад, что может высказать о себе всю правду.
— Знаешь, за что меня прозвали Лимонадка? Не раз удавалось мне получить такую работу: развозил лимонад по улице от какого-нибудь магазина и продавал. Но такая работа попадалась редко. А у хозяина одной пекарни, где мне удалось получить работу, был рояль. Его дочь потихоньку позволяла мне учиться играть на нем. И чуть не полюбила за то, что музыка так легко и хорошо мне удавалась. Вот поведи меня куда-нибудь, где есть рояль, покажу тебе, как я умею играть. И никто меня этому не учил. А батяры наши больше всего любили меня за то, что я им пел и лепил их портреты из глины или из хлеба, когда его было вдосталь. Но хлеба вволю редко бывало. Больше так получалось, что крал, чтобы съесть. И так бывало, что отдам бедному с себя всю одежду, а тут зима. Вот и хочу в тюрьму — ведь зимой есть нечего и ходить не в чем. Не думай, что если человек вор, так нет у него сердца. Такие, как мы, скорее понимали бедного, чем богатые. Если легко ко мне приходило, то я легко мог и отдавать.
— Иван, и не совестно было тебе красть?
— Чепуха. Один, чтобы ему было веселее, колол себе руки. — (Я понимала, что он говорил о морфинистах.) — Другой курил турецкий табак. А мне было весело на душе, если хорошо что-нибудь удавалось.
Открыто выворачивая передо мной свою вывихнутую душу, он улыбался мне своей детской доброй улыбкой, которая не изменилась и не погасла, пройдя через страшную грязь панской Польши.
Мы уже вошли в наш номер «Народной» гостиницы и расстелили ковер, купленный только что на «Париже». Свеже-зеленый, с салатным оттенком, с разбросанными по нему зелеными древесными ветками и какими-то розовыми цветами, он напоминал нам наше детство, которое роднило нас сейчас светлой и грустной памятью и звало к хорошей, честной жизни. Брат стоял возле меня, как моя не написанная еще повесть. Полный тревоги, смотрел на ковер, и в глазах светился вопрос: как я буду дальше жить? Но над всем этим витала радость — мы встретились...
У каждого пережитое, как тяжело бы оно ни было, пахнет какими-то цветами его детства, поет его птицей, струится своей «Зачарованной Десной», как у А. Довженко; блестит своей, не такой, как везде, каплей росы, как у В. Солоухина; горит и днем своими звездами, как у О. Берггольц в «Дневных звездах»; улыбается шутливо, как у Василя Минко в «Моей Минковке».
Мое же, сквозь все его драмы и трагедии, запахло для меня аистовым-цветом с куликовских лугов. Цвети же, мой аистов-цвет, на радость, на счастье людям, хоть вырос ты из нашей беды, лихолетья, из моего сиротства.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
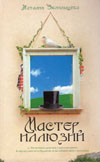
рекомендуем читать:





