ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:
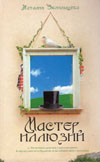
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Горшман Шира 1963
Я зашла в Есильский райком. Второй секретарь, Татьяна Яковлевна, выслушала меня и сказала:
— Правильно делаете. Это настоящая хозяйка. Вы что ж, и не отдохнете с дороги? Хотите сейчас же ехать?
— Если можно. Вы б меня очень обрадовали.
— Постараюсь обрадовать вас, — сказала Татьяна Яковлевна и сняла телефонную трубку. — Алло, алло! Пусть Слава подъедет к райкому. Сейчас же!
Минуту спустя я сидела в небольшом, крытом брезентом «газике» рядом со Славой, и он сказал мне, что через полтора-два часа мы будем в «Каракольском».
— Вы работаете шофером в райкоме?
— Да. Мы должны были с Татьяной Яковлевной ехать в совхоз «Свободный», ну и...
Я понимаю: Слава очень «рад», что едет со мной. Его серые глаза глядят на меня холодно и отчужденно. Грязь тоже могла бы быть не такой глубокой, густой и липкой.
— Слава, — спрашиваю я, — вы давно в Есиле?
— Порядочно.
— Родители живы?
— Отец погиб в сорок третьем.
— А матушка работает?
— Мм... мм...
— Не завидую вашей матушке.
— А что?
— Если вы так любезны с ней, как с другими тетками...
— Ну-у-у-у...
Машина вдруг подпрыгивает. С трудом нахожу точку опоры. Ох, дорога, дорога!..
— Ну, тут мы немножко отдохнем, — говорит Слава.
На дороге стоит шеститонный грузовик и буксует. Водитель грузовика наполовину высунулся из кабины. Лицо у него красно, как спелый, разрезанный пополам арбуз, в котором оставили два черных зернышка. Из его рта хлещет речь, которую я отказываюсь передать...
Слава открывает дверцу кабины, высовывает русую голову, роняет нежное, сочное благословение чьей-то матери, и мы едем дальше.
Но вот мы опять стоим. Слева буксует самосвал, справа стоит грузовик. Перед нами делает реверансы трактор. Он должен захватить самосвал толстым тросом. Трактор скатывается в разъезженные колеи, склоняется в книксене — раз, другой... Пустое!
— Ну, взяли! Во-о-о так!
Трос обрывается и толстой змеей извивается по грязи. Над степью гремит густая липкая ругань. Но вот трос снова привязан.
— Эх, эх, пошли, пошли...
Наша машина, качнувшись, подпрыгивает, падает куда-то в яму, выскакивает оттуда — вот-вот мои кости рассыпятся. Слава очень доволен. Еще нежнее, еще елейнее прежнего отпускает он несколько славословий. Я смотрю, как трактор, уже вызволивший самосвал, ведет старинный танец вокруг грузовика, и в моей памяти всплывают бессмертные слова: «Эх, тройка, птица-тройка...»
— Как часто мы еще будем останавливаться до «Каракольского»? — спрашиваю я у Славы.
— Как бог прикажет, — и запевает себе под нос «Вьется дорога длинная».
Вижу — вдали какой-то поселок. Белые дома купаются в широком просторе. Но Слава молчит. На лице у него хитрая ухмылка. Наконец он говорит:
— Ну, вот вам ваш «Каракольский».
Ну и добряк! Не мог доставить мне удовольствие и сказать, что мы уже приехали.
Не успела наша машина остановиться, как я увидела среднего роста женщину с обветренным лицом, без платка и без пальто.
— Сюда, сюда, правей, не то застрянешь, — крикнула она и, как только наша машина остановилась, схватила мой рюкзак и чемодан.
— Пошевеливайся, езжай, пока светло, — сказала она Славе.
Я смотрю, как машина подпрыгивает, спускается, поднимается. И вот уже вовсе не похоже, что она борется с бездорожьем. Издали кажется, что она катится ровно, беспрепятственно, словно под ее колесами твердое, гладкое полотно.
Я стою против этой женщины с обветренным лицом, против Леи Яковлевны. Она опускает мой рюкзак и спрашивает:
— Вы привезли нам из Москвы строительные материалы? На клуб этого не хватит.
— Пусть, пригодится все, что привозят.
— Вижу, вы за словом в карман не полезете.
Гостеприимство — хороший обычай. И я выкладываю на стол все, что привезла. Она покатывается со смеху. Хорошенько насмеявшись, она говорит:
— В следующий раз если приедете ко мне, то вместо буханок московского хлеба и овсяного печенья с прочим барахлом привезите такую селедку, как вот эта, — я очень люблю залом. Федоровна, готовь к столу.
Пожилая женщина в белом платочке ставит на застланный стол тарелку с кислой капустой, жареную гусятину, полные тарелки борща, подернутого золотыми «глазками». Я гляжу, как Лея Яковлевна ест, быстро, плотно, и тоже, как могу, тружусь над гусиной ножкой... После обеда Лея Яковлевна говорит:
— Вы прибыли из Есиля прямо на бал. Сегодня Восьмое марта, я никого не звала, но гости будут. Займитесь чем пожелаете, а я — на работу.
«Займитесь чем пожелаете» — очень хорошее пожелание, но мы редко занимаемся тем, чем хотим... Например, сейчас я с превеликим удовольствием погуляла бы по степи, но не могу: ветер воет и гудит так, что не устоишь на ногах. Но вот шкаф, набитый книгами, на этажерке тоже немало книг, а читать не хочется. На полу лежат вьетнамские циновки. Желтоватые, легкие, они преображают комнату на летний лад. Жарко натоплено. Между этажеркой и радиоприемником стоит в бочонке розовый куст. Он в полном расцвете. Меж блестяще-зеленых листьев выглядывают нежные розовые цветы. На белой стене трепещет его необычайно раздробленная тень, и это тоже создает по-летнему легкий уют. Меньшая комната, за занавеской из декоративного ситца, — вероятно, Леина спальня. Кровать застлана синим китайским шелковым покрывалом с темно-красными павлинами и тонкими листьями. Лежит много маленьких подушечек. На столике у кровати стоит электрическая лампа на мраморной ноге, и к ней грациозно прислонился довольно крупный мраморный медведь. Я благодарна Лее Яковлевне, что она не повесила на стену репродукцию шишкинских медведей, потому что они у меня уже в печенках сидят. Вместо них висит небольшая акварель. Лесок, девочки в трусиках плетут венки у речки. Еще один проблеск лета.
— Может, перекусите? — спрашивает Федоровна.
— Нужно подождать хозяйку.
— Э, наша хозяйка, когда уходит, забывает дорогу домой, — говорит Федоровна и включает радиоприемник.
«Говорит местное радио совхоза «Каракольский». Механизаторы поздравляют Лею Яковлевну Гольдберг с Днем Восьмого марта. Они желают ей счастья в личной жизни и много, много хлеба, мяса и молока для наших советских людей. Они просят сыграть для нее танец маленьких лебедей... Мужское общежитие поздравляет директора совхоза Лею Яковлевну с Днем Восьмого марта. Все желают ей счастья в личной жизни и чтобы она всегда была справедлива к нам так же, как сейчас. Они просят сыграть для нее «На сопках Маньчжурии».
Затем приветствовали животноводы, работники кухни, детского сада.
Я выключила радио. Вскоре пришла девушка из местной почты. Она принесла телеграммы из Целинограда, из Есиля, из Москвы.
Федоровна молча возилась на кухне. Окна налились темной густой синевой; ветки розового куста стали почти черными; цветы среди листьев утратили свои прозрачные краски.
Гости и вправду пришли. Они всё принесли с собой. Стол был уставлен — миски с холодцом, копченая колбаса, политая яйцом, вареная колбаса, жареные куры, сметана, творог и водка, водка. Кто ее всю выпьет? Нас всего одиннадцать человек, из них — семь женщин. Я не могу разобраться, кто кем приходится друг другу, но из разговора я понимаю, что сюда пришли те, кто вместе с Леей были тут с самого начала, первыми из первых, — тогда, когда прокладывали первую борозду.
Приносят мою большую жирную копченую сельдь. Она лоснится между бледными кольцами лука.
Говорят о разном. То и дело в беседу врывается:
— А помнишь, как у нас не было воды?
— А помнишь, как мы двое суток сидели без хлеба?
Коренастый, полный, краснолицый Шестаков поминутно опрокидывает стопку, приговаривая:
— Лея Яковлевна, твое здоровье! Никогда бы нам с тобой не разлучаться.
Я уже знаю, что Шестаков — председатель рабкоопа. Он становится все румяней и румяней. Сергей Базин, высокий, белокурый, молчаливый мужчина, тоже вливает в себя стаканчик за стаканчиком. Лея говорит:
— Хватит, черти! Ночевать-то вам придется идти домой.
— Что правда, то правда. Домой нужно будет идти на собственных ногах, какие бы они ни были слабые, — говорит Шестаков Базину.
Лея Яковлевна просит завести пластинки. Базин берет проигрыватель. Все направляются в комнату Федоровны. И хотя старая прилегла было после выпитых рюмок, теперь она сидит, смотрит, как танцуют, и притопывает ногой.
Лида Петренко, которая так задушевно пела за столом украинские песни, танцует с Шестаковым. Они выступают навстречу друг другу мелким перебором. Лида запрокинула голову, ее глаза блуждают где-то поверх всего, ее тонкие руки раскинуты, плечи дрожат. Шестаков поминутно запрокидывает голову так резко, что удивляешься, как она еще держится у него на плечах, а ногами постукивает часто и с вывертом. И вдруг он изумленно оглядывает всех нас, точно хочет попросить прощения за то, что его ноги выделывают такие смешные и замысловатые выкрутасы. И тогда Лида пролетает по кругу мимо нас и садится на стул рядом со мной, едва переводя дыхание.
Я смотрю на Лею Яковлевну, которая танцует с мужем Лиды Петренко. Ее ноги плывут по полу медленно, сдержанно, стыдливо, а глаза пылают так, что кажется — вот-вот загорится шевелюра у ее партнера.
Я смотрю на Лею Яковлевну: так молодые еврейки танцевали, бывало, на свадьбах — сдержанно, только с пламенем в глазах.
— О чем вы думаете? — спрашивает Лида.
— Есть о чем думать. Где вы работаете?
— О, у меня очень приятная работа.
— Все-таки, если не секрет?
— Сколько бы ни держали это в секрете, ко мне все равно придут. Сначала приходит она, затем — он. Он стоит под окном с узелком и шлет такие лирические записки, что даже завидно.
— Уже много родилось?
— Несколько десятков не хватает до полтысячи. Тут есть такие, что скоро придут ко мне в третий раз.
— Ну и как?
— Растут! Даже семимесячного я выходила, кварцем грела; он уже ходит в детский сад. Вы думаете, у нас только пшеницу сеют?
Она хотела еще что-то сказать, но Шестаков срывает ее со стула, и они уже опять кружатся.
Далеко за полночь. По тому, как гости прощаются с хозяйкой, можно понять, что они не только уважают ее, — ясно, что они ее любят.
Свет выключен, ветер гудит бешено, на исходе моя первая ночь в «Каракольском» совхозе.
Когда, проснувшись, съешь вкусный завтрак, нужно его оправдать. Иду в коровник. Коровы поворачивают головы в мою сторону — они ждут, чтобы я им насыпала что-нибудь в корыто... Они смотрят на меня круглыми, преданными глазами сквозь длинные белые ресницы — словно сквозь падающий редкий снег глядит на меня множество лун.
Коровник полон чириканья. Откуда это? А-а, понятно: меж стропилами, под самой крышей, носятся воробьи, и вдруг, как темные комочки, осыпаются вниз прямо в корыто. Коровы машут хвостами. Но воробьи уже видали это. Они так обнаглели, что многие усаживаются меж коровьих рогов и делают там то, что им надо... Внезапно воробьи взмывают к стропилам. Слышно, как подъехал трактор. Ворота коровника отворяются, и хлев наполняется кисловатым запахом кукурузного силоса. Молодые скотницы тащат к корытам охапки темно-зеленых тонких длинных листьев. Коровы поднимаются. И вот уже слышен тупой звук — десятки челюстей жуют, перетирают и перетирают длинные влажные листья.
Вдруг нахлынуло... Точно так же пахнул силос в коммуне «Войя-Нова»... Послышался молодой смех. Идут доярки. Так смеялись девчата и в нашей коммуне. Но их шаги звучали совсем иначе. С ранней весны до поздней осени они ходили босиком. Кисловатый запах силоса перенес меня в мою молодость... Только этого недоставало!
Смеются доярки, звенят под струями молока жестяные ведра. Рукава у девушек засучены. На руках блестят часики. Сквозь тонкие чулки проглядывают круглые полные колени. Нет, у тех не было часиков, а тонких чулок на молодых, круглых коленях уж и подавно не было. Они понимали, что богатыми можно быть и тогда, когда приходится отказываться от многих вещей.
— Сколько вы зарабатываете в месяц? — спрашиваю я у молодой доярки с румяными щеками и маленьким вздернутым носом.
— Сколько даем молока, столько и зарабатываем.
— Сколько же молока выдаиваете вы у этих рогатых буйволов?
— Не смейтесь над этими буйволами. Их молоко — как сливки.
— Ну скажите все-таки, сколько вы заработали в прошлом месяце?
— Семьдесят. Муж — девяносто.
— А хозяйство у вас есть?
— Зайдите к нам, увидите. Мы не покупаем ни молока, ни мяса, как Лея Яковлевна, — говорит она, выливая молоко в бидон, и садится подле другой коровы.
«По щекам видно — едят завидно», — думаю я. Всё как когда-то. Всё теперь иначе, чем когда-то. Пойду погляжу красных телок, недавно привезенных сюда из Латвии.
Со мной идет зоотехник Анна Николаевна, женщина с черными глазами и крепко сомкнутым ртом.
В большом хлеву бродят непривязанные телки-гостьи. Они будто вылиты из бронзы. Ноги — низкие, копыта — светлые, рога — небольшие, морды — узкие, шкуры блестят...
— Ну? — с гордостью спрашивает Анна Николаевна.
— Что «ну»? Если б вы их вырастили, если б они уже телились у вас...
— Ничего, отелятся, и телят мы вырастим — приезжайте к нам в будущем году, — говорит Анна Николаевна и добавляет: — Лишь бы коровники были, ах, как они нам нужны, до зарезу нужны...
Небо — ясное, бескрайний простор звенит от тишины. Степь лежит как кудрявая шкура, далеко-далеко, до самого горизонта. На солнечных местах снег растаял, а в тенистых он еще не хочет отступить. Первозданность лежит на низких деревцах у реки Каракол и веет в полете птичьих стай, тянущих куда-то на ночлег.
Совхоз «Каракольский» стоит со своими белыми домами в великом ожидании... Свежий раздольный ветер дует над поселком, и вот-вот белые дома, как суда по воде, понесутся по светлому, широкому простору. В самом деле, надо лишиться дыхания и жизни, чтобы стоять на месте, когда вокруг такая ширь, такая благодать. Но дома не корабли. Из печных труб вьется уютный дымок, готовят обед; из дворов выходят гуси; на кучах мусора стоят петухи. И хотя они довольно далеко, хорошо видно, как в воздухе обрисовываются их распростертые крылья. Матери несут из яслей закутанных малышей. Ведут ребят из детского сада. Маленьких, заботливо укутанных в одеяла, несут на руках; те, что постарше, шагают сами — на них теплые пальтишки, валенки, малахайчики. Возле многих домов сохнет белье. Простыни надуты ветром, как паруса, и, может быть, потому дома производят впечатление кораблей. Идет хозяйка, несет обезглавленных гусей. Мужчина везет на санках опаленную свинью. Рядом с желтой, лоснящейся тушей лежит связка лука и несколько больших бледно-зеленых вилков капусты...
Весь этот пейзаж раскалывается гулом тракторов, идущих спасать грузовики, застрявшие в грязи.
Уже поздний вечер. Библиотека, должно быть, открыта. Да, она открыта. Молодежь стоит у книжных полок, каждый выбирает то, что ему нравится. Библиотекарша — миловидная девушка с короткой прической, которую зовут «я у мамы дурочка». Она говорит, не скупясь на восклицательные знаки:
— Да, у нас много читают! Необыкновенно много! Был бы у нас порядочный клуб! Вот тогда бы мы показали, что значит культработа!
— А в чем бы это выразилось?
— Выразилось бы, дорогой товарищ! Мы бы охватили всю молодежь! В особенности новеньких! Новых механизаторов нужно воспитывать! Мы бы развернули самодеятельность! У вас в Москве расхаживает, вероятно, немало артистов, а сюда не едут! Они ждут благодарных ролей... Пусть едут сюда! Скажите об этом в Москве! Пожалуйста, не забудьте!
Я выхожу из библиотеки. Темнеет. В бледно-зеленом небе, как обломанный бублик, висит молодой месяц. Многие окна уже освещены. Несколько жеребят бегают галопом, распустив гривы. Их четкие силуэты вписываются в пейзаж полно, цельно, значительно.
Каракольцы идут в кино. Идут с младенцами на руках; дети постарше держатся за юбки матерей. Сами матери такие молодые, что тоже выглядят детьми. Школьники шагают самостоятельно. Они тараторят, шлепают по грязи, играют в пятнашки и счастливы... Сегодня идет «Евдокия», и эти озорники будут смотреть, как Евдокия целуется с Ахметкой. Девушки моют в лужах резиновые ботики, они в новых модных пальто, на голове шапочки или цветные платочки, какие носят в Москве.
Девушки заливаются смехом — вокруг них стоят молодые парни. Вижу, как один, ухватив оба конца развязавшегося платочка, потянул их к себе вместе с девушкой, а она так и не успела понять, что он сделал с ее губами...
В доме тепло и светло. Лея Яковлевна сидит у стола. Она спрашивает:
— Где вы странствовали?
— Гуляла.
— Теперь гулять? У нас надо ходить по степи весною, когда она усеяна цветами. Ах, какие тюльпаны цветут у нас!
— Ну, скажем, почти гуляла.
— Почти гулять — не страшно. Почти кушать несколько хуже. Садитесь. Федоровна!
Федоровна появляется с нарезанным хлебом, приносит вареные яйца, тушеную морковь.
— Где вы были?
— В библиотеке.
— Ох, сидит у меня эта библиотека в печенках. Нам, как жизнь, необходим клуб. Но пока нам придется обходиться без клуба. Нужно построить школу, поставить амбары для зерна, помещения для скота, — одним словом, нужно и нужно! Я уже послала грузовики за строительными материалами для школы.
— Скажите, пожалуйста, как они доберутся обратно по такой дороге?
— Ничего... Доберутся! Вчера была суббота. Вызываю шоферов и говорю им: так, мол, и так, нужно ехать. «Ну, — говорят они, — если нужно, то нужно», — и ни слова больше...
— Скажите, Лея Яковлевна, а несколько недель тому назад дорога была проходимой?
— А-а... Когда дорога была хорошая, мы никаких грузов не получали. А теперь прет и в дверь и в ворота. Строительные материалы, цемент, сеялки, бобы, горох... Вчера спрашиваю одного шофера — как поездка? Он говорит: «Ох, дорога!» — и смеется. Есть чему поучиться у этих работяг. Ах, сколько у них терпения и выдержки!..
Я подумала: «Какие колоссальные средства вязнут в этом бездорожье. И бессчетные человеческие силы, которые можно было бы использовать с большей пользой».
Словно поняв мои мысли, Лея Яковлевна говорит:
— Ой, ой, ой, хозяйствовать честно, расчетливо, с вниманием к людям — далеко не легкое дело. Вы думаете, у меня все идет гладко? Немало у меня неполадок. Если б не люди, которые трудятся так преданно, дела бы шли куда хуже. Главный бухгалтер Анна Алексеевна — моя правая рука; она умеет вести счет. Мой отец говаривал: живи с расчетом, и никому не будешь должен.
— Откуда вы родом, Лея?
— Из Минска.
Я чувствую, что коснулась больного места. Лея выходит и приносит две фотографии. Она кладет их на стол и говорит:
— В тридцатые годы мы переехали в Ростов. Незадолго до войны мои родители вернулись в Минск. Я осталась в Ростове, училась в сельскохозяйственном институте. Больше я своего отца не видела...
«Больше я своего отца не видела»... Она произносит это таким тоном, что предо мной раскрывается еще много могил. Фотографии лежат на столе, как прикрытые саванами покойники. Когда Лея осторожно приподнимает с одной из них белую папиросную бумажку, пальцы у нее дрожат.
— Это моя мама, — говорит она, подавая мне фотокарточку, и берется за самый край тонкой бумажки на другой, она хочет открыть ее, но вместо этого придвигает ее по столу ко мне, а сама отходит, садится на софу, подвернув под себя ногу, и отворачивает голову. Я беру в руку эту фотокарточку...
На меня глядит тонкое еврейское лицо с ярко выраженным характером. Брови резко переломлены. Глаза глядят с сердечной доброжелательностью, тоска и забота на тонких морщинистых веках. У крыльев носа глубокие морщины. Весь облик дышит мягкой одухотворенностью.
Тихо. Полные света плоские матовые плафоны люстры обращены вверх, к потолку, и потолок освещен гораздо сильнее, чем стены и углы комнаты. Ковер на софе смят и подвернут под согнутые ноги Леи Яковлевны. Ее голова опущена, а маленькие белые руки виднеются сквозь растрепанные черные волосы... Весь ее вид по-детски беспомощен. Я вдруг вижу, как маленькая еврейская девочка сидит на коленях у отца, как он гладит ее по головке...
Сегодня исключительный день. Утром Лея Яковлевна сказала мне:
— Вы действительно хотите посидеть со мной в кабинете? Но я боюсь, что люди, увидев новое лицо, повернутся и уйдут.
Долго мы с ней вдвоем не сидели. Входит шофер. Он стоит с шапкой в руках и молчит.
— Что ты молчишь? Ждешь, чтоб я тебе что-то подарила? — усмехается Лея Яковлевна.
— Не надо мне никакого подарка. Вы хорошо знаете, какая у меня машина. Развалина. Не все ли вам равно, кто будет ездить на тех новых машинах, что нам привезли?
— А, понятно! Ты, значит, снимаешь с меня ответственность. Очень тебе благодарна. Насколько я помню, у меня нет машин-развалин. Никудышные руки — есть. Ни одной новой машины я с консервации не сниму.
— Лея Яковлевна!..
— Так зовут меня всю жизнь. До уборки никто не притронется к новым машинам. Иди к заведующему гаражом, возьми новые части и завтра на рассвете поезжай за цементом.
— Это ваше последнее слово?
— Как видишь. Спроси у тех, кто меня давно знает, меняю ли я свое слово. Счастливого пути.
Шофер уходит. Входит молодая женщина. Она стоит у порога опустив глаза.
— Что опять?
— Он вернулся. Он говорит, что больше ни капли в рот не возьмет...
— Хватит. Дважды он сбегал, дважды я его снова брала на работу, потому что ты просила. Я жалела твоих детей и тебя.
— Он говорит, сам бы пришел, да боится вас...
— Он прав. Пусть не смеет переступать этот порог. Так и скажи ему.
— Прошу вас.
— Не проси. Если ты не могла добиться, чтобы первый раз, когда он напился, стал последним, то это твое дело. Если он тебя бил с пьяных глаз, ты пропала. Как только напьется, опять начнет пересчитывать твои кости.
Женщина уходит. Лея Яковлевна очень сердита. Ее зеленовато-серые глаза суровы. Она так колотит маленьким кулаком по столу, словно хочет вбить эти слова не только в него, но и в меня.
Она говорит:
— Женщина слабее мужчины. Так устроила природа. Но прежде всего мы ведь все люди, а потом уже мужчины и женщины. У нас есть семьи, где очень хорошо живут между собой, но не всегда жена бывает твердой и гордой.
Она начинает что-то записывать. Я понимаю, что нужно уходить.
В механической мастерской не протолкнуться. Стоят разобранные тракторы, тягачи, грузовики; где-то гремит, трещит и лязгает... Федор Лазаревич, заведующий мастерской, весь измазан и блестит. Блокнот в его руке пропитан мазутом. Его красное, широкое лицо свежее и гладкое, хотя ему под шестьдесят. Бригадиры окружили его, препираются с ним. Высокий, широкоплечий мужчина, поминутно расстегивая и застегивая ватник, запальчиво кричит прямо в ухо Федору Лазаревичу:
— Ты материалы Пленума читал? Так не спи!
— Читал, читал. Не докучайте. Сам знаю...
Я понимаю, что никакого разговора у меня с ним не выйдет. Его рвут на куски. Скоро тракторы должны выйти на поля, а у Федора Лазаревича план выполнен только на шестьдесят процентов. И он прекрасно знает, что за это его не погладят по головке, не посмотрят на то, что за урожай 1956 года он получил Золотую Звезду.
Вдруг его лицо бледнеет. Он смотрит на дверь. Я тоже смотрю туда. Пришла Лея Яковлевна. Она подходит и берет его под руку, говорит с ним тихо и серьезно:
— Лазаревич, все, что нужно, нам придется сделать только с той техникой, которая у нас есть. Всё. Понимаешь? Ты читал материалы, ты не маленький...
— Нет, не маленький. Но не тяните жилы из меня. Ох, батюшки, ну и жарко будет в этом году...
— Да, будет жарковато. Но чистый выйдет из огня, а нечистому и десять вод не помогут, — говорит она и уходит.
Я тоже ухожу. Время позднее...
Федоровна сварила сегодня постный гороховый суп. Она рассказывает:
— Хотела купить куру, так не достать. Куры скоро начнут нестись. А без мяса обед не обед.
Утешаю ее, как могу. Отворяется дверь, входит Лея Яковлевна. Она, вероятно, слышала в коридоре этот разговор и говорит обиженно:
— Не достала курицы, так варишь со своим языком.
Обедаем. Лея Яковлевна улыбаясь рассказывает:
— Мой отец говорил, что мать его, когда пришивала ему пуговицу, давала ему пожевать что-нибудь съестное. И он додумался — стал чаще обрывать пуговицы. Тогда она стала давать ему кусочек нитки, чтобы он жевал, или приказывала: кусай лацкан, чтобы я не зашила тебе ум. Потому, вероятно, и стал отец мой пекарем, что в детстве досыта хлеба не едал. Не было б никого счастливей меня, будь отец мой теперь со мной. А вот Федоровну сын выгнал из дома. Этакий мерзавец! Имеют дом, корову, десятки птиц и боятся, как бы мать не съела лишний кусок. Вот кончим только с посевной, клочья полетят от ее сына, — говорит она сердито. Встает, берет зеленое кожаное пальто, чистит его и продолжает уже тихо: — Пустячки — сделать счастливой и накормить целую страну? Кем бы я была раньше, спрашиваю вас? Будь отец мой жив, он был бы самым счастливым человеком. Его внук кончил аспирантуру, у всех близких хорошая работа, нужно отдать себе отчет в этом! Выросло целое поколение, которое и представления не имеет, что такое «человек воздуха».
Пальто уже вычищено. Лея Яковлевна приготовила белоснежную кофточку — утром на работу она выходит подтянутая, чисто одетая.
Она задумчиво говорит:
— Вы думаете, я и до сих пор не могла бы сидеть в минском министерстве сельского хозяйства? Но меня с души воротит от бумагомарания. Что может быть лучше, чем иметь в руках живое дело, радеть о людях. Не могу забыть, что отец мой в детстве никогда не ел досыта. Я очень хорошо знаю, чем питался бедный крестьянин. Вот читаю теперь Бальзака. Растиньяк провожает папашу Горио в последний путь... В ушах Растиньяка звучат слова Вотрена, бывшего каторжника: с людьми нужно обращаться, как с почтовыми лошадьми. Запрягай их и гони, и пусть они подохнут, лишь бы цель была достигнута. Никто не пытался переделать мир, который обходился с людьми ненамного лучше, чем с почтовыми лошадьми. Мы осмелились переделать мир, но работы у нас выше головы. Пустячки!.. Но у нас еще много таких, кому бы только урвать самый жирный кусок пирога. Отбросить их, расчистить дорогу. Вот в чем дело.
Тихо-тихо. Я думаю: в нынешнем году совхоз засеет пшеницей двадцать пять тысяч гектаров. Кукуруза, бобовые, горох и свекла. Весна идет. О-о, хватит работы дочке пекаря!
Поздняя ночь. В спальне Леи Яковлевны горит свет. Я слышу, как она листает страницы, она читает. Слышно, как она вздыхает. И слышно, как за стеной качают ребенка. Тук-тук-тук. Слышно также, как ребенок плачет. Лея Яковлевна говорит:
— Молодые матери такие глупые — качает и качает. Взяла бы ребенка на руки, напела бы ему что-нибудь... Не могу слышать, как плачут маленькие дети.
В ее словах мне слышится еще что-то...
Свет в ее спальне все еще горит. Слышно, как шуршат страницы. Слышно, как она вздыхает — очень тихо, потому что за стеной уже не качают колыбельку, ребенок уснул...
Дни идут. Солнце сильно греет. Лея Яковлевна озабочена и взбудоражена.
— Я люблю, — говорит она, — когда весна сразу хватает зиму и будто кладет ее на горячую сковороду, а нынешний год сыпет муку и льет воду. Если б не мои помощники, я не знаю, что бы со мной было.
Одна из таких ее помощниц — Настасья Васильевна. Миловидная брюнетка, бойкая украинка, в ее ведении внутрисовхозное хозяйство: общежития, ясли, детский сад, баня. Это все на ее попечении. Но сколько бы ни было у нее работы, она находит минутку, чтобы забежать к нам. Она сбрасывает пальто, садится к столу и восклицает:
— Что же вы ничем меня не угощаете? Или у вас у самих нечего кушать?
Выпив несколько стаканов чаю, она принимается выкладывать свои сердечные заботы:
— Ой, что за мальчик к нам приехал! Меня всю дрожь пробирает.
— А, ты дрожишь слишком часто, — говорит Лея Яковлевна и покатывается со смеху.
Что-что, а смеяться она умеет. Бывает, она вбегает в дом, покатываясь со смеху так, что нет-нет даже взвизгнет. Можно подумать, что на улице она видела бог знает что. Оказывается — ничего подобного. На улице ничего смешного; на улице светит луна. Но Лее Яковлевне смешно, что ветер буквально внес ее в дом.
Когда она перестает смеяться, начинается серьезный разговор.
— Ну, довольно о красивых мальчиках. Завтра, Васильевна, ты поедешь за углем. Мне нечего тебя учить, ты сама — мать; представь себе, что твой единственный сын спит в нетопленном доме.
— Хватит. Или я сама не понимаю, что мне надо делать, или я когда-нибудь что напортила? — обижается вдруг Настасья Васильевна и уходит.
Лея Яковлевна шагает по комнате, потом поворачивается ко мне:
— Сказать по правде, иногда я думаю — чем я это заслужила? Или я вырвала у господа бога самую жирную телку? Ни минуты покоя!
— Вы бы скисли без вашей работы, — замечаю я.
— Это правда, — усмехается она и подходит к окну.
Слышен гул машин. Я ни о чем не спрашиваю. По тому, как она молчит, я понимаю, что вернулись не те, кого она высматривает. Вот уже четвертые сутки, как братья Алексюки уехали в Целиноград за кислородом для автогенной сварки, а их все еще нет.
— Кто знает, может быть, они застряли где-то далеко. Но этого не может быть. Их двое. Один мог бы остаться с машинами, а другой — добраться до ближнего совхоза за трактором, — говорит она.
Свет погашен. Слышно, как снова подъезжают машины. Лея Яковлевна включает свет, бежит через комнату. Я слышу, как она надевает пальто, отворяет дверь и кричит: «Алексюки!» Я слышу, как она снова затворяет дверь и говорит обрадованно:
— Приехали! Когда уж мы доживем, чтоб у нас были приличные дороги!
Сегодня воскресенье, восемнадцатое марта. Лее Яковлевне пришлось уснуть поздно. После того, как она встретила братьев Алексюков, она оделась и ушла в клуб. Я не слышала, когда это было. Об этом мне уже рассказала Федоровна. Утром я пошла в библиотеку; это, собственно, и есть клуб. Комнату не узнать. Полы вымыты, застелены половиками. На окнах висят гардины. На книжных полках темно-красные сатиновые занавески, на которые нашиты различные домашние рукоделия. Вышитые петухи, цветы, птицы. Это образует уютный интерьер. За двумя покрытыми красной тканью столами сидят принаряженные девушки и парни. Около урн в почетном карауле стоят пионеры.
Двенадцать часов дня. Все каракольские жители уже проголосовали. Однако все остаются в библиотеке до полуночи.
Когда Лея Яковлевна приходит домой, мы принимаемся за завтрак вместо пропущенного обеда и ужина.
— Лея Яковлевна, знаете, чего недостает мне в здешнем пейзаже?
— Например?
— Милиционера. Уже сколько времени я в «Каракольском», а еще не видела ни одной медной пуговицы.
— Мы обходимся собственными силами, — говорит она улыбаясь. — Правда, случается, что был бы нужен милиционер. Тогда мне приходится заменять его.
— Вы деретесь с пьяницами?
— Иногда приходится, — говорит она. — На прошлой неделе, например, сюда заявилась компания из совхоза «Ярославский», сильно под хмельком. Но я узнала об этом лишь много позже. Спросите у Базина, он вам расскажет.
Когда я встретила Базина, он рассказал мне:
— Понятно, мы не хотели. Чужие парни. Здорово напились, мало ли что могло случиться. Мы их хорошо угостили, усадили в машины, и пусть себе едут на здоровье. Понимаете, позови мы Лею Яковлевну, она могла бы так разгорячиться, что... Ну, а если б у парней был нож? Понимаете?
Уловив подходящую минуту, я спрашиваю:
— Лея Яковлевна, зачем вам возиться с пьянчугами? Мало ли у вас людей? Не справятся с ними без вас?
— Понятно, справились бы, но не выношу, не терплю пьяниц!
Двадцать второго общее собрание совхоза будет обсуждать коллективный договор. Но до этого у меня еще достаточно времени. Сегодня я собираюсь, как говорит Лея, «походить по домам». Это действительно так. Первым делом я иду к Татьяне. Она — заведующая отделом кадров. Также — одна из заместительниц Леи. Это женщина лет тридцати пяти — тридцати шести. Сегодня воскресенье, и Татьяна встала позже обычного. Плита топится. Татьяна вынимает из духовки горшок с молоком, кладет на сковороду нарезанные ломтики свиного сала и говорит:
— Мой умер, но я не пропала с моими двумя девочками. Достается мне от них. Молока они не хотят, яичек не хотят. От мяса воротят нос. Они бы ели яблоки, но где мне их взять, эти яблоки?
Оглядываю дом. Три комнаты. Высоко постеленные, убранные китайскими покрывалами кровати. Гардероб, есть другие вещи. Обижаться нечего.
Татьяна не дает мне уйти — она хочет, чтобы я пообедала с ней. Но мне еще нужно зайти к Базиным. Они живут тут же, неподалеку от Татьяны.
У Базиных дома только старики; молодые на работе. Судя по стаканам и тарелкам на столе, позавтракали тут как следует. Анна Георгиевна хлопочет у плиты. Ее разгоряченное лицо дружелюбно. Старик Базин садится около меня и говорит:
— Моего Сергея вы знаете. Он ведь был со своей женой Ниной у Леи Яковлевны Восьмого марта. Анна Георгиевна — мать Нины. Только не смейтесь над нами. Мы — муж и жена и в то же время сваты. Когда моя первая жена умерла, ее мать стала сватать меня с Анной Георгиевной. «Зачем тебе, говорила, чтобы твои внуки были чужими у твоей будущей жены? Поженитесь». Ну, вот оно как.
Анна Георгиевна говорит тихо:
— Перестань уж хвастать. Расскажи-ка лучше, какая мы интернациональная семья. Два наших племянника женились на еврейках. А один племянник даже умудрился взять в жены цыганку. Огонь девушка. Видели бы вы всю нашу семью в сборе, в праздники, не пожалели бы.
Александр Васильевич согласно кивает головой.
— Приезжайте к нам весной. Наша степь не такая уж обездоленная. Нет у нас леса — есть цветы. Ох и хороша наша степь весною! Нигде я не видел таких тюльпанов. Приедете снова, поживете у нас. Тогда только и увидите, какой замечательный директор у нас. Вблизи не все заметно...
Клуб переполнен. Первое слово предоставлено Лее Яковлевне. Она стоит на сцене и своими широко расставленными глазами оглядывает собравшихся. Теперь она очень похожа на своего отца.
— Товарищи, — говорит она, — долго я вас задерживать не буду. Завтра нас ждет тяжелый трудовой день. И следующие дни будут не легче. Ходят слухи, что нам пришлют еще тракторы. Это все пустая болтовня. Ни одной машины мы ниоткуда не получим. И того, что соседние совхозы хотят нам дать, я тоже не возьму. Почему? Потому, да вы сами это прекрасно знаете, что чаще всего дают другому то, что самому не годится. Верно?
— Верно, — раздаются голоса.
— А если так, то я хочу, товарищи, чтобы мы не только ничего не взяли от других, но чтобы мы, как и прежде, помогли нашим соседям всем, чем только сможем. И еще одно, товарищи. Вы знаете, к нам приехали новые механизаторы. Это — мальчики, только что со школьной скамьи. Прошу вас всех, хорошенько присматривайте за этой желторотой молодежью, учите их, показывайте, воспитывайте. Не забывайте об этом. Мы должны засеять около тридцати тысяч гектаров. Мы будем выращивать свеклу, горох, бобы, чего мы до сих пор вообще не выращивали. Но молодежь — это наша первейшая забота. Вы ведь понимаете, что значит взаимопомощь, что значит выручить товарища! Нужно ли мне напоминать вам святые слова, что мы должны быть братьями...
Гремят аплодисменты. Лея Яковлевна сходит со сцены. Слово берет председатель рабочего комитета. Он говорит коротко. Подписывают коллективный договор и пункты социалистических обязательств. Собрание закрывается.
Утро — ясное и теплое. Неподалеку от коровника лежат огромные горы пшеницы. Хочу представить себе, сколько места займут эти горы зерна, когда каждое зернышко ляжет в отдельную ямку...
Лея Яковлевна входит в дом, раздевается и говорит:
— Ветерок — благодать, такой ветерок хорошо-хорошо продувает мозги. В этом году целине нужен ясный ум и преданные руки.
Внезапно она задумывается. Возможно, она видит сейчас безбрежные просторы пшеницы; возможно, она теперь не здесь, а в степи, — в ярком зеленом платье, она идет по степи и рвет тюльпаны...
— Значит, едете завтра?
— Да.
_____
Заря. Солнце поднимается. Всюду журчит вода. Низкие деревца у реки облиты светом. Воздух прозрачен. Глаз обнимает все-все до самого горизонта.
Вот подъехала машина. Лея бросает в нее мой пустой рюкзак. Уже попрощались. Все уже сказано. Я чувствую, что оставляю тут многое, очень многое. У меня есть за чем приехать сюда еще раз.
Лея Яковлевна стоит около дома. Улыбающаяся, разрумянившаяся, без пальто и без платка. Но я вижу ее идущей вдоль пшеничных полей, я вижу, как она рвет красные тюльпаны. Я вижу, как тюльпаны склоняются перед нею еще раньше, чем она собирается нагнуться и притронуться своими пальцами к их стебелькам. Она кричит мне:
— Если вам что-то пришлось не по душе, не обижайтесь на нас! Наше хозяйство еще очень молодое. Ему нет еще и восьми лет. Поезжайте с миром и приезжайте к нам, когда здесь цветут тюльпаны.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





