ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


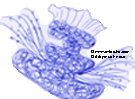
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Алонсо Дора 1970
Тяжелые редкие капли начали падать из чрева большой тучи, затянувшей луну — ущербную луну, которая еще недавно освещала пустынные тропы на неровной, каменистой земле. Духота все увеличивалась, сжимая в кулак темные окрестности, заросли кустарника, ровные участки рисовых посевов — щедрое изобилие колосьев, — теснившихся в ночном мраке. В высоком небо нервно мелькали молнии, выхватывая из плотной массы бесконечного рисового поля сухопарую настороженную фигуру старого Сильвестре.
Дождь усиливался: вялый, унылый, он прямыми струями поливал жадно набухавшую землю, разнося пряные запахи, исходившие из глубины этой ночи. Грабитель перевел дух и широким шагом двинулся в обратный путь, через спелые колосья, которые раздвигались гневно и испуганно, задевая его ноги. Он долго петлял по полю, пока наконец не отыскал лошадь, спрятанную в канаве среди густой травы, взвалил ей на спину тяжелый мешок с добычей, и, вонзив босые пятки в ее худые бока, поехал назад сквозь сеть бессонной воды.
Копыта лошади часто скользили по грязи, уже покрывшей дорогу; скользили, выбирались на твердую почву и продолжали безостановочно шагать вперед. Человек сидел на лошадином хребте ссутулясь, не обращая внимания на ливень и на неровный шаг животного. Он придерживал бесформенный мешок с награбленным и время от времени недоверчиво и боязливо озирался по сторонам, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь пелену дождя и мрака.
Внезапно лошадь заупрямилась; запрядав ушами, она подалась вбок. Старик успел вовремя уцепиться за гриву и глухо и злобно пробормотал:
— Ах ты проклятая, сучья дочь!
Но потом соскочил на землю и, пригнувшись, осторожно вошел в густую спутанную траву, высматривая своего заклятого врага, который вполне мог прятаться поблизости и смеяться над его просчетом, держа в руках ружье и щуря свои и без того узкие глаза. Нащупав нож, старик провел пальцем по его острому лезвию и, проворно обойдя лошадь, двинулся вперед. Вдруг что-то с шумом вылетело у него из-под ног. Сова, неторопливо махая крыльями, полетела прочь, белесым пятном выделяясь на фоне затянутого дождем неба. Облегченно вздохнув, старик вернулся к лошади, мирно щипавшей траву, и прошептал:
— Еще неизвестно, Первый, кто кого раньше выследит.
И Сильвестре Каньисо снова двинулся в путь.
Утром голос Первого, словно бич, стегнул пеонов, которые работали под жаркими лучами золотого солнца, на бескрайнем поле, желтоватым ковром убегавшем за горизонт:
— Сегодня ночью опять воры. Каждую ночь воры. Никто не знает, а?
Ответом было молчание. Китаец-надсмотрщик медленно обвел глазами пеонов, и старик почувствовал, как пронзительный взгляд китайца на миг задержался на его затылке. Затем послышались неторопливые твердые шаги, промелькнули короткие потрескавшиеся краги и проплыла пожелтевшая соломенная шляпа, прикрывавшая голову маленького властелина плантаций в Сан-Антонио-де-ла-Анегада. Старик посмотрел ему вслед, содрогнувшись от страха и гордости:
— Ходи, ходи, китайская лиса, ходи, каплун, все равно не пронюхаешь, кто обчищает твой улей.
Креолам была ненавистна тирания этого азиатского карлика, которого поставил над ними дон Рамон, хозяин рисовых плантаций. Двадцать с лишним лет, проведенных на Кубе, изменили его восточную натуру, придав ей некий оттенок добродушия, соответствовавший духу антильской земли. Теперь у него не осталось даже китайского имени. Все звали его Первый. Это странное прозвище брало начало от обычая в бригадах, работавших когда-то на плантациях сахарного тростника; китайцы держались вместе, и остальные пеоны — кубинцы, гаитяне, ямайцы — называли их по номерам, будучи не в силах запомнить настоящие имена молчаливых желтокожих товарищей; а китайцы тянулись к земле, словно на всю жизнь были соединены с ней живыми корнями или словно земля была единственным, что помогало им дышать под чужим небом и сносить все тяготы изгнания.
Со временем Первый, усердный и пронырливый, с вечно угодливой и заискивающей улыбкой на лице, стал человеком какой-то смешанной национальности и настроил свой ум на новый лад. Наконец, окончательно отколовшись от своих многочисленных земляков, поселившихся на острове, он встал на ноги и даже смог выделиться из своей среды, получив должность надсмотрщика.
Его счастливая звезда взошла несколько лет назад, когда гуахиро открыли для себя благословенное белое зерно, так хорошо прижившееся в тропиках. Это открытие превратилось для них в знамя надежды, затрепетавшее на ветру. Новое дело увлекло жителей маленького ранчо, и с той же страстью, с какой прежде они выращивали тростник, они принялись за культуру, приносившую более твердый доход.
В то время китаец занимался мелкой торговлей. Нагрузив на спину костлявой неторопливой лошадки короба, набитые хлебом, сластями, дешевой глиняной посудой, он сам усаживался рядом с товарами и на рассвете, в лучах восходящего солнца, отправлялся по горным тропкам, маленький, невидный, с неизменной улыбкой на губах.
И вот этот малозаметный торговец, привычный, как пение петуха, стал человеком, к которому потянулись за советом гуахиро, побуждаемые надеждой и общим энтузиазмом. Первый очень старался скрыть, что его собственные знания не превосходят знаний крестьян, обращавшихся к нему за помощью. Он предпочитал хитрить и наживаться на наивности гуахиро, которые приписывали китайцу впитанное с молоком матери умение выращивать рис, знание особых методов, верных способов для получения богатого урожая, привезенных с его далекой родины.
Проконсультировавшись у опытного земляка, китаец уверенно взялся за непривычное дело. С неутомимой энергией он прорывал каналы для орошения, придумывал неведомые таинственные средства, якобы необходимые для произрастания злака. Он выхаживал рис, преданный горячему сердцу земли, как выхаживают новорожденного сына, принесшего в дом удачу, и в результате завоевал в округе славу знатока, настоящего специалиста. Поэтому когда новый земледельческий опыт соблазнил дона Рамона, состоятельного бискайца, Первый был взят надсмотрщиком над местными работниками.
Но они, ранее неизменно следовавшие указаниям китайца как самым авторитетным, теперь взбунтовались против его власти, претившей их расовым предрассудкам. Сильвестре был особенно недоволен, его возмущала необходимость подчиняться приказам, исходившим от Первого.
— Только этого не хватало! Какой-то гнездоед будет мной командовать!
При этом он презрительно сплевывал и в сердцах растирал плевок ногой.
Каждый день надсмотрщик спокойно оглядывал поле, концом мачете делая отметки, следил за ходом работ, наблюдал, как сначала рождаются зеленые волоски, умножаясь день ото дня; сперва редкие, они пробивались кое-где едва заметными точками на красноватой почве; затем, становясь все гуще, они превращались в густой мягкий ковер, они колыхались, как волосы русалок на волнах, обещая богатый урожай.
Он стерег рис зорко, но не из добросовестности. Китаец просто боялся за место. Он охранял спелое рисовое поле, как свое собственное, и всякий раз, когда обнаруживал потраву, чувствовал, что его власть шатается.
После каждого нового набега он приходил в ярость и отправлялся к надутому густобровому бискайцу, чтобы развернуть перед ним свои планы.
— Положись на меня, капитан. Дай ружье. Птичка попадется, увидишь...
Китайцу дали ружье. Теперь Сильвестре видел, как в сумерках он всегда кружил вокруг посевов, иногда пешком, иногда на кроткой лошадке, которая бежала веселой рысцой, а китаец подпрыгивал в седле в смешной и неудобной позе, вытянув вперед широко расставленные ноги.
Порой, когда старик прикидывал дальность боя этой двустволки, ему становилось не по себе; страх, тягучий и клейкий, как слюна от плохого табака, связывал ему рот. Но слишком могущественной была рука, посылавшая его срезать тяжелые колосья, чтобы потом, под надежной защитой своей хижины частыми осторожными движениями толочь на колоде твердые зерна.
— Может, это не колдовство, но каким-то зельем ты, уж точно, меня опоила, — говорил он, похлопывая Лилу по широким рыхлым бедрам, а довольная Лила смеялась, показывая неровные зубы и непристойно изгибаясь.
Те, кто знал старика раньше — всегда угрюмого, одинокого, до старости прожившего без своей женщины, — тоже не переставали удивляться:
— Ясное дело, ведьма. Впилась тебе в душу, как ядовитая колючка.
Он сердито обрывал их:
— Занимайтесь своими делами. В шестьдесят лет нужны деньги, а не советы.
Лила вошла в его жизнь, когда дни его начали клониться книзу, как шины старого кактуса. Он почувствовал себя мужчиной, но тело уже не всегда могло отзываться как должно на призыв любви. Все это пробудило в нем решимость, которой он старался восполнить этот недостаток, унижавший его до глубины души. Неторопливый, немного ленивый крестьянин, привыкший быть честным, он встал на плохой путь, чтобы показать себя храбрецом и удовлетворять бесчисленные капризы женщины, с которой он столкнулся как-то вечером в деревне, выходя с представления бродячего цирка, и которая, как хищная птица, вцепилась в его сердце.
— Пойдем в мой дом, если хочешь, — однажды сказал он ей.
И она пошла, устав от постоянного голода, отупев от порока, одержимая желанием спать одной и иметь над головой свою крышу.
В беспросветном существовании Сильвестре Каньисо забрезжила розовая заря.
Однажды, месяцев через шесть-восемь после их встречи, она зажгла в нем новую надежду, сказав, что ожидает ребенка.
— Но, Лила, ты уверена?
— Почти... Привелось же рожать здесь, в твоей конюше, на старости лет!
Он не находил слов, мысль об отцовстве ошеломила, оглушила его, и он стоял растерянный, дрожащий, точно ветка, которую тронуло пламя.
Последующие недели старый крестьянин жил в каком-то упоенном ослеплении. Без отвращения работал он под началом маленького желтокожего человечка, все меньше боялся двух черных дул, все охотнее пускался на грабеж. Лила, одержимая разными прихотями, придумывала все новые и новые желания, приписывая их своему положению. А он, боясь, что погаснет свет, сияющий ему в образе будущего сына, исчезнет звезда, зажженная надеждой в мрачных глубинах его души, все больше работал и все больше воровал.
Бедняга, он был глух и слеп, слеп и глух, поглощенный запоздалым желанием возродиться в чистой, юной плоти.
После каждого набега он прятал сноп в чаще. Там же он прятал и колоду, сделанную из крепкого ствола, и проводил долгие часы, потихоньку колотя и колотя твердые зерна, пока от них не отставала золотистая шелуха, которая разлеталась по ветру, словно облако мотыльковых крыльев. Потом он переправлял все зерно в дальнюю лавчонку, продавал его за полцены и возвращался домой, нагруженный подарками для капризницы.
Когда в последнюю ночь он ехал через рисовое поле, он никогда бы не поверил, что прощается с ним навсегда. Лошадь мерно выстукивала безжизненное тело дороги, и глухой цокот его шагов рождал таинственный ритм, будивший цикад и отдававшийся в сонных зарослях. Ночное безмолвие, все в огоньках звезд и светляков, звучало в душе Сильвестре Каньнсо пением ясных голосов, баюкающих его радость.
— Его будут звать Сильвестре, как зовут меня. Как звали моего отца и моего деда, работорговца.
И с огромным удовольствием — следствием подсознательного страха — он вспоминал, что его предок для работы на плантациях покупал в те времена и китайцев. Таких, как Первый.
— Черт побери, — говорил он сам себе, — уж мой пузырь сумеет пробиться, он заберется высоко. Им-то ты не покомандуешь, за ним не поохотишься по ночам, его-то не проглотишь, поперхнешься...
Мысли его текли в такт перестуку лошадиных копыт и легкому поскрипыванию ветхого, пересохшего седла. Думая о сыне, мечтая о том, каким он будет сильным и удачливым, старик чувствовал себя моложе, проворнее, ловчее.
Шорох вспугнутых перепелов, выбежавших из зарослей по обеим сторонам дороги, укрытых густым мраком, там, где он обычно оставлял лошадь, вернул его к пугающей действительности. Неизвестно почему радость, только что переполнявшая его, превратилась в страх, в страх непонятный и могущественный. Радостные надежды рассеялись, оставив после себя пустоту. Перед его мысленным взором предстал младенец, он сучил ногами и пищал у пустой груди Лилы; маленькое личико, похожее на лицо Сильвестре, искажено яростным криком, кулачки сжаты. Жизнь уже напугала его. Сильвестре слышал его плач, но не мог склонить над маленькой головкой свое уродливое, сморщенное лицо, опухшие глаза, седые волосы, свои растрескавшиеся заскорузлые руки; не мог погрузить сына в стоячую воду своего голоса, сказать ему: «Ладно, малыш, не бойся, я здесь, с тобой!»
Каждый звук — трепет листа, задетого ночным ветром, жужжание насекомого — все заставляло его вздрагивать. Он пытался успокоиться, пытался продолжить путь к тому месту, которое заранее присмотрел, но напрасно. Ему мешал страх, воплотившийся теперь в зримый образ. Это оглушительно и страшно кричал его будущий сын; сын вставал на его пути, полз к нему, цеплялся за его непослушные ноги. Мотая головой, в суеверном ужасе он повернул назад.
— Пойду в другой день. Недаром пузырь предупреждает меня. Вдруг этот разбойник подстерегает в кустах...
Уже недалеко было до хижины, окутанной покровом поздней ночи. Миновав банановую рощу, он увидел, что в доме горит свет. Охваченный недобрым предчувствием, он задрожал и ускорил шаг.
— Вот незадача, вот незадача, — повторял он на ходу, боясь потерять последнюю надежду на чудо.
Спеша узнать, в чем дело, он, еще не постучав, взглянул в щель в плетеной стене хижины.
Лила, сидя за столом, клала в миску белый дымящийся рис — рис, который воровал для нее он, Сильвестре Каньисо, — а напротив нее с довольной улыбкой восседал желтолицый обжора Первый.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





