ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
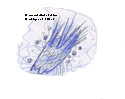

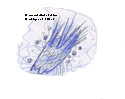
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Горобова Александра 1978
Это твой мир
Мне было шесть лет. Мы жили в Дербенте. Отец строил рыбные промыслы. Привез мне подарок — пеликана. Мы поселили его за дощатой, специально сколоченной загородкой. В загородке жила и хлопала клювом большая розово-белая птица. Белая и розовая, как крем. Из крема торчал страшный клюв. Пеликана кормили живой рыбой, ее привозил отец. От отца, от брезентовых сапог, пахло морем и живой рыбой.
А меня мучила бронхиальная астма. Я задыхалась.
По ночам возле меня сидел отец и рассказывал про море. Оно было совсем рядом. Я его не видала, не могла выйти из дома.
— Синее, — говорил отец, — синее, синее, как твоя ленточка.
Я рассматривала ленточку.
Наступил день моего рождения.
К домику подъехал фаэтон. Меня усадили в фаэтон. Фаэтон подымался в гору. Желтая гора с выгоревшей травой. И вдруг — крепость. Желтая, как гора. В проломах — кусты. Алые цветочки, как крошечные груши с венчиком лепестков на макушке. Желтые шарики мимозы. А внизу, за горой, за крепостью что-то голубое, веселое, на нем прыгали серебряные монетки. Я догадалась и закричала:
— Море! Море! Смотрите, море!
И вдруг астма прошла. Я могла ходить, бегать... Счастливая девочка подбегала к кустам мимозы. Шарики мимозы оставляли на носу желтую пыльцу. У девочки стал желтый нос. Нос она увидала в круглом зеркальце на фаэтоне. Это был день ее рождения. Ей подарили мир. И если бы в шесть лет люди знали, что такое присяга в тот день, на горе, у разрушенной крепости, счастливая девочка с желтым носом приняла бы присягу на верность этому миру. Она поклялась бы беречь до конца своей жизни драгоценную нашу землю — с пыльцой мимозы, синевой моря, с большой розовой птицей, которая щелкает клювом.
Моя вина
Мы спускались по горной дороге. Лошадь часто останавливалась. Возчик понукал ее лениво, и то только, когда я говорила:
— Этак мы и к ночи не доедем!
Дорога петляла, а тут еще из ущелья поднялся туман. Становился все гуще, молочней. Так что лицо возчика уже нельзя было разглядеть. Но выехали мы засветло, и я его запомнила. В рябинах, обрамленное рыжеватой, не густой, молодой бородой. И глаза запомнила, глядевшие приветливо или, вернее, незлобиво. Был он уж слишком тихий, может быть, дурачок.
Когда лошадь останавливалась, он соскакивал с брички, обходил лошадь, оглаживал, приговаривая что-то по-аварски.
Одна из таких остановок длилась особенно долго. В тумане нельзя было понять, что происходит, но мне показалось — человек сидит на корточках возле лошади. Потом он поднялся, отошел к кустам, и оттуда послышались всхлипывания. Потом стало тихо, и мы двинулись.
В сыром, молочном воздухе закладывало уши. Возможно, тут был перевал, и уши закладывало от высоты.
Возчик обернулся и, не укоряя, а жалуясь, сказал:
— Скинула кобыла.
Сколько лет прошло, а я вспоминаю эту историю с такой горечью, с таким чувством вины, что деться некуда. И вина эта не перед возчиком, а перед самым важным и главным, что есть на земле.
Золотая крона
Закат. Город незнакомый — Фрунзе. Улица упирается в степь, кончается степью. И там — дерево. Растет одно среди пологой степи. Круглая крона кажется черной на желтом небе заката.
И вдруг крона светлеет, становится розовой. Розовой с золотом. Вся золотой. Она приближается. Ствола нет, только ее ослепительное чудо.
Я спрашиваю Валю:
— Видишь?
Она кивает.
Мы стоим, пораженные этим только нам открывшимся волшебством.
Тогда мне казалось, мы связаны навсегда этой увиденной нами, понятой, коснувшейся нас двоих, красотой.
Через год мы расстались.
Семь дырочек
Как запомнить мир, который вокруг тебя? Он прекрасен. Он именно такой, какой тебе нужен. Даже не запомнить, а снова его вернуть...
Да запиши. Ведь ты литератор!
Ветерок на щеке, теплоту воздуха. Записать? Запах осенних листьев, уже опавших. Осенней земли. Разве это запишешь? Разве запишешь беззвучный полет летучих мышей, журчание арыка, лунный свет на дорожке.
Я сижу на скамейке. Бульвар. Сомкнувшаяся темнота деревьев. Меня ничто не тревожит. Даже мыслей нет. Пауза... Я — в паузе.
Какое блаженство бездумья!
На край скамьи садится человек. В темноте ты видишь белый костюм. Молчит. Ему тоже нужна тишина. Молод или старик?
В деревьях ветерок. Только чуть встрепенулись листья.
Теплый ночной мир.
На сандалиях сидящего видны дырочки. Должно быть, носки белые, и это в дырочках видны носки?
Одна, две, семь... Я сосчитала: семь дырочек.
Он подымается и уходит.
Семь! Семь! Семь!
Теперь я знаю, как возвратить эту теплоту воздуха, темноту: семь, семь, семь!
Жак Стефан Алексис
В Доме творчества гостит гаитянский писатель Жак Стефан Алексис. Сегодня уезжает домой, на свой остров.
Какой красивый человек. Стремительный, оливково-смуглый. Он дышит всем телом, живет всем телом. Он весь в состоянии радости. Вот он спускается по широкой белой лестнице через две ступеньки. Бегом. В зелень кипарисов. Его провожают. Я дарю розу. Чайную. Не кремовую, а золотисто-палевую. Таким бывает закат. Небо на закате.
Роза у его щеки. Как красиво! Гоген! Как незабываемо! Полотно Гогена, не написанное художником.
...Жак Стефан Алексис вернулся из Гаити. Исчез. Ему выкололи глаза. Уничтожили. А где были мы, провожавшие, в Ялте?! Выкрасть! Спасти! Прокрутить ролик жизни обратно и спасти!
Жизнь не кинолента, не магнитофонный ролик. Ее нельзя прокрутить обратно.
Исправлению не подлежит!
Милиционер
Седые усы отпущены книзу. Милиционер не молод, не подтянут. Выправка военная. Он стоит в вестибюле Одесского горсовета.
— Гражданочка, вы к кому?
— Не знаю. Я тут в командировке из Московского Союза писателей. Должна работать в порту, собирать материал. А гостиницу мне дали в Аркадии. Очень далеко. Хороший номер, но далеко. Две пересадки. Вот хочу попросить номер в гостинице «Одесса», пускай самый плохонький. Но ведь рядом с портом.
Милиционер с минуту думает.
— Обратитесь к Людмиле Николаевне. Четвертый кабинет. Она у себя. По коридору прямо.
Иду в четвертый кабинет.
Это оказалось не трудно. Людмила Николаевна позвонила директору «Одессы», и номер нашелся.
Выхожу из горсовета.
— До свидания! — говорю я милиционеру. — Спасибо за совет. Есть номер.
Он вытягивается в струнку. Его немолодое лицо сияет, голубые глаза сияют. Перед ним писатель.
— Желаю удачи, товарищ писатель, — говорит милиционер. — Счастливой работы.
Я иду по зеленому Приморскому бульвару гордая и счастливая. Никогда я не была такой гордой. Товарищ писатель идет по Приморскому бульвару, исполненный уважения к своей нелегкой профессии. Может быть, никогда не было так хорошо у меня на душе.
Товарищ писатель входит в вестибюль гостиницы «Одесса».
Он выдержит высокую марку своего ремесла, он сделает все, чтобы ее не унизить.
В ресторане
«Одесса» — гостиница Интуриста. Лифт поднимается до третьего этажа. Я живу на четвертом: туда приходится взбираться пешком.
Окно выходит на запахи кухни, на стуки посуды. Мне это почти не мешает. В гостинице я только сплю и с часок отдыхаю днем, если очень устала. Завтракаю в столовой Черноморского пароходства, обедаю — тоже. Вот ужин... Ужинаю в гостинице. Тут вкусно, но дорого. Ужинаю скромно: глазунья, сыр, стакан чая. Метрдотель меня знает. Я сажусь в квадратном дворике, где фонтан. Тут не так душпо и не так слышен оркестр.
— Сегодня много публики, — говорит метрдотель. — Есть одно место. За столиком уже трое. Вы не возражаете?
Я не возражаю.
Эти двое — французы, с ними девушка. Девушка не молода, скромно одета. Некрасива. Очень худа. Никакой косметики. Стрижка... Мне кажется, она постриглась сама. Без помощи парикмахера, и ни одного французского слова. Мужчины... Это не туристы. Скорее всего, специалисты из Франции. Может быть, инженеры. Оба не говорят по-русски. Но один кое-как читает.
— Кот-лет, — читает француз и оглядывает сидящих за столиком вопрошающим взглядом.
Девушка беспомощно разводит руками.
Я по-французски не говорю. Знаю около ста французских слов.
— Кот-лет, — смущенно повторяет француз.
Я бросаюсь, как в воду. Сто слов. Среди них — солнце, Париж, улица, вокзал, площадь, лес, холодно, горы, но я стараюсь раскрыть французу тайну «кот-лет». И все мы смеемся. И тут действительно наступает нечто волшебное: мы разговариваем. Молчит только девушка. Она смотрит на меня с благодарностью.
— Я вам так благодарна. Спасибо!
Я доедаю яичницу.
— Не уходите, — говорит девушка. — Пожалуйста, посидите еще.
Я стараюсь есть как можно медленнее.
— Вы удивлены, почему я с ними? — спрашивает девушка.
— Что вы! — говорю я. — Это естественно. Ведь они в чужом городе.
Она не переводчица, это ясно, не экскурсовод, не девушка для развлечений. Но как нежно гладит француз ее неухоженные пальцы, как нежно отодвигает упавшую на лоб прядь неухоженных тусклых волос. И вот они танцуют. Кто она, машинистка на заводе, куда командированы французы? Чертежница? Они танцуют. Француз осторожно целует худенькое плечо девушки. Что это, любовь благодарная, трогательная? Или просто манера обращаться с женщиной... Они танцуют.
Мясник
За столиком трое. Двое мужчин и девушка. Прическа от парикмахера. Перламутровый маникюр. Пожалуй, девушка даже хорошенькая, но есть в ее лице что-то отталкивающе, вульгарное. Мужчины советуются.
— Пожалуй, утку, — говорит тот, что сидит рядом с девушкой. — Может быть, шампиньоны в сметане? Попросим Анечку. Она знает, что у них самое интересное. Я у нее постоянный клиент, ужинаю каждый вечер. Выберет что надо.
«Ужинает тут каждый вечер и, видимо, оставляет хорошие чаевые, — думаю я. — Какая же у него профессия?»
Подбегает Анечка:
— Вы сегодня что будете? У нас индейка в вине. Осетрина под белым соусом. А ваша дама? Может быть, рыбненькое ассорти. — Она вытаскивает из кармана передничка записную книжечку и записывает, не дожидаясь ответа.
— А какое сегодня вино желаете?
Значит, ужинает каждый вечер с вином?
На столе появляется вино, появляется холодная осетрина. Я заказываю яичницу.
— Позвольте вам налить? — спрашивает завсегдатай и берет мой бокал.
Какая же у него профессия?
— Познакомимся, — говорит любитель грибов. — Раз уж мы за одним столиком...
— Конечно, — говорю я.
Мы знакомимся.
— Вы, наверное, в командировке? — спрашивает любитель грибов.
Какую бы себе придумать профессию?
— Да, в командировке. По вопросам гостиничного оборудования. — Я не люблю называть себя литератором. Такое сообщение сковывает людей.
— Вот он, — говорит мой собеседник. — Он мой сосед по даче. И к тому же сменщик.
Я улыбаюсь.
— А вы сами?
— Я мясник.
— В каком смысле? — спрашиваю я. Должно быть, этот вопрос звучит глупо. Но я растерялась. Ужинает тут каждый вечер. Его в ресторане знают. Наверное, актер. Может быть, из джаза?
— В самом обыкновенном. Работаю на бойне.
А я-то думала...
— И к тому же холост, — говорит мой собеседник.
Он понимает: жених с такой профессией... Да ему цены нет!
Черепаха
...По двору пробежала девушка. Голову покрывал мужской носовой платок, завязанный по углам узелками. Девушка тут же скрылась. В камышовой кабине (на крыше бак для воды) кто-то яростно отфыркивался, наслаждаясь душем. На дорожке, недосягаемые для брызг, стояли мужские парусиновые туфли.
— Приехали? — спросил из душевой мужской голос. — Сейчас я уступлю вам место.
Из кабины вышел парень — высоченный, в очках, на плече мокрая, должно быть, только что выстиранная майка. Он на пальцах пробежал по раскаленному песку и сунул ноги в туфли.
— Пока смывайте пыль. А потом... В общем, моя палатка третья с краю, — и парень удалился, блестя черной мокрой спиной.
...Он сидел на низенькой скамеечке и сапожничал. Рядом на земляном полу — несколько пар обуви. Он ловко продел дратву в ушко сапожной иглы. Его огромные руки то вколачивали в подошву сапожный гвоздик, — и было непонятно, как такая деликатная вещь держится в его пальцах, — то опускали сапог в стоявшее рядом ведро с водой.
В углу палатки что-то зашуршало, оказалось — большая черепаха, привязанная за ногу к колышку.
— Весной их тут пропасть! — сказал Федя. — А сейчас уже спят. На ужин будет черепаховый суп, а вам, как гостье, презентуем жареную печень черепахи.
Здесь в колхозе, под Куня-Ургенчем, находилась база Арало-Каспийской комплексной экспедиции. Несмотря на воскресенье, все были на делянках и должны были съехаться к ужину.
Мы ели черепаховый суп.
— Вкусно? — спросил Федя и положил на мою тарелку жареную печень.
Это было очень вкусно! Гораздо вкуснее курицы, и печень очень нежная.
— Если судить по панцирю, — сказал Федя, — этой черепахе было около трехсот лет. Мы подсчитали.
— Не меньше! — сказал сидевший рядом студент-биолог.
И тут я выскочила из-за стола, кинулась к дувалу, к тому месту, где за проемом начиналась пустыня. Меня выворачивало. Наверно, я плакала от чувства вины, от необратимости того, что случилось... Триста лет и вдруг... в суп!
Когда я возвратилась, Федя сказал:
— Туркмены черепах не едят, считают, что черепаха — это дядя или дедушка, но ведь вы не туркменка?
— Нет, — сказала я.— Не туркменка.
— Значит, можно считать, вы дядю не съели?
— Не съела, — сказала я.
Инвалид стучит в дверь
На обочине шоссе, по которому несутся военные грузовики, наскоро сколочен длинный деревянный сарай. Это военная столовая. Тут машины останавливаются, и люди, едущие на фронт, везущие продовольствие, снаряды, походный скарб, могут перекусить. Но сейчас столовая закрыта на перерыв.
В дощатую дверь стучит инвалид. Он колотит в дверь костылем.
— Я кровь свою проливал! — кричит инвалид и колотит себя кулаком в грудь. — Люди добрые! — кричит инвалид, и по его щекам текут пьяные слезы.
Мимо пробегает девушка, должно быть официантка.
— Пропойца, — в сердцах говорит официантка. — От твоей крови за три километра водкой несет.
Инвалид замахивается костылем. Сейчас он ударит. Девушка стоит перед инвалидом. Это фитюлька в ватной телогрейке. Если костыль угодит в плечо, этой фитюльке несдобровать. Вата не спасет, но костыль застывает в воздухе.
— А тебя тут все знают, — говорит девушка. — Знают, как ты спьяну под вагон угодил! Кровь он свою проливал! Таких алкашей в армию не берут! Ты же алкоголем пропитанный. От одной спички вспыхнешь.
Инвалид трезвеет. Он сразу трезвеет. Фитюлька попала в самую точку. Он размазывает слезы грязной ладонью и больше не стучит в дверь. Тяжело опираясь на костыль, инвалид отходит в сторонку. Но стук не умолкает, только теперь он идет откуда-то сбоку. За бровкой шоссе вмерзла в грязь убитая осколком снаряда лошадь, и человек вырубает топором кусок рыжего, покрытого изморозью лошадиного крупа. Он поворачивается к нам. На его лице выражение счастья. У него сверх карточного пайка будет лошадиное мясо.
Машина фронтовой редакции стоит на обочине шоссе. Столовую скоро откроют.
Белгород-Днестровский
Круглая алюминиевая луна. Она освещает собор. Он кажется плоским, будто вырезан из картона. Мы спим во дворе. Двор широк, пуст, освещен луной. Устроились на земле и спим. Это 1944 год. Белгород-Днестровский.
Высокие деревянные ворота открыты.
В воротах женщина. Подходит, дотрагивается до плеча, шепчет:
— Простынку, рубашку, шо маетэ давайте... — Ей нужно подобрать мальчонку, подорвавшегося на мине. — Хлопчик мий! — говорит женщина и не плачет. — Вин гусэй пас.
Господи! Вот разбросало по зеленой траве мальчишечье тело...
А в раскрытых воротах — белый, освещенный лупой, будто вырезанный из картона собор, черно, огромно зияет в куполе пробоина от снаряда.
Лева, а лева?
Зоопарк.
Посетители расходятся. Я одна из последних.
У клетки льва сторож с ведром, полным мяса. Он просовывает мясо между прутьев клетки специальной палкой с крючком. Лев лежит неподвижно. Это старый лев. Его шкура облезла, но темная грива почти по-прежнему роскошна. Лев лежит неподвижно. Огромная могучая голова покоится на вытянутых лапах. Мясо пахнет свежей кровью. Это большой кусок кровавого мяса, только что привезенного с бойни. Запах мяса наполняет клетку. Лев лежит неподвижно. Зоопарк уже пуст. Ничто не мешает льву. Сторож беспокоится. Тоже стар. Выцветшая кепка. В беспокойстве он снимает кепку. Голубые когда-то глаза сторожа почти не имеют цвета. Сторож смотрит на льва вылинявшими глазами.
— Лева, а лева, или тошнить? — жалостливо спрашивает сторож.
Лев открывает глаза. Желтые, незрячие глаза льва обращены в пространство. Лев не видит сторожа, не видит мяса. В глазах льва равнодушие. Сейчас этот лев живет в другом мире.
— Лева, а лева? — спрашивает стороз. Глаза его тоже устремлены в пространство. Он стоит возле клетки и смотрит поверх головы льва, поверх ограды зоопарка, поверх высотных зданий Москвы.
Ценная вещь
...В деревню Семчозеро я приехала под вечер.
Уже кипел на столе медный самовар, стояла миска с вареной ряпушкой, выловленной тут же в озере. Полотенце с вышитым львом, на спине которого вырос цветок на прямом длинном стебле, снято со стены, повешено на спинку моего стула.
— А председатель в сей час школьные лодки осматривает, — говорит старик Пабуев. И без всякого перехода: — Константина моего видели? Здоров? Об электропиле ничего не высказывал? Не говорил, значит. А может, вы сами интересовались? Я думаю, нет теперь такого лучника, который не желал бы стать электропильщиком, человек к хорошему быстро привыкает. Если прикинуть, сколько электропила ручных пил потянет? Значит, я правильно располагаю? Только бы зубья острые...
Старик вдруг засуетился, пододвинул ко мне всю снедь, какая была на столе, пугливо поглядел на жену и, наклонившись, доверительно сказал:
— Народцу у нас маловато. За время войны совсем наше место одичало. Мы всем колхозом эвакуировались, вернулись, а поля молодым леском поросли. Я тут в окрестностях девять куниц поймал — чистая дикость! Хозяйство восстанавливать народ нужен, а мы сей год сколько человек на лесозаготовки отдали. Выходит дело, наше колхозное хозяйство от лесного сильно зависит. Мало в лесу механизмов. Дериков, к примеру, хватает?..
Под окошком кто-то громко пропел: «Сердце чует, сердце чует, где мой серый волк ночует».
— Дуся, — пояснил Пабуев, — девица-почтальон, страсть как волков боится. Только теперь волки перевелись.
— Сел старик на своего конька, — сказала старуха, ставя на стол миску с маринованными волнушками.
— Рыбы у нас пропасть, — сказал старик. — Я думаю, без невода колхозу никак нельзя? Хотя бы пряжа была. Мы со старухой сами невод сделаем. Старые мы уже — старики. Желательно от своей жизни ценную вещь оставить, как говорится, чтобы документ был...
Старик замолчал. Старуха стояла у стола, усталая, держа миску моченой брусники.
Жили-были у синего озера старик со старухой...
С тех пор прошло много лет. Я позвонила в Министерство рыбного хозяйства узнать, как там живут в колхозе «Красные наволоки». Ловят ли ряпушку, может, еще другую рыбку развели. Мужской голос ответил: «Не телефонный это разговор».
Не телефонный? Значит, перевелась рыба, но ловят. Конечно, для республики, где тысячи озер, одно озеро мало значит, а вот ценная вещь, вот старики Пабуевы, жили же они на земле?
Ребенок сороки
На тропинке появился птенец. Это хорошо упитанный птенец. Он еще не умеет летать, должно быть, выпал из гнезда, попал на тропинку и отрабатывает походку. Он то скачет, как воробей, поднимая свое крупное ладное тельце над еще сырой утренней тропинкой, то бойко переступает мелкими быстрыми шажками. Опять подпрыгивает. Он еще ничего не боится. Я почти рядом. Он не убегает, даже не прекращает своих занятий. Птенец тренируется. Что теперь будет делать сорока? Неужели оставит его на произвол судьбы? И тогда... что будет тогда? Кончится кошкой? Я не хочу, чтобы кончилось кошкой. Боже, как я не хочу, чтобы кончилось кошкой! Ведь он несмышленыш, ведь он ребенок!
«Поймать и подержать дома, пока не научится летать, — думаю я, — кормить нарубленным крутым яйцом, кусочками мяса, провернутыми на мясорубке».
Но он бегает уже быстрее меня. Он молодой, к тому же у меня больное сердце.
Хан Халиль
Золотой базар в Каире. Ювелирные лавчонки. Магазины побольше. Тут кресла. Покупатель может отдохнуть, подумать. Ему подадут кофе, покажут алебастровую вазу, почти прозрачную, чуть золотистую. Покажут подсвечники с крылатым драконом.
— В каком месяце родилась мадам? О, тогда топаз, топазы принесут вам счастье, — и появляется колечко с крошечным светлым топазом.
— О, мадам — литератор? Возможно, мадам желает посмотреть ювелирную мастерскую? Мы потомственные ювелиры. Мой дед был ювелиром. Конечно, золотые вещицы сейчас делают более грубо. Но у меня в мастерской опытные мастера...
Разумеется, я хочу посмотреть мастерскую. Придется что-нибудь купить. Я покупаю колечко. Возможно, это и не совсем топаз... И все-таки... Пускай он принесет мне счастье.
Пересекаем ювелирный ряд.
...Шаткая деревянная лесенка. Она ведет в темноту, ступеньки ходят под ногами. Некоторые отсутствуют. Перильца? Они сейчас обломятся. Хозяин идет впереди. он не держится за перильца. Очевидно, так безопаснее. Дверь. И мы оказываемся...
Дневной свет падает из небольшого оконца под потолком. Такое бывает на чердаке. Это даже не оконце — дыра, прорезанная в досках. В темноте, за сбитыми из досок столами, — четверо ювелиров. Они сидят сгорбившись, сосредоточившись. Тончайшее кружево резьбы...
Но ведь они обречены на слепоту! Сколько часов длится рабочий день ювелира? Вон того, справа? Сколько часов можно просидеть в этой клетушке?
Пылинки золота слетают на пол. Их соберут специальным инструментом.
— Но ведь это невыгодно! — говорю я хозяину. — Ваши ювелиры скоро выйдут из строя!
Он вежливо улыбается.
— О, в Каире достаточно ювелиров! Работы мало, покупателей почти нет. Особенно на хорошие вещи. Только золото! Покупателям нет дела до ювелирного мастерства. Я могу взять жестянщиков.
Ну, а ювелиры? Как быть ювелирам? Этого вопроса я не задала.
Под потолком чириканье. Там, под потолком, раскачивается клетка. Чирикает маленький волнистый попугай.
Разнесчастная ты птаха, легко ли тебе в этаком мраке? Но птичка разделяет участь людей. Рождает улыбку. Она нужна. Она — герой. Живет и не погибает.
В Фесе
Каса-Бланка. Рабат. Светлые, как парки, рощи пробкового дуба. Крошечные виллы французов. Разрушенный римский город. Кактусы. Наконец Фес. Мы в Фесе. Сначала разрушенное медресе, это XVII век. Выпавшие из стен керамические плитки с голубым арабским орнаментом. Потом базар. Школа. В распахнутые резные двери видны сидящие на полу мальчишки. Они сидят очень чинно. Мулла в огромной чалме объясняет коран. Улочки тут узки. Машине не пройти. Машина осталась перед базаром. Ярмарка. Легкие, деревянные, только что поставленные лавчонки. Мальчишки продают конфеты, воздушные шары, сладости на подносах, ледяную воду, кока-колу. На столбах крепятся цветные фонарики. Между столбов натягиваются канаты. Появляются канатоходцы. Появляются клоуны... Рядом — кладбище. Это старое еврейское кладбище. У могил разостланы скатерки. Появляется снедь. Цветные фонарики зажигаются. На канате — первый канатоходец. Праздник? Или так принято поминать покойников: клоуны, фонарики... Они утверждают целесообразность жизни, закономерность смерти. А может быть, утверждают бессмертие? Каждый совершенный поступок рождает цепь следствий, следствия — на века.
Над кладбищем горят фонарики. Ловко и весело движется по канату плясун.
Наступает ночь.
В могилах — потомки изгнанников из Испании.
Хадж
Аэродром в Тунисе. Зал ожидания полон. Пройти невозможно. Это женщины. Они укутаны белым: фигуры, головы, лица. Видны только глаза. Глаза кажутся огромными. Женщины молчат. Напряженная тишина. Торжественно. На летном поле приземляется самолет. И вдруг никогда не слышанный мной звук наполняет зал ожидания. На что он похож? Я не имею возможности сравнивать. Так может кричать гигантская стая павлинов. Это не человеческие голоса. Но кричат женщины. Как это делается? Лица закрыты. И вдруг легкое движение под белой тканью там, где должен быть рот. Это ладонь? Я прижимаю ко рту ладонь и пробую крикнуть. Прижимаю и отвожу ладонь. Можно громче. Меня не услышат. Странный, лесной, исступленный звук рвется из моего горла. Я с ними? Я тоже приветствую паломников? Я кричу, прижимая и отводя ладонь. Боже, это наваждение? Но они посетили Мекку, прижимались к черному камню каабы. И хотя изнурительный подвиг дальней дороги отпал, они почти святые. Другие времена: святость обеспечивается самолетом и требует только денег — воздушный транспорт дорог. Но отель, где совещаются держатели нефти, близко. А нефть — это не только энергетическое сырье. Это... Да мало ли чем может стать нефть: предметом обогащения, орудием принуждения, орудием политического шантажа, двигателем прогресса...
В зале ожидания страстный, приветственный, исступленный крик женщин.
Стриж
Это был стриж. Он сидел в тенечке, на влажной темной земле, под бетонным сводом небольшой дамбы. Мы пришли сюда на моторке по Каракумскому каналу, пришли в поселок эксплуатационников, и закрепили лодку у причала.
Еще стояли в глазах желтизна пустыни, нестерпимое блистание воды, от которого клонило в сон, клонило в сон от ровного жужжания мотора, от камыша, стоявшего стеной, и вот мы вышли. Я — чтобы посмотреть поселок, который видела давно, вернее, тогда еще не поселок, а только место, где потом он возник. И канала тогда еще не было, а был Карамет-Нияз-шор — котловина, покрытая серой хрупкой коркой солончака, окруженная песками. Но уже было известно, что сюда пустят воду, обоснуются люди, и я приехала посмотреть на эту воду и вообще на то, что тут стало, а двое молодых техников приехали, чтобы купить в лавчонке тюль для занавесок. В Мары тюля не было, а эти двое были марийские, получили новые квартиры, которые следовало обжить. Но прежде чем начался наш марафон через поселок, чтобы успеть в лавчонку до обеденного перерыва, была дамба и стриж, сидевший на влажной темной земле, в тени бетонного свода. Он даже не пытался улететь. Он сидел у меня на ладони не шевелясь, живой, но уже обессилевший, видимо умиравший. И когда я посадила его обратно на то же место, в тенечек, на ладони осталась светлая, выпавшая из клюва прозрачная капля. Как слеза. Стриж — это был другой мир, соседствующий, но другой. И в нем я была бессильна. Я ничем не могла помочь. Этот соседний мир никогда не проникал в наш. Он существовал автономно. Мир ласточек, стрижей. Я этот мир даже не замечала, привыкла не замечать. Но светлую каплю на ладони и этого стрижа запомнила надолго.
Должно быть, тут было что-то еще, кроме другого, соседнего мира: конец полета, утра, голубизны, которую чертят крылья, а стриж все выше, он уже точка.
А конец — это всегда печально и памятно.
Интеллигунция
Я живу в писательском доме: кухня пять с половиной метров и совмещенный санузел. Тут живут писатели. Живут не богато. Мебель в квартирах немодная и хрусталя нет. Но это писатели. Их главные покупки — книги. Живут они тихо. Без пиршеств. Гости бывают редко. Если они пишут, то без выходных, и в субботу, и в воскресенье. Стараются не мешать соседям. Они не вытряхивают ковры на лестничных площадках, не ставят транзисторы на подоконниках открытых окон. Это тихие, по большей части пожилые люди, но они писатели. Многие во время войны были в ополчении, многие имеют военные награды. С соседями они не ссорятся. Часто болеют...
На дворе июнь. Балконы у всех открыты. Во двор выходит еще один дом. Из этого, второго, дома появляется женщина. Она работает через дорогу в поликлинике. Кажется, регистраторша. Это молодая красивая женщина. Сейчас она в белом медицинском халате. Бегала домой пообедать.
— Интеллигунция! — громко говорит женщина, пробегая мимо открытых балконов. — Тут живет интеллигунция! — Она почти кричит.
Она ни к кому не обращается, но говорит громко, так, чтобы ее услышали в каждой квартире. Она так говорит постоянно: утром, когда идет на работу, в обеденный перерыв, вечером, когда возвращается с работы... Ее лицо выражает презрение. Она нас презирает за книги, за то, что по воскресеньям из раскрытых окон не разносятся пьяные песни, за то, что мы не отплясываем так, что этажом ниже дрожат потолки, за то, что разговариваем вполголоса, что не тащим домой где-то раздобытые дефицитные товары, за то, что не кроем матом. Она нас презирает за все.
Могила селекционера
Сначала Мары. Это были мои места, при мне началось строительство Каракумского канала. Все я тут знаю. Машину мне дали в Каракумстрое. Водитель с круглым веселым лицом спросил:
— А там долго задержимся? С часок? Часок не проблема. — Протянул мне руку и сказал: — Бегенч.
Городок. Аллея тополей. Ворота. Опять аллея, которую заключает корпус опытной станции.
На станции стояла тишина. Ею было налито все, как водой. Пусто в кабинетах. На стене под стеклом «нулевка». В библиотеке сонная библиотекарша. Я поздоровалась:
— У вас что, обеденный перерыв? Или все на делянках?
— На делянках? Так сейчас же самый зной!
Библиотекарша посоветовала пройти в домик, где прежде жил директор станции, а теперь его дочь с мужем и сыном.
— Муж — селекционер. Он вам все объяснит, — сказала библиотекарша. И помолчав: — А у нас тут институт строят. Научно-исследовательский. Будут заниматься селекцией тонковолокнистого хлопчатника. Он все вам расскажет.
От главного корпуса следовало повернуть вправо. Я знала эту дорогу и домик знала, бывала. Даже тут чай с вареньем пила.
Птицы не пели.
— Обедают, — сказал Бегенч про птиц.
Я отворила калитку. Сад... Большое урюковое дерево. Урюк на ветках крупный. Уход за деревом, значит, хороший. Или сорт такой? Абрикосовые деревья по триста лет живут. Вот здорово! Мальчишка качал из скважин воду. Была это еще не вода, а жидкая глина.
— Скоро вода пойдет, — сказал мальчишка. — Будет колодец.
В столовой, пожалуй, стало темнее. Разрослись кусты и заслонили окно? Конечно, кусты нужно было подстричь... А может быть, так лучше, в комнате прохладнее?
Кажется, наш разговор начался с «нулевки».
— Ничего, существует «нулевка»...
— Конечно, — сказала я, — теперь и вода есть: Каракумский канал, и посевы возможны на больших площадях. Ведь здесь у вас края тонковолокнистого хлопчатника, замечательные края!
— Конечно, — сказал хозяин. Разговор не получался.
— Ну, стареют сорта, — сказала я. — Так селекционеры об этом знают, идут на это. Верно?
— Ясно, — сказал хозяин.
Что-то его не устраивало. Я сказала:
— Можно подумать, катастрофа случилась, такая у вас интонация.
— Ничего не случилось. Работали над «нулевкой», жизнь отдали. Создавали «нулевку» специально для машинной уборки... — Он опять замолчал.
— Так что же, «нулевка» машине не по вкусу или все-таки устарел сорт?
— Спросите об этом кого-нибудь еще. Я тут не могу быть объективным. Я ведь не только зять Кулибаева, не только его любил и память его уважаю, я его ученик.
Ага, значит, не сеют «нулевку». Но спросить об этом было неловко.
— Ушибленные вы тут этим хлопчатником, — зло сказал Бегенч. — Будто ничего лучше на свете нет. А хлопок, он и есть хлопок!
Хозяйка внесла виноград, большое круглое блюдо, поставила на середину стола.
«Прикипели они к этому хлопчатнику!» — подумала я тоже зло. И вдруг что-то шевельнулось во мне, вроде зависти к этим прикипевшим к хлопчатнику людям.
— Чудики, — сказал Бегенч.
На столе появилась дыня.
А если бы не хлопчатник, если бы, скажем... Разговор не получался.
Водитель начинал нервничать, поглядывал на часы. Куда-то опаздывал.
— У нас к вам просьба, — сказала хозяйка. И, сняв со стула посудное полотенце, вытерла им глаза.
— Километра два. Больше десяти минут я у вас не займу, — сказал хозяин.
Мы вышли к машине.
— Фотоаппарат заряжает, — сказал Бегенч. — Хочет нас запечатлеть на фоне хлопкового поля. Чокнутые!..
Хозяйка вынесла виноград, крупные кисти. Заворачивала их в газету.
Территория станции кончилась. Машина шла проселком. Было видно — тут ездят редко да и ходят редко. От проселка поднимался бархан. Или еще не бархан, а наметенный ветром, не оформившийся в бархан песок. После зелени тополевой аллеи, вообще зелени, этот песок казался особенно желтым, особенно песчаным. И тут открылось кладбище. Небольшое, несколько надгробий. И тоже ни одной травинки. Песок подбирался к надгробиям.
...Это была плита песчаника такого же желтого, как все вокруг, и на ней четко высечен мужской профиль. Я знала это лицо.
От щеки, прикасаясь к щеке, поднимался тоже высеченный на песчанике стройный прутик хлопчатника, с равномерно расположенными на нем хлопковыми коробочками — «нулевка».
И этот прутик у щеки как бы вобрал всю жизнь человека, говорил о ней. Так с пропеллером или крылом самолета хоронят летчиков, и так похоронен селекционер Кулибаев.
— Хотел показать вам могилу, — сказал наш хозяин.
Бегенч подошел к нему, положил на плечо руку, стал рядом. Были они одного роста и даже, наверное, одних лет, и загар одинаковый. Как два брата. Негромко сказал:
— Так без этой «нулевки», может, дальше идти селекционеру нельзя? Нужна она, ваша «нулевка». Может, она селекционеру путь указала. Я недавно про Эйфелеву башню читал, что в Париже, что инженер Эйфель строил. Скажешь, кому теперь эта башня нужна? А она нужна. Без нее дворец Шайё не могли бы построить. Я полагаю, так всегда и бывает; наверное, у жизни такой закон, не знаю, как лучше сказать...
Они стояли рядом как два брата, и над ними спускалась ночь. Текла с арыков прохлада, и в свете луны, казалось, шевелится высеченный на песчанике прутик «нулевки».
— Не полегает она, — негромко сказал селекционер.
— Вот видишь, а я что говорю? — сказал Бегенч.
Старушенция
Ему восемь лет. Он смотрит на меня прищурившись и говорит:
— Старух нужно убивать.
Это внук соседей. Он растет в семье филолога. И научился чувствовать оттенки речи. Старуха — это не совсем точно.
— Старушенций нужно убивать.
Теперь так. Он нашел слово, вернее отвечающее его мысли.
— Почему?
— Они всем мешают.
— Чем же они мешают? — Мне хочется понять, что движет этим ребенком.
— Им нужно уступать место в метро.
Это хорошенький, опрятный мальчик. Он хорошо учится.
— Значит, твою бабушку нужно убить?
Бабушку он любит больше всех. Больше мамы и папы. Больше сестренки. Он растерян. Но это находчивый мальчик. Он спрашивает:
— А тебе сколько лет?
— Шестьдесят два.
— Моей бабушке только шестьдесят.
Я хочу довести этот разговор до конца:
— Значит, когда ты перейдешь в четвертый класс, твою бабушку придется убить?
Минуту он стоит неподвижно. Он закрывает ладошками лицо, выбегает в прихожую. Он сидит на корточках под вешалкой, где висят пальто. Его зовут обедать. Он не откликается. Зовет бабушка, зовет сестренка. Он будет сидеть так до вечера. Его душа еще как темечко у младенца. Но если она затвердеет...
Бойтесь этого мальчика.
Тутанхамон
Когда в Москве открылась выставка, посвященная Тутанхамону, у Музея изобразительных искусств стояла тысячная очередь, видимо, студенты. Были и старики. Но в залах оказалось почти просторно.
Золотая маска Тутанхамона лежала отдельно, на бархате.
У маски стояла только одна, уже немолодая женщина. Может быть, приезжая. Из небольшого городка или даже деревни. Это угадывалось по одежде, немодности, особой аккуратности платья. Темненького, из ситца, в мелкий неяркий цветочек, по волосам, уже не густым, но тщательно и гладко причесанным, стянутым на затылке в небольшой узелок, по матерчатой обуви с чуть стоптанными каблуками.
Мы обе смотрели на маску Тутанхамона.
Вероятно, золото было особо высокой пробы, без примесей, незнакомо смугло блестело. Даже не как червонное, а по-другому. Именно мягкость металла, должно быть, позволила мастеру добиться такой выпуклости щек, губ. Желобок на верхней губе был совсем как живой, такой бывает на очень молодом, почти детском лице, брови... Интересно, чем инкрустированы брови? Нужно заглянуть в книгу Лукаса. Замечательный ученый.
Стоящая рядом женщина беззвучно шевелила губами, от этого кожа вокруг рта сжималась в неглубокие канавки морщин.
— Жалко как! — негромко сказала женщина. — Молоденький какой!
Это было так неожиданно... Да и не музей здесь вовсе, а где-то рядом случилась беда! Какие три тысячи лет? Только что, сейчас случилась. Убили мальчишку! Отчего он мог умереть, такой молодой? И не нужно было особых сверхсветовых скоростей, чтобы время сжалось, не нужно космоса, а только эта страстная, горючая жалость.
Глухой
Захожу в булочную. У кассы человек, щупленький, невысокий, старый. Выгоревшая кепка. Кричит на всю булочную:
— ...так я с самого детства ничем не болел, скарлатиной не болел, корью не болел, дифтеритом... — он кричит весело, озорно.
Пожилая хмурая кассирша что-то отвечает.
— Девочка! — весело кричит старик. — Ты молчи, молчи. Все равно я звука божьего не слышу.
Подхожу платить.
— Душу ему отвести нужно, — говорит кассирша, — выговориться... — И смотрит на меня вдруг подобревшими глазами.
Старик в Ялте
Ялта. Все цветет. Все нарядно: небо, кипарисы, гуляющие.
Мостовую переходит старик. Бесформенный. Шаркает. После каждого шага — остановка.
— Дед, а дед! Давай переведу!
— А вам нетрудно?
Беру под руку. От старика пахнет немытостью, грязной одеждой, значит, некому постирать. И помыть старика некому.
— Не бойся, дед, не упадешь!
— А я не боюсь, — говорит старик и останавливается. Из-за угла появляется машина. Еще машина. Мы стоим на мостовой. Я чувствую, какой он тяжелый. Будет падать — не удержу.
— Не бойся, дед! — говорю я. — Почти дошли. Уже тротуар рядом. Видишь?
— Я все вижу, — говорит старик. — Вот вас вижу, — и смотрит в сторону мутными старческими глазами.
Тротуар чуть выше мостовой. Не поднять ему ногу на тротуар, нипочем не поднять!
— Пожалуйста, помогите, — говорю я прохожему.
Тот берет старика под мышки, легко ставит на тротуар и спешит дальше.
— Ну вот, все. Порядок. Можете идти, — говорю я старику.
А что, если он живет не близко? Нужно бы довести. Но я уже дошла до угла. Оборачиваюсь. Старика нет. Ушел со своей немытостью, необстиранностью. Вот-вот упадет...
Что же это я?..
Мы были, мы будем
Хозяин предложил тарелку с изящной арабской вязью: черный фон и белым цитата из корана.
Да, красиво! Древнейший вид арабского письма, нарядного, даже вычурного, требующего, вероятно, особого каллиграфического искусства. И вместе с тем мертвого, оставшегося для эпитафий, для монет. В этой тарелке было нечто застывшее. Догма? Нерушимость? Но другая... Почему я не заметила ее сразу?.. Хоровод рыб. Синих, розовых. Они приплясывают, а в центре большущая, зеленая, готовая их всех проглотить. Уже нацелилась. Выпучила глазищи. Даже рот разинула. А рыбешки танцуют. И эта веселая независимость восставала против куфического письма.
Мне пришло в голову, что автор этой тарелки не араб, а скажем, бербер, значит, представитель народа хотя и принявшего ислам, но сохранившего культ вод, источников... От этой тарелки вела дорожка в прошлое: Финикия, Тир... Ведь это Тир построил на берегу Африки крошечный городок рыбаков и мореходов, занимавший едва ли один квадратный километр. От него и началось могучее Карфагенское государство. И эта тарелка из лавки с керамикой повела меня к холму, где был когда-то построен, а потом разрушен город Карфаген.
Столица Туниса кончилась.
Маленькое финикийское кладбище. Тишина. Цветет иван-чай. Он цветет и у нас на деревенских заброшенных кладбищах. Цветок забвения. Мне хорошо бродить одной среди разогретых солнцем трав. Говорят, здесь хоронили девушек. Очень давно. Какими они были, финикийские девушки? Тонюсенькие? Смешливые? Заплетали волосы в десятки мелких косичек? Как наши, под Ташкентом. Может быть, эта прическа пришла к нам из Финикии.
Гудит шмель.
И вот он, холм Карфагена. Тоже желтизна выгоревшей травы, горьковатый запах, а на вершине холма терраса древней римской виллы.
Сохранился мозаичный пол. Он как бы морское дно. Весело плывет дельфин, на спине — мальчишка. Наверняка мальчику тоже весело. Огромная раковина. Розовая. В раструбе шум моря. Нужно только стать на колени и прижать ухо. Посейдон вооружен трезубцем. По всему видно, он затевает веселую морскую игру.
Мозаичный пол чист. Ведь он — морское дно! А море… Вот оно, под холмом. Сияет, украшает пустынный берег кружевом пены.
Я верю: рыбы отсюда. Приплыли и танцуют на керамической тарелке. А что они из древности — это просто миграция из одной культуры в другую.
Эту тарелку я и купила.
И когда я вглядываюсь в нее, вслушиваюсь, кто-то негромко говорит мне: «Мы были. Мы будем».
Кто ты, обещающий нам бессмертие, — мастер с тунисского базара, гончар?
Спасибо тебе, гончар.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





