ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

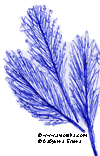

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кретова Марина
I
«Сколько
же она ест?» — неприязненно думает Митя,
и ему кажется, что покупать для Ани
продукты дело бесполезное. Она ест очень
быстро, при этом успевает говорить,
читать, болтать по телефону. Не забывает
кокетливо отставлять мизинец, когда
вымазывает хлебом тарелку, обязательно
оставляет недоеденный кусочек, потому
что считает это хорошим тоном. И
одновременно много говорит о всепрощении,
о нравственности, о самопожертвовании,
потому что недавно прочитала книгу о
Толстом. Говорит неестественно, будто
выступает по телевизору, и это Митю
раздражает.
— Аннушка,
— не выдерживает он. — Ты научилась
меня прощать, потому что тебе нечего
мне прощать. Хочешь, я тебя ударю?
Чтоб было что простить, а?
— Митя, я очень дурная? — вновь
неестественно спрашивает она.
Аня и Митя прожили вместе четыре года.
Прожили хорошо, весело. Митя — преданный
заботливый муж, Аня — взбалмошная,
очаровательная жена. Детей у них не было
нарочно, и иногда возникавшие чувства
неудовлетворенности, и скуки, недовольства
собой легко таяли в потоке встреч и
прочей жизни, которой живут бездетные
люди их возраста. Потом Аня изменила
Мите, но он ничего об этом не узнал. А
если бы узнал, то не поверил, потому что
в глубине души сомневался, что где-то
есть мужчина умнее, добрее, лучше его.
Потом роман закончился, но не так, как
заканчиваются романы у обыкновенных
людей — глупо и суетливо, а на высокой,
неослабевающей ноте. И эта нота, взятая
так высоко, не обрывалась уже целый
год.
— Я очень дурная?
— снова спрашивает Аня.
Аня лежит с открытыми глазами и
слушает, как в комнате отчетливо,
по-ночному, тикает будильник. На улице
долго грохочет трамвай,
жалобно взвизгивает собачонка,
наверху у соседей что-то падает, и снова
слышен будильник. Митя спит
тихо, бесшумно, и Аня продолжает
говорить мысленно, только уже не с ним,
а с Женей. Женя — врач, герой ее
затянувшегося романа. «Как же Митя
говорит, что я ничуть не изменилась? Ты
вспомни, Женя: он дома сидит, с ума сходит,
а я с тобой и друзьями, по дачам мотаюсь.
«Умным» мужчинам в глаза заглядываю. А
даже если и дома с ним, меня все равно
что нет. Как я легко от людей отказывалась,
а собак как отдавала, помнишь?
Надоест возиться —
отдам.
А теперь? Ведь я вся здесь, с ним. И
где бы ни была, домой спешу.
Утром
просыпаюсь с
радостью.
И даже бабок у подъезда люблю,
а раньше презирала. И жизнь понятнее
стала. — Аня все больше воодушевляется,
и Женя ее не перебивает. — Ты не пуп
земли, а только часть этого мира,
никого не выше, не умней, делай, что
должно, и хорошо тебе будет, хотя трудно.
Вот так я и стараюсь жить, а Митя говорит
— не изменилась, — жалуется Аня
Жене, опять же пользуясь тем, что разговор
воображаемый. — И вот что, Женя, я уйду
от тебя, совсем уйду, ни думать, ни
вспоминать не буду. Надо быть честной
до конца. Не буду видеть, звонить,
приходить на дежурства в больницу. Вот
завтра еще один раз приду, скажу все, и
буду для одного Мити жить, может, ребенка
рожу». Ей стало жаль себя,
на
глаза навернулись слезы.
Аня смотрит на спящего мужа, трогает
рукой его мягкие волосы и вспоминает...
...Теплый майский день, она ехала на
встречу с Женей и уже чувствовала, что
заболевает. Во всем теле была слабость,
болело горло, и хотелось, чтобы в метро
нашлось свободное место. Но Ане было
хорошо. Хорошо от этой пока легкой
слабости, от того, что она чувствовала
себя невесомой и хрупкой.
На ней была черная
свободная
блузка, юбка же по моде узкая, чуть выше
колена, на ногах белые гольфы и почти
балетные тапочки-туфли. На шее цепочка
— подарок Мити, на тонкой руке серебряный
браслет. В метро он случайно расстегнулся,
соскользнул с руки, а немолодой хорошо
одетый мужчина бросился поднимать и
как-то по-особенному бережно, как будто
что-то стеклянное, подал его Ане.
Аня была так слаба, что допускала мысль
о смерти, и эта смерть такой прекрасной
Ани тоже казалась ей прекрасной. Она
оперлась на Женину руку и начала говорить
слабым, прозрачным голосом, прислушиваясь
к его далеким интонациям. Они сели на
лавочку, мимо проходили люди, и все
смотрели на Аню. Женя засмеялся, он тоже
заметил, что на нее оборачиваются. Это
была их обычная встреча, и Аня думала,
что вот она — эта встреча, обычная, а
еще больше привяжет его к ней, она хороша,
и это факт, и он, и все вокруг это
понимают.
— То, чего
мы хотим, это как в сказке про алые
паруса. Вот, думаем, возьмемся за руки,
оставим позади свои скучные семьи,
обязанности, заботы о деньгах, детях,
жратве и пойдем вперед, где одни радости
и сюрпризы, — глядя в сторону, говорил
Женя, и Аня испуганно уставилась на
него, как будто он только что отравился
и должен умереть у нее на глазах. — Я,
наверное, как скотина поступаю, но я не
могу уйти от Кати и детей. Нельзя все
время обновлять свою жизнь, тем более
за счет других. И я...
—
Я больна, у меня горло саднит, — поднялась
с лавочки Аня и быстро пошла вперед,
спиной чувствуя, как невероятно обидно
ему должно быть от того, что она, красивая,
тонкая, легкая, уходит.
В метро она забилась в угол переполненного
вагона, туда, где двери не открываются.
Она не плакала, только мелко дрожала от
внезапности случившегося. То на нее
накатывал жар и вместе с ним животная
тоска от мысли, что все кончилось, то
становилось холодно, и она чувствовала
облегчение от того, что не придется
больше врать, таиться. И вдруг мысль —
что Женя прав, что он молодец, что он
такой же честный и добрый, как Митя. И
ей надо сейчас собраться и понять то,
что он сказал, и через это во всей ее
жизни произойдет долгожданная перемена.
И неожиданно она почувствовала нежность,
сначала к Жене, потом к Мите, к Кате,
Жениным детям, и подумала, что это не
конец, а начало, новая грань, виток ее
жизни.
Мысль о том, что
нельзя жить только для себя и ждать от
жизни одних удовольствий, как будто
впервые пришла ей в голову. Точнее, еще
даже не пришла, а только что была
продемонстрирована как наглядное
пособие. И Аня совсем неожиданно для
себя полюбила Женю за это еще больше, а
заодно и Митю, приниженно и благодарно...
— ...Митя, Митя, — тормошит Аня мужа.
— Что?
— Митя, я
плохая, ударь меня!
—
Завтра поговорим, — отвечает Митя.
И Аня, засыпая, думает, что Мите всегда
не хватало той душевной тонкости, которая
есть у Жени. По стенам бродят блики от
проезжающих ночных машин. Глядя на них,
легко засыпать.
II
Утром
приходит Валя, подруга с работы. С видом,
что спешит на важное и полезное дело,
сообщает, что едет в гости к Кирсановым,
у которых будет тьма народу. Женя —
стучит у Ани в голове — Женя, сегодня
мы расстаемся, слышишь, Женя, навсегда,
я так решила, я должна.
Причина неожиданного прихода подруги
ясна. Надо пересидеть оставшееся до
гостей время, а живут поблизости. Год
назад Аня сделала бы точно так же, да и
делала не раз.
Работают
они на эфире, в отделе выпуска, по графику.
День, ночь и два выходных. О-о-о! — говорят
восхищенные гости из Вьетнама или Индии.
О-о-о, и нарядные симпатичные девушки
улыбаются им из-за пульта управления,
до рези в глазах вглядываясь в шестнадцать
четких мониторов. Ночью же эти девушки
до одури курят и пьют кофе, вещая на
Камчатку или Дальний Восток. Мониторы
плывут перед глазами, от сигарет горечь
во рту, от ночи остается ощущение
неприятного, тяжелого полусна. Часто
они бегают в туалет — умыться и встречают
там опухших от сна, ненакрашенных дикторш
в домашних тапочках, которые перед
ночными объявлениями громко полощут
горло теплой водой. И их ночная
телевизионная жизнь, когда измученные
люди таскаются по телецентру со своими
маленькими подушками, тапочками и
зубными пастами, не имея ни сил, ни
желания перекинуться даже парой слов,
дожидаясь утра, так не похожа на
праздничную, суматошную, «творческую»
жизнь дневного телевидения.
Дома Аня не смотрит телевизор.
— Слышала, что говорят? — Валя
загадочно понижает голос.
—
Знаешь, за что Иванова
сняли?
Иванов был
начальником отдела, тихий, симпатичный
старичок фронтовик, который всегда
давал «в долг» несколько дней с отработкой,
не ворчал на больничные, не посылал
девчонок в колхозы и снимал беременных
с ночных смен.
—
Прокол у нас был капитальный, помнишь,
когда десять минут эфир пустовал. Так
вот, старик расстроился, а тут к нему в
кабинет Макаров с бутылкой коньяку.
Выпьем, дескать, за упокой, головы-то
полетели, а старик вечно за всех
расстраивался, ну и выпили...
Ане жаль Иванова, теперь другая жизнь
начнется.
— Куда
катимся, ужас! — говорит Валя.
«Ужас, — думает Аня, — сегодня я расстаюсь
с Женей». Ее мало волнует, куда «катится»
телевидение, потому что она «катится»
не с ним...
— Тебе пора
к Кирсановым, — напоминает подруге
Аня.
— Да ты что, а то
решат, что мне некуда деться.
Аня думает, что если сегодня она
теряет Женю, то уж Валю ей потерять
совсем не жаль.
—
Знаешь, Валя, — прислушиваясь к своему
голосу и удивляясь его бесстрастности,
говорит Аня, — уйди, пожалуйста, я
хочу остаться одна.
Но
Валя не уходит. Она начинает жаловаться
на то, что ее никто не любит, и даже Аня,
ее единственный друг. Что она никогда
не выйдет замуж из-за своей разборчивости,
а значит, у нее никогда не будет детей
и тем более внуков. Ане делается жаль
Валю, и она думает, что Женя одобрил бы
это чувство, и говорит: ну что ж,
оставайся.
Надо быть
доброй, думает она, сочувственно глядя
на Валю, ведь именно Женя и еще Толстой
научили ее этому. И ЭТО называется таким
привычным, наскучившим словом —
доброта.
Год назад она
вдруг перестала жить сложной, противоречивой
жизнью и перешла в жизнь простую,
ограниченную. В ту, от которой раньше
она отпихивалась двумя руками, наслаждаясь,
как у нее все запутанно, «мерзко» и
суматошно. Теперь она больше не ломала
голову над тем, как попасть сразу в три
места и в разных платьях. Что
сказать этому, и как
очаровать
того, кого выбрать, кого выгнать и
при этом чувствовать, что что-то ускользает
от тебя, проносится мимо. Десятки мест,
сотни людей, предположений, отказов,
желаний — все это как будто оборвалось
в один момент. Сверкающий, бешеный поезд
помчался дальше, а Аня
осталась
на станции в тишине близлежащего леса.
И вдруг будто в первый раз услышала,
множество звуков, запахов,
голосов, там, где, по ее представлению,
не могло ничего быть, кроме комаров и
болота.
Она считала, что
«офигенные» приключения закончились
и остался только Митя, который утром
уходил на работу, вечером приходил, а в
выходные что-нибудь пилил, чинил или
ходил гулять с Аней в парк. И Аня теперь
делала будничные необходимые дела,
готовила обед, ждала Митю, а дождавшись,
не отходила ни на шаг.
Теперь Ане хочется, чтобы ее разговоры
не нравились подругам. В их присутствии
она старается быть скучной, банальной.
У нее неплохо выходит быть скучной, и
ей приятно, когда перемена обнаруживается.
Но к ней не приходят, как к матери или к
сестре, просто за теплом, сочувствием
или советом, а Валя пришла, жалуется, и
Аня думает, что это справедливо, потому
что сегодня она жертвует Женей, жертвует
всем, и значит, имеет право быть такой.
И Аня кажется себе похожей на свою маму,
когда та, спасенная Женей лежала в
больнице... .
...Первый,
кого она встретила в коридоре около
палаты, был Женя, Евгений Максимович
Федоров.
— Так это
ваша больница, вы взяли ее к себе? Спасибо,
— улыбнулась Аня.
—
Дозвониться больше никуда не мог, —
сказал он, но в голосе была теплота.
Аня прошла в палату. Мама спала на узкой
железной кровати у окна, и Ане стало так
нестерпимо жалко ее и странно видеть
среди этой чужой обстановки, на чужой
кровати, эту частичку самой Ани, их дома.
Она прислонилась к тумбочке и впервые
за все эти дни заплакала. Потом мама
проснулась, принялась угощать Аню
компотами и пирожками, которые ей принес
кто-то из ее знакомых, как будто болела
Аня, а не она, и соседки по палате осуждающе
смотрели на эту сцену. Мама рассказывала,
что ей уже гораздо
лучше,
хоть домой уходи, что Евгении
Максимович великий доктор, спас ее для
жизни, для Ани, для всех. И хотя отделение
это не его, он уже два дня заходит к ней,
а он так занят, она, мама, слышала, что у
него большая семья, трое детей, и он
работает на две ставки здесь и в редкие
выходные еще и подрабатывает на «Скорой
помощи». Такой молодой, причитала мама,
тридцать два года, и такой ответственный,
такой заботливый, такой, такой, такой...
И Аня удивлялась и восхищалась вместе
с мамой, а потом она уже не приезжала
сюда каждый день, с чувством тайного
стыда, потому что все свободное время
они с Женей бродили по улицам, а мама
продолжала при каждой встрече благодарно
вспоминать его. Ане было грустно, что
она не может поделиться своим счастьем,
потому что у мамы больное сердце...
...— Знаешь, Валя, тебе надо выйти замуж
за обычного мужика. Чтобы он ходил по
дому в тренировочных штанах, а ты б ему
готовила, стирала, рожала детей. А то
все ждем чего-то как в сказке про алые
паруса. Принцы, необыкновенная жизнь,
приключепня. А жизнь-то, она проще и
мудрей.
— Да, — зачарованно
глядя на Аню, говорит Валя. — Как ты
права. И к Кирсановым я сегодня пе поеду.
III
В
жизни каждого человека наступает момент,
когда он принимает решение. И тогда ему
кажется, что все вокруг меняется,
приобретает другой, очень важный смысл.
Аня идет по грязной от
стаявшего снега улице, стараясь не
запачкать новые финские сапоги, и думает,
что вот раньше она считала, что любовь
и счастье должны, обязаны работать на
нее, валиться с неба как манна. Когда-то
ее неприятно поражала сосредоточенность,
замкнутость людей, которые, по всем ее
представлениям, были счастливы. И только
сейчас начала понимать, какой кропотливый,
будничный труд эта самая любовь, из
скольких нудных обязанностей она
состоит, давая только одно право. Право
любить. Она вспоминает слова Жени про
алые паруса. Вот ведь вредная сказочка,
думает Аня, переходя улицу, явится к
тебе распрекрасный принц, осыплет
жемчугами, увезет в страну чудес, и
будешь ты там как сыр в масле кататься.
Такими и растем. Лезем в замужество, как
на трамплин, после которого одни
удовольствия и приятности. И, главное,
никакого труда и затрат.
Во дворе около магазина простоватая, с
застывшим на лицо радостно-глуповатым
удивлением женщина, закутанная в серый
шерстяной платок, развешивает белье.
От простынь и наволочек валит пар;
женщина стоит, широко расставив короткие
и крепкие ноги, с силой взмахивает
руками, и брызги летят на такого же
короткого и крепкого, как тумбочка,
сынишку.
«Вот так надо
жить. Вот так хорошо. С любовью ко всему,
к чему прикасаются твои руки...» И чувство
радостного покоя и умиления над собой
— модно одетой, начитанной и такой
правильной, чистой — охватывает Аню.
Она пристально вглядывается в ребенка.
«И у меня мог быть такой же. Да не такой,
лучше, лучше, потому что мой».
Аня прислушивается к себе и внезаппо
ощущает сосущую пустоту, там, где
зарождается ребенок.
В
магазине очередь. Ругаются немая
покупательница и усталая, истеричная
продавщица. Немая хочет две банки
зеленого горошка и не желает яблок,
которые входят в предлагаемый магазином
набор. Она то выкладывает, то прячет
опять в сумку яблоки, обиженно и
высокомерно поднимает брови, мычит.
Продавщица делает вид, что не понимает,
чего хочет немая, и кричит, что та ее
угробит. Аня объясняет продавщице
просьбу немой, которая тут же благодарно
хватает Аню за рукав, приглашая бороться
вместе и до победного.
— Ишь чего, не положено! — огрызается
продавщица, и Аня передает ответ. Немая
в очередной раз выгружает на прилавок
яблоки и горошек; обиженно отходит.
Видимо, она считает свою немоту привилегией
и простодушно пользуется ею как пропуском,
когда хочет что-нибудь достать. Очередь
вздыхает облегченно, переступает с ноги
на ногу.
Аня покупает
набор и идет к выходу. Немая, нагруженная
покупками, тоже собирается выходить. В
дверях она оглядывается на Аню, ее лицо
выражает уверенность в своей правоте,
и Аня думает, что точно так же, как та
немотой, сама пользовалась своей
влюбчивостью и взбалмошностью. Она
выставляла эти качества напоказ, вела,
как она думала, честную игру, строго
оберегала свои права на странные поступки
и непостоянство. И снова вспомнила, как
лежала в больнице мама и дома болела
собака Топка, а она уезжала к Жене,
бродила с ним по улицам, и ей и стыдно
было за свое счастье, и спокойно; что же
поделать, она была такой. У Топки
авитаминоз, она облезла, и из королевского
пуделя превратилась в жалкое неопределенное
существо. И Митя ездил с ней в поликлинику
на уколы, прогуливал, и на улице никто
больше не сюсюкал с ней, не хвалил ее, и
Топка от этого чувствовала себя никчемнон
и одинокой. Ей было стыдно за свое
существование.
А Аня
гладила жесткие Женины волосы, он
поворачивал к ней счастливое лицо, она
целовала его в глубокую морщинку между
бровей, и им тоже было немного стыдно
своего счастья. Жене было жалко Митю, а
Ане oт души было жалко Катю. Иногда он
спрашивал: ну как там Митя? Нормально,
отвечала Аня, нормально.
Когда Аня вышла из магазина на улицу,
женщины и мальчика уже не было. Чистое
накрахмаленное белье развевалось,
плескалось в сером, голом, осеннем дворе
как белоснежные паруса. «Завтра устрою
стирку, — подумала Аня, — а вывешивать
— на улицу пойду и платок бабушкин
надену, коричневый». И Аня сразу
представила, как удивятся
кумушки-соседки, когда она,
как простая баба, в темном платке,
повязанном по-деревенски, безо всяких
городских причуд будет во дворе
развешивать белье и, может, даже весело
переговариваться с ними через весь
двор.
IV
Больница
была старая, большая, стояла на возвышении,
как церковь. Один из корпусов в ней
когда-то был усадьбой, может быть, даже
голубого цвета. Теперь он желто-розовый.
Балконы и колонны сохранились. Вокруг
сад с беседками, статуями и фонтаном.
Поздней весной и летом по осыпанным
песком аллеям ходили по одному и группами
серые люди в больничных халатах. Иногда
они смеялись, из корпуса слышался запах
ужина, пахло сырниками, какао.
Полосатые пижамы примелькались, но в
корпусе, где в холле в креслах сидели
все те, кто не ходил гулять на улицу,
Ане каждый раз было не по себе. Она
смотрела на себя их глазами: гостья,
которая прилетела, пригубила для остроты
то, что было их повседневной жизнью, и
улетела обратно, в свое тепло.
Было много молодых. Они разглядывали
ее с равнодушным любопытством, как
разглядывают старухи, собравшиеся у
подъезда, проходящую мимо молодежь. Им
и интересно поглазеть, и бесполезно,
настолько разные жизни у тех и других.
С их ощущениями, чувствами, желаниями.
Аня и Женя теперь, чтобы не тревожить
домашних, встречаются в больнице. Комната
дежурных врачей, узкая и длинная,
упирается в окно с фрамугой, отсюда
виден большой балкон над главным входом
и асфальтированная площадка с клумбой
посредине.
В комнате
стоит диван, покрытый белым покрывалом,
которое все время сбивается под сидящим,
и человек на этом диване всегда испытывает
чувство тайной неловкости. Как будто
тебе каждый раз напоминают, какой ты
неаккуратный. Также здесь стоят два
письменных стола, холодильник и старенький
телевизор «Рекорд», самодельная антенна
от которого в виде длинной палки
перемещается по комнате для улучшения
видимости, но видно все равно плохо.
Женя и Аня сидят рядом на диване, пьют
чай из больших кружек, и Ане кажется,
что так уже было когда-то давно, что этот
вечер похож на все другие вечера, когда
она дома, пьет чай за столом с людьми,
которые ее любят.
Сегодня суетливо. Все время кто-то
входит, здоровается, шутит или мрачно
ищет какую-нибудь вещь, хлопает за собой
дверью. Потом приходят трое, берут
бумагу, карандаши и садятся что-то
подсчитывать. Оказывается, что сегодня
день зарплаты, и всем недоплатили. Кому
пять рублей, кому шесть. «Вкалываешь,
вкалываешь, а они только и думают, как
бы обсчитать», — ворчат доктора. Впрочем,
жаловаться никто не собирается, это
домашние разговоры, которые начинаются
и кончаются здесь, этой комнате.
— Зачем тебе деньги, Беркович,
ты уже старенький, — беззлобно острит
Владимир Петрович, человек с лицом
постаревшего младенца, с прозрачными
голубыми глазками и дряблой розоватой
кожей. Беркович вяло отпирается, говорит,
что деньги много на что нужны, и наотрез
отказывается от предложения Жени
скинуться по пятерке и купить книжную
полку.
— Да я тебе
сам сколочу, здесь. Терпеть не могу
покупать.
— Так надо,
чтобы культурно было, со стеклом, —
урезонивает его Женя.
— Зачем тебе со стеклом?
— Карточку туда
какую-нибудь
вставить.
— Карточки
я вон и так кнопками к стене прикрепляю.
Беркович, угловатый и бледный, похожий
на ежа или голодную лисицу, обращает
внимание Ани на фотографию своей домашней
совы. Сова сидит на спинке стула
рядом
с цветочной вазой и кажется сытой,
усталой н потерявшей к жизни всякий
интерес.
Потом Беркович
влезает в линялую отглаженную рубашку
ромбиками, куртку-аляску и ботинки-луноходы,
подошва которых напоминает гусеницы
танка. Тапочки он аккуратно складывает
и прячет в шкаф под скомканные халаты.
На голову водружает берет и уходит...
Домашний такой, вполне обшарпанный
старикан. И Аня думает, что на улице на
него, наверное, никто не обращает
внимания, а здесь, когда он входит в
операционную или палату, он для
беспомощного больного человека и царь,
и бог, и хозяин. Он один, единственный в
мире, его ни с кем не спутаешь, могущественный
и непонятный БЕРКОВИЧ, от которого
зависит твоя жизнь.
Потом в ординаторскую вбегает холеный
молодой врач в модных очках. Сверкнув
зубами в улыбке, предназначавшейся Ане,
лезет в письменный стол.
— Нет, представляете, — говорит он,
вытаскивая из недр стола папки, соль,
какие-то трубочки. — В Ташкенте на самой
окраине захожу в хозяйственный, там на
полке три кастрюли. — Он внимательно
оглядывает одну трубочку и кладет в
белоснежный халат. — Три кастрюли, от
большой до маленькой, а под ними надпись
по-русски: гаструл, гаструлка, — он
достает блокнот и тоже прячет в карман,
— и еще гаструлчик. Ну вот, — говорит
он, как будто подводя итог своей
неотразимости. — теперь смейтесь, а я
пошел.
Аня сидит на
диване, свернутое покрывало рядом. «А
ведь я здесь последний раз, — думает
Аня, и все внутри у нее сжимается как
перед прыжком в воду. Сейчас, сейчас я
скажу ему, а он, интересно, что сделает
он... Согласится со мной или нет, да,
точно, согласится. И начнется та самая
честная, правильная жизнь, которой я
учила сегодня Валю, господи, как скучно!»
И Аня пытается улыбнуться перед
словами, которые она
пришла
сказать Жене. Чтобы с улыбкой
начать эту хорошую жизнь.
Улыбается.
— Ты
что-то хочешь сказать? —
спрашивает Женя.
—
Нет.
Женя иногда
вспоминал Аню, не так, как думал о ней
сейчас в повседневной жизни: надо
позвонить Ане, как надо позвонить деду,
брату, тетке. Вспоминал ее взвинченную,
напряженную, которой она была в первое
время их затянувшегося романа. Память
об этом рождала досаду.
Женя был человеком постоянным, стабильным.
Он не любил случайностей и все же
натыкался на них. После случайных выпивок
и романов обострялась язва и угрызения
совести. У него была стабильная семья,
стабильная работа, которой он не
пренебрегал даже из-за родных, а Аня
была... случайной... и он решился сказать
ей об этом. Тогда с бульвара он пошел
домой с чувством исполненного долга и
все-таки знал, что через день позвонит
ей и спросит: ну как живешь? И будет
звонить потом каждую неделю, как будто
связанный негласным обязательством.
История с Аней была из тех в его жизни,
которые из случайных перерастали в
стабильные, и он смирился с этим, принял
на себя еще одну ношу, которую и нес до
сих пор. Любовь это или нет, Женя не знал.
Но то, что ни он, ни Аня больше ни перед
кем не виноваты этими встречами, знал
точно. От этого оба находились в
благодушном настроении по отношению
друг к другу и ко всем окружающим. Они
радовались, что нашли в себе силы, чтобы
отказаться от обычного романа, и наградой
было то, что они избежали расставания.
Когда чай заварили, разлили и уже
наполовину выпили, в комнату вошел еще
один врач.
— Ну,
как там у тебя Федотов? — спрашивает он
у Жени.
— Нормально.
Мерцает себе потихоньку.
— А пульса-то нету, — врач ехидно и
неприятно щурится.
Женя поднимается, и они быстро выходят,
Аня чувствует себя виноватой в том, что
Женя пропустил, прозевал что-то из-за
нее. Становится не по себе. Вот они
сидели, пили чай, разговаривали, как
дома, а у кого-то в это время исчез пульс.
Разве дома такое бывает, а если и бывает,
то бывает один раз и переворачивает всю
твою жизнь, а здесь это будни,
повседневность.
Их тогда было трое. Два молодых фельдшера,
которые громко переговаривались между
собой, открывали окна и, не таясь,
откровенно разглядывали Аню, оценивали,
одновременно точно и ловко исполняли
все, что приказывал им раздраженный
врач со смуглым усталым лицом. Мелькали
шприцы, названия препаратов, на простыне
расплылось пятно крови, но кровь сейчас
утратила свое роковое, устрашающее
значение и совсем не испугала Аню. Она
напряженно следила за большими, похожими
скорее на руки плотника руками врача,
на левой оглушительно тикали обычные
наручные часы. Аня не могла оторваться
от этих часов с их странным громким
ходом и вдруг поняла, что это очень
хороший врач, он поможет, спасет маму,
и когда та очнулась, неуверепно оглядела
комнату н попыталась что-то сказать,
Аня уже точно знала, что его нельзя
отпускать, без него они все пропадут.
Аритмический коллапс — намертво
запомнила она диагноз, и когда он встал
и спросил, где телефон, Аня бросилась к
нему и почти повисла на руке с засученным
до локтя рукавом халата.
— Доктор, умоляю вас, положите ее к
себе, — она хотела заплакать, но не
получилось, глаза оставались сухими до
жжения. — Возьмите, — настойчиво, почти
приказывая, повторяла она. Фельдшеры
восхищенно крякнули и переглянулись.
Врач отцепил ее руку, раздражен
но
пожал плечами.
—
Куда к себе? — неприязненно спросил он.
— Это вообще не моя специальность. Я
анастезиолог, а здесь, — он кивнул на
парней, — подрабатываю детям на яблоки.
Так где у вас телефон?
Потом он долго, бесконечно долго куда-то
звонил, там не соединяли, и он буквально
орал в трубку:
—
Да-да, алло, Евгений Максимович, да,
Федоров, да что вы, мать вашу, оглохли
там?! — И снова, по другому телефону: —
Да, Федоров, места есть, все, везу. Я взял
наряд в сорок пятую, вы поедете со мной,
— он кивнул Мите, и тот быстро и бестолково
засобирался. Зачем-то схватил из шкафа
джинсы, начал переодеваться.
— Ничего, можно и в брюках, не на
картошку едете, — мрачно заметил врач
и, обходя Аню глазами, попрощался и
направился к двери. Парни подхватили
носилки с мамой и почти бегом рванули
за ним. У двери произошла заминка. Врач
начал крутить замки, которых было много,
еще от старых жильцов остались, да и Аня
в детстве часто теряла ключи, и запутался.
Митя совсем растерялся и чувствовал
себя таким виноватым за брюки, что сразу
не сообразил помочь ему. Аня бросилась
на помощь, но от волнения только все
позакрывала.
—
Черт знает что, — выругался врач и стал
трясти дверь. Апя пыталась сосредоточиться
и снова услышала, как громко тикают на
его руке часы.
—
Ну, время, время, — сказал он ей, и они
снова принялись за замки. Когда все
уехали, Аня сняла простыню и машинально
отправилась в ванную стирать.
Еще Аня вспомнила, как прошлым летом
она застала Женю в саду, он тихо и строго
беседовал с какой-то пергидрольной
блондинкой. Потом кивнул головой Ане.
Блондинка повернулась и пошла по дорожке
к выходу. Аню удивило тогда, что выражение
лица женщины было то же, что и у Жени.
Спокойная строгость была паписана на
нем. Потом Женя сказал, что у этой женщины
умерла после операции мать и он сообщил
ей об этом. Вот бездушная — было первой
мыслью Ани, но потом она поняла, что это
Женина спокойная строгость подсознательно
передалась женщине. И ужас, слезы
наступят, видимо, потом, когда она
останется одна и освободится от того
чувства, которое испытываешь, стоя
рядом с врачом...
...В
дверь ординаторской стучат.
— Открыто, — кричит Аня и спускает
ноги с дивана на пол. Входит нянечка.
— А, нету их никого, — нараспев
тянет она и огорченно разводит
руками.
— Они к
больному пошли, случилось там что-то.
—А у меня белье чистое кончилось.
Больного перестелить нечем, — жалуется
старушка. Ох уж это белье, — ворчит она,
открывая дверь и собираясь уходить, —
пока на него не лягут, только и чистое,
а потом стирай, стирай...
Минут через пятнадцать после ухода
нянечки возвращается Женя.
— Ну как пульс? — замирая, спрашивает
Аня, потому что ей очень не хочется,
чтобы нарушились их благодушие и
покой.
— Нормально,
есть, — не обманывает ее ожиданий Женя,
но ему вдруг очень хочется, чтобы она
ушла. Ему стыдно оттого, что он чуть не
упустил больного. Авторитетом врача
Женя дорожит. «Нельзя, нельзя говорить
ему о расставании, — думает Аня,
вглядываясь в Женино расстроенное лицо.
— Переживает, наверное, что я испугалась,
а я... еще такое. Нет, да и дежурить ему
потом целые сутки, мало ли что. Нельзя
человека так резко из колеи выбивать,
немилосердно это. Не сейчас надо все
это сказать, да и по-другому как-то».
Ане вдруг становится неуютно, хочется
домой к Мите. Что-то в глазах у Жени
такое, от чего не по себе. «Наверное,
чувствует, что я хотела его бросить
сегодня. Бедный Женя, не брошу я тебя,
не брошу», — думает Аня.
V
От
трамвайной остановки до дома десять
минут ходьбы. Аня идет быстро, потому
что подгоняет себя представлениями о
том уюте и тепле, что ждут дома. Она уже
видит, как непременно расплачется
оттого, что опять обидела Митю — была
у Жени, а он будет утешать ее, просить
не плакать. Она ухватится в себе за то
хорошее чувство, которое всегда
появляется, когда она смотрит на
Митю.
Дальнейший
диалог тоже выходит легко и как бы сам
собой, и Ане приятно, что она все знает
о Мите наперед. «Ужинать пошли?» —
ласково подтолкнет он ее к кухне. —
«Пошли. А я стирать завтра буду, ты мне
машину вытащи, ладно?» — «Ладно».
А потом Аня будет есть котлеты с
рассыпчатой вареной картошкой и думать,
что она не пойдет завтра развешивать
на улицу белье.
«Белые
паруса», — поднимаясь по лестнице,
передразнивает она себя. Как там пянька
сказала, эх, простыни, только пока на
них не ложатся, чистые. И вдруг она
понимает, чувствует свою дальнейшую
жизнь. Митя, обеды, стирка, штопка,
полуночные разговоры, мечты о ребенке.
Женя со своей жизнью, в своей семье, с
тени же заботами и обязанностями. И
называй простыни белыми парусами или
простынями, умничай или ходи в платке
и резиновых сапогах по огородам, жизнь
все равно идет только вперед, и этот
маскарад для нее — так, игрушки, не
проблемы. И Ане становится хорошо от
этих мыслей, уютно между Митей и Женей,
между стирками, готовками, и хочется
жить дальше, может быть, даже ничего не
меняя.
* * *
Пока Аня ест, Митя смотрит на ее аккуратный пробор в каштановых волосах. И вдруг понимает, что уйдет от нее в этот вечер, в который все так же, как всегда. Мысль об этом вызывает в нем ощущение другой счастливой жизни впереди. И он улыбается.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
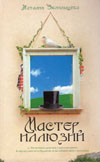
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





