ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
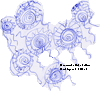


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Чуковская Лидия 1981
1
На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:
«Асеев и Тренев отказали в прописке».
— Нет, такую телеграмму посылать нельзя, — сказала я. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь — высшая инстанция: Тренев и Асеев! Да и подумаешь, столица — Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.
— А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.
— Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка... К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Треневу меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?
— Как! — моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. — Вам разве неизвестно, кто она?
— Известно: Цветаева — поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. Ну и что?
— Тссс! — снова встревожилась моя собеседница. — Не говорите так громко. Мы не одни.
Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почти полным-полно.
Место действия — Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия: конец августа 41-го года. Конец второго месяца войны.
Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же — к окну «до востребования».
Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма.
С Флорой Моисеевнйо Лейтес я еле знакома. В Чистополь Московский Литфонд эвакуировал писательский детский дом, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем, в Гавриловом-Яме. Я же попала в Чистополь, а не под Ярославль потому, что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мною овладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград, но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград — на буфере, на крыше вагона! — нечего было и думать. (Тем более что дорога «Москва — Ленинград» уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю — все нас троих под присмотром няни Иды — отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.
Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) — тоже. «Последние известия», объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.
Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой стоять в очередях за вестями — за письмами. В очереди все больше женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? и живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители — и куда? и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья — ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?.. В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плетусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек — чет или нечет? будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?
Сегодня мой последний шаг был четный. Значит — будет.
Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой и в самую неподходящую минуту: от меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.
— Так что же, по-вашему, делать? — теребит меня Лейтес. — Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует, а делать-то что?
— Настаивать! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?
Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.
Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городка название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.
Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.
— А с Ляшко вы можете поговорить?
— С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.
Однако фамилия Ляшко — быть может, по совпадению окончаний? — напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.
— Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.
Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.
Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:
«Правда», 18 августа, понедельник.
От Советского информбюро. Вечернее сообщение.
В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны.
19 августа, вторник.
После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.
21 августа.
Ко всем трудящимся города Ленина.
Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.
… Смерть кровавым немецким фашистским разбойника! Победа будет за нами!»
Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?
«26 августа. Вечернее сообщение.
В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».
Оставили, оставили, оставили...
… чтó народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!
Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева — он сам с Украйны, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.
Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж, конечно, никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.
Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю, где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?
Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели — оставят? Оставят Киев?.. Я очень этот город любила, жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город: там отец, и мать, и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, как все мы, — почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому — тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил... Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец — редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! — повторил он несколько раз на прощанье. — Сейчас самое главное — каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к самой жизни... Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.
(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар «борьбы с комсмополитизмом», в 49-м году, и, после жестоких изтязаний, расстрелян в 52-м. Думаю, он расстался с верой, что «все кончится хорошо», лишь в минуту расставания с жизнью.)
Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче, увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой, он прямо от меня отправился к Асееву.
На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно — по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полузнакомых, четвертьзнакомых — недавних спутников по общему плаванию.
В этот день — думаю, было это 26 августа — и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.
2
Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин — а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и, главное, главное — какие новости с фронта? Что означает: «враг проник к Ленинграду»? Немцы в Царском? В Стрельне?
Немцы уже ходят по Невскому? Черная радиотарелка вещала на той же площади горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уж, наверняка слышал последние известия.
Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул.
Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто и в руках какой-то странный мешочек.
— Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.
Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.
— Как я рада, что вы здесь, — сказала она, протягивая мне руку. — Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь, и будем дружить.
Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту.
Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: «Будем дружить!» Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, уславливаться: вот сядем за одну парту и будем дружить? А самое странное — я бы даже сказала, смешное! — это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще «много рассказывать», если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкое», под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, — и тем не менее настоящая красавица. Глубокие темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер!» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный — о здешних врачах, о погоде, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о «художественном чтении» — о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли. Я, с детства наслушавшася, как читают поэты, высказала нечно нелестное об актерском исполнении стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова — и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху, — говорила я, — они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, — вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова — и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется... К тому же, — добавила я, — все это «художественное чтение» развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта — плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания — и восприятие должно быть результатом сосредоточенности». Моя vis-a-vis смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне, в ответ на мои расспросы, объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.
Помню, я тогда пришла в отчаянье от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.
И вот теперь от Цветаевой: «Я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна». Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет «художественное чтение» и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?
Писем не было. Зато из разговора в очереди на почте я узнала, что «после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск». Кто-то где-то слышал по радио.
На следующее утро, когда я, со стаканчиком меда в руке, возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка — совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) — и, подбежав, оглушила вопросом:
— Вы — член Совета эвакуированных? Совета Литфонда?
— Да нет же! Я вообще никто. Даже не член групкома. Я отправлена сюда потому, что я «член семьи писателя Чуковского».
— Господи, как не везет... Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.
Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенность, но, кажется мне, помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты, и даже нас, беспартийных, пускали читать.
Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя было уронить ни капли.
По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: «Она ведь эвакуированная, а не ссыльная, и не лишена права передвигаться», — не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздразнит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть бы им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немногое: сборник «Версты»). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу Богу:
… Чем прогневили тебя эти серые хаты, —
Господи! — и для чего стóльким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой! —
неужели поэт, прорыдавший эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же — Ахматова:
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.
(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а стряслась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: «Нет, умереть!» Шепот: «До первой битвы умертвить меня».)
… Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладиной, в коридор выходят двери — и на одной дощечка: «Парткабинет». Оттуда — смутный гул голосов. Дверь закрыта.
Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая — Марина Ивановна.
— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!
Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.
Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.
— Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.
Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское. («А кто его, впрочем, знает, — подумала я, — где оно сейчас, это московское начальство?») Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся. Она меня не слушала — она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.
— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.
Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.
— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторяла она. — А в Елабуге я боюсь.
В эту минуту дверь парткабинета отворилась, и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен.
Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться: нет ли писем от Вани.
Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама — детская писательница, критик, — а сама судьба.
Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости, и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.
— Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. — Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо за. («Вот и разговор с Квитко», — подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство — за, и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете — сообщите Тверяковой адрес — и все.
Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова — там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:
— Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь — удастся.
Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.
Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей Бог!
Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок — его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.
— Ну вот видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спустились на площадь. — Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.
И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.
— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.
— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.
— Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить.
Я стала ей говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают всё, что могут, а если она получит место судомойки, — то и она и сын будут сыты.
— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна, — я, пожалуй, пойду поищу.
— Желаю вам успеха, — сказал я, освобождая свою руку из-под ее руки.
— Нет, нет! — закричала Марина Ивановна. — Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.
Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед — он детям обещан, и они ждут его.
— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. — Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бултерову.
Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а другой руке держала стаканчик.
— Я знаю вас всего пять минут, — сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, — но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою... Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня. — Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стóит? Разве вы не понимаете будущего?
— Стóит — не стóит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стóит, и уж во всяком случае все равно — как и где. Но у меня дочка.
— Да разве вы не понимаете, что все кончено! И для вас, и для вашей дочери, и вообще.
Мы свернули в мою улицу.
— Что — всё? — спросила я.
— Вообще — всё! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!
— Немцы?
— Да, и немцы.
— Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россия, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье.
Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, — немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал — весь, от носа до кормы — весь вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа «Прощай, оружие!»: «Сиди и жди, когда тебя убьют...» Сидела и ждала. «Насколько легче бойцам в окопах, — думала я тогда. — У них в руках винтовки, а не детские руки». Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского «Гусара». Собственно, читала я для Люши — это ведь совсем не для четырехлетних! — но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, — и те в промежутках между разрывами смеялись (не над «Гусаром» — над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего «Гусара» наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему впору. В Чистополе хозяйские мальчишки (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него, как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читает им:
Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнýл ухват, за ним лохань.
И оба в печь. Я вижу: худо!
Гляжу: под лавкой дремлет кот,
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.
Я ну кропить во все углы
Сплеча, во что уж ни попало:
И всё: горшки, скамьи', столы.
Марш! марш! — всё в печку поскакало...
— «Понюхал: кисло! что за дрянь!» — это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, — сказала я Марине Ивановне.
Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: «Нет, я лучше покурю на завалинке», — и села у наших ворот курить.
Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсе не хотела есть: проклятая базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцебиениями. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.
— Нет, нет, — сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. — А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?
Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру. Слава богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге «Through the looking Glass» — эту книгу (продолжение «Алисы в стране чудес» Carroll'a сунул мне на прощанье в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех — меня подстегивало нетерпение Цветаевой.
Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с нею разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный склубившийся дым — клубки, пушистые, мягкие, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.
Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)
— Дети, дети, жить для детей, — заговорила Марина Ивановна. — Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось — предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть... Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду — это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.
(«Разучилась писать стихи, — подумала я, — это, наверное, ей только кажется. Но все равно — дело плохо. Так было с Блоком... незадолго до смерти».)
3
Мы шли по набережной Камы. Набережная — это просто болото, с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь — я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны — в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда — там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?
(Откуда мне было знать: и двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу: «Вот здесь я шла с Мариной Ивановной». И умолкну, вспомнив продолжение.)
— Одному я рада, — сказала я, приостанавливаясь, — Ахматова сейчас в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.
— По-че-му? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.
— Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.
Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.
— А вы думаете, я — могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?
Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух — весьма некстати! — постоянную свою тревогу. Я и сама не могла бы — не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда), не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, — вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.
Полминуты простояли мы молча, — Марина Ивановна тяжело дышала после крика — потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! а я, своей мыслью не о ней, причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.
— Вот и Бутлерова, — сказала я.
— Какая ужасная улица, — сразу отозвалась Марина Ивановна. — Я не могу тут жить. Страшная улица.
— Хорошо, поищем другу. Но сейчас зайдем на минуту к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг — посоветуют, где искать.
Ручалась я за Шнейдеров — Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузова — с полной ответственностью, хотя знала их мало, или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал — и вскоре умер — мой молодой друг, поэт и критик, Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжко больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем — Паустовского). И Михаил Яковлевич, и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же — энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она — вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды — она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан — ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока — выходивших и валом валивших навстречу — крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таким пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань... Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, — она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела возвратиться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня и Люшу. А ведь суда — как эшелоны — двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.
И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы. Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.
Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. «Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой», — сказал она и точно пароль прочитала строку: «У меня в Москве купола горят»... Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:
— Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в 16-м году провидеть близкую смерть Блока?
Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек! —
Плачьте о мертвом ангеле! —
Откуда взялось у вас такое предчувствие?
— Из его стихов, конечно, — ответила Марина Ивановна. — Там все написано.
Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добиваясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и, вместо сахара, — леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим, — говорила она. — Там грязно и тесно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату — поближе к нам, — у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила... Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите... А найдем комнату — пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном».
Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.
— Вы встретили меня с таким благородным радушием, — сазала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, — что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.
«Начало неудачное, — подумала я. — Они — как и я — отлично знают, что Цветаева — зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно».
Новыми для меня в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана; отчетливая резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее расскажу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. Там понимала, каково здесь.
— Сергей Яковлевич принес однажды домой газету — просоветскую, разумеется, — где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают; посреди каждого стола — горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках — чтó? А в головах — чтó?
Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а, скорее, у нас, и эти настойчивые « чтó», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок пробки. — А в будущем — чтó?
Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу скороговоркой и умолкла. И когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.
— Прочитайте стихи к Блоку, — попросила Татьяна Алексеевна.
— Старье. Не хочу. Я вам прочитаю «Тоску по родине».
Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь.
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне всё равно, каких среди
Лиц — ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!
Тут она замолчала. Это «Мне безразлично — на каком» произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила.
— Не хочу. Простите меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например, «Поэму Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?
Нет, мы не знали. Что поэмы! В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали «Стола». Не знали «Куста». Не знали «Попытки ревности». Не знали — совсем не знали! — ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий, доходило только до редких избранных, а в самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятых годов.
И только тогда, в пятидесятые, услышала я конец «Тоски по родине» и поняла, почему в отчаянье, в Чистополе, она не пожелала прочитать нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отречений, после всех не, содержится в последнем четверостишии как бы некое да, утверждение, признание в любви.
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина... —
если встает на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине, — та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила «разоблаченной морокой».
Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность — и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне без-раз-лич-но — на каком
Непонимаемой быть встречным!
Вспомнила! Маяковский. Когда-то, в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу «Облако в штанах». И так же щетинился пленным зверем — диким, не усмиренным, среди ручных.
Она обещала почитать еще — не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: «Ищу комнату, скоро приеду». Потом я зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в восемь часов вечера снова приду я — и тогда Марина Ивановна прочтет нам «Поэму Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу «Иней», «Сосны», «Опять весна». Я тогда же переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собою.)
На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди «до востребования» простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству — и мне — ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание — оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.
4
Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие — великое благо. Когда я выбралась, наконец, из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелоном — иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! — но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград — обстреливаемый, взрываемый — вымерзал, вымирал превращался в город-морг.
… Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти [Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 41-го года.].
Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы? На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца — и не какие-нибудь, а вышитые, — но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяева дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой прямо с огорода но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.
Стыдись: ведь это не кровь, а всего только грязь! Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте.
Возвращаясь домой, я на набережной увидала старуху. Она стояла крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами — глаза обезумевшие от ожидания. Похожи на те — в тюремных очередях.
Дома — благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку — хозяйкин подарок. Мы уселись с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издали увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семынина.
— Он двухголовый! Мама, смотри! — у него две головы!
По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.
— Знаете, на кого вы похожи? — сказала я. — Небритый, загорелый дочерна, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами? Вы, когда несете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгу-цыгана, укравшего господского мальчик. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой — не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.
Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.
Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.
— Что, сводка опять плохая? — спросила я.
Он кивнул.
— Такая, как вчера?
— Хуже.
Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных — он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну — она была приглашена заранее — и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь. Семынин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским.
— Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! — повторял он мне. — Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге есть только спиртоводочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки...» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие настроения»... Да ведь она не покладая рук переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь — тоже; и опять — время военное, бдительность надо удвоить, все они наедавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства... Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем — военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город... Очень толково возражали Треневу Абрам Борисович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов... Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали за.
Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку — молча, но неколебимо.
Отдал наконец.
Мы с Люшей проводили обоих до угла.
— Хорошо, что вы были там, — сказала я Петру Андреевичу на прощание. — Помогли управиться с Треневым.
— Все равно тошнит, — ответил Семынин.
Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов я несла Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в восемь, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К восьми часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. «Не заблудилась ли на обратном пути?» — спросила я. «Нет, она сказала, ее проводят».
Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу невмоготу: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегаю в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? И извещу Шнейдеров.
Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:
— А я к вам.
Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.
«Что ж, это разумно, — писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. — Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна».
… Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа. А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны, Мур, явился к Асееву с письмом и сказал:
— Мама повесилась.
5
Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41-го года.
Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла — он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то — не знаю чем — похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».
Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.
Начну с напечатанного.
Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве YMCA-Press: «М. Цветаева. Неизданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629-631.
«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве.
О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк...»
Тут остановимся. Повторим: «... я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк...»
Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое — год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября — муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь — в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа — на казнь.
Читаем дальше:
«Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмерто), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь».
Прочитав эти слова «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:
— А вы думаете, я — могу?
Какая она была мужественная и как много она могла — не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, все ее мученическая, мужественная жизнь.
Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец — конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».
После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца — война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь...
«Почему вы думаете, что жить еще стóит? Разве вы не понимаете будущего?»
Нет будущего. Нет России.
«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась...» «Какая страшная улица...» «Я ничего не могу...» «Мыть посуда я еще могу».
… Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги — даже не листок — половинка листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:
В Совет Литфонда
Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.
М. Цветаева
26-го августа 1941 г.
Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.
Октябрь — декабрь 1981 г.
Переделкино
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





